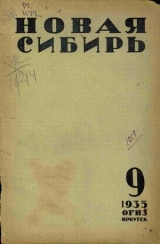
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Возле деревянного барака с заплеванным, грязным крыльцом и захватанными ободранными дверьми Емельянов приостановился. Это место было ему хорошо знакомо, и он знал, что в бараке он встретит знакомого сторожа. Но на всякий случай он вошел не сразу. И только когда убедился, что поблизости нет никого подозрительного, смело вошел в барак.
Лохматый, выпачканный в саже и угле старик, возившийся возле печки, оглянулся на вошедшего и радушно протянул:
– Михайлыч, ты? Ну, заходи!
– Я, Федот Николаич. Здорово! Ребята еще не приходили?
– Придут. Того и гляди нагрянут. Садись к теплу, рассказывай.
Емельянов присел на скамейку возле печки и протянул руки к огню.
– Зазяб? – осведомился сторож. – Скажи на милость, похолодало. Все держалось тепло, снегу не было, а с третьегодни ударило морозом. Прогреть помещенье не могу. Топлю, топлю...
Пошуровав в печке, сторож что-то вспомнил.
– Вот еще, совсем было забыл. Жандарм тут как-то приходил...
– Жандарм? – встрепенулся Емельянов. – Зачем?
– В том-то и штука,, что без никакого делу. Вроде обогреться. Ну, калякал. То, се. Я, грит, теперь человек вольный и работы у меня, вроде, никакой, потому, свобода. Народу, грит, свобода царем дадена и начальству оттого облегчение большое вышло...
– Сволочь он, видать, большая жандарм этот!
– Шкура известная! – согласился старик. – Пел он, пел, а мне его песни знакомы.
– Ни о ком не расспрашивал?
– Нет. Все больше с подходцем. Бросать, грит, службу хочу. А я ему: почему же, если облегчение. А он: беспокойство!.. Подыгрывался ко мне и щупал. А я щупанный! Меня не прощупаешь!.. – сторож рассмеялся. Рассмеялся и Емельянов.
– Щупанный ты, значит?
– Со всех сторон!..
Разговор прекратился, потому что пришли те, кого дожидался Емельянов.
Вошло сразу трое. Самый младший весело тряхнул руку Емельянова. Остальные поздоровались с ним более сдержанно.
– Как дела? – спросил младший.
– Дела неплохи. В городе профессиональные союзы организуются, работенка кипит. Даже половые из ресторанов и трактиров союз официантов устроили.
– Видал ты! – удивились пришедшие. – Всех, значит, пробрало!
– До всех дошло! – тряхнул головой сторож. – Намедни лавочник Ковалев меня в какой-то тоже союз звал. Вступай, грит, Федот Николаич, за правое дело стоять будешь!
Все рассмеялись. Емельянов подмигнул сторожу:
– Вступил?
– Как же! Стану я со всякой сволочью компанию водить!.. Ковалев, хоть он и прибедняется, а форменный мироед...
– Ну, ладно, – озабоченно перебил один из пришедших, – чорт с ним, с лавочником! Давай, товарищ Емельянов, выкладывай, что надо.
Сторож наспех пошуровал в печке и пошел к дверям.
– Я тут на крылечке, если кто навернется...
– Дело! – одобрил Емельянов.
Когда за стариком закрылась дверь, Емельянов вытащил из кармана пачку бумаг и, усевшись за стол вместе со слесарями, стал объяснять им положение дел.
Говорил Емельянов не красно. Он часто останавливался и подыскивал подходящие слова, часто заглядывал в бумажку, сверяясь там с написанным, заранее заготовленным конспектом. Слесаря слушали его сосредоточенно молча. Наконец, один не выдержал.
– Погоди-ка, – мягко, но решительно остановил он Емельянова. – Ты вали попроще, по-рабочему. Так-то у тебя выходит, вроде по-немецки. А ты по самому простому, вот и станет у нас с тобой хорошо!
Емельянов слегка растерялся, но быстро оправился. Весело тряхнув головой, он согласился:
– Правильно! Не могу я, товарищи, с чужих слов! Давайте я по-своему!..
По-своему у Емельянова дело пошло лучше. Он рассказал о некоторых решениях организации, о тактике, которой следует придерживаться в эти дни, когда у некоторых закружилась голова от «свобод». Он роздал слесарям, которые были связаны с крепкой группой деповских рабочих, пачечку листовок и передал наказ партийного комитета, не поддаваться на удочку «свободы» слова и собраний и не вылезать особенно на глаза начальства и хитро присмиревших жандармов.
– На-днях, – сказал он в заключение, – мы соберемся и вам сделает подробный доклад Старик.
При упоминании этого имени все трое оживились. Молодой просветлел и нетерпеливо спросил:
– А скоро?
– Говорю, на днях, – успокоил его Емельянов. – Он дня на два уехал недалеко по линии, вернется и обязательно придет сюда.
Дело, с которым приходил сюда Емельянов, было сделано. Надо было расходиться. Позвали сторожа, который спокойно объявил, что все кругом благополучно и спокойно. Потом ушли слесаря, а немного погодя Емельянов. Прощаясь со стариком, он пошутил:
– Значит, не хочется тебе с лавочником в союз вступать?
– А почему же? – лукаво сверкнул глазами сторож. – Если шибко попросит, так и вступлю!..
– Валяй! – засмеялся Емельянов и вышел.
8
Партийная кличка «Старик» вовсе не соответствовала годам Сергея Ивановича. Было ему не больше сорока-сорока пяти лет и ничего старческого ни в его лице, ни во всем его облике не было. И если родилась эта кличка и прочно прилипла к нему, то только разве потому, что был он положителен и обдуманно строг в своих поступках и отличался ясностью и мудростью своих речей и решений. Старика в организации очень ценили, к его словам прислушивались. Молодежь относилась к нему с каким-то подчеркнутым уважением. И в этом уважении была значительная доля страха. Боялись укоризненного взгляда Старика, его неодобрения, его скупой, но чувствительной насмешки. Кроме личных качеств Старика, обеспечивавших ему товарищеское уважение со стороны всех, с кем ему приходилось иметь дело в организации, он еще славился, как большой знаток Маркса.
– Он «Капитал» назубок знает, – говорили про него. – Его никакой цитатой из Маркса не собьешь!
Своими большими знаниями Старик хорошо и удачно пользовался в столкновениях с противниками. На массовках, где сталкивались в бесконечных и ожесточенных спорах народники и марксисты, Старик всегда выходил победителем. И он умел лучше других составить крепкую и волнующую и всегда насыщенную разительными фактами и обоснованную прокламацию.
Партийные обязанности бросали Старика из одного конца страны в другой. В этой суровой и глухой стране, оторванной от центров, он прижился дольше всего. Его умение хорошо конспирировать, разумная осторожность и какое-то особое чутье, не раз предостерегавшее его от неминуемой опасности, давали ему возможность прочно засиживаться здесь и не попадаться жандармам.
Он был одинок, и никто из самых даже близких партийных товарищей не знал ничего о его личной жизни, о том, как и чем живет он вне партийной работы, помимо революции. Другие переживали что-нибудь свое, личное, что порою никак не отражалось на их революционной работе, а иногда и мешало ей. У других были привязанности, огорчения и радости, близкие люди, возлюбленные, семья. У Старика ничего этого не было. Жил он бобылем и о том, как жил, никому не говорил и ни пред кем никогда даже мимолетно, даже случайно не раскрывал малейшего уголка своего сердца.
Когда кто-нибудь из товарищей затруднялся выполнить партийное поручение, ссылаясь на личную причину, то как бы велика и уважительна эта причина ни была, Старик хмурился и сурово выговаривал виновнику:
– Что ж вы, товарищ, думаете, что революцию можно совершить за чайным столом в кругу чад и домочадцев?..
Находились такие, кто, обсуждая поведение Старика, за его спиной толковали:
– Это же аскетизм, то, что он требует от нас! Мы не монахи и не автоматы! Мы – живые люди!..
– Революцию могут делать только настоящие живые люди! А он иной раз ставит вопрос слишком прямолинейно!..
Иные делали предположение:
– Старик, наверное, сам не способен ни на какие увлечения, засушил в себе всякие чувства, кроме служения революции... Вот оттого-то он так требователен к другим...
Но и тех и других негодующе и возмущенно останавливали товарищи, близко знавшие Старика.
– Старик прошел суровую школу! Он здорово хлебнул горя на своем веку! Нам всем надо равняться по нему...
Елена встретилась со Стариком незадолго до того, как ее поставили на работу в типографии. От Старика зависело окончательное решение, послать девушку сюда пли не посылать. Старик взглянул на Елену поверх очков и просто сказал:
– Работа тяжелая и ответственная... Выдержите?
– Мне кажется, выдержу, – так же просто ответила Елена.
– Хорошо все обдумали и взвесили? – еще раз спросил Старик.
У Елены обидчиво вздрогнули губы. Старик это заметил и слабо усмехнулся:
– Не обижайтесь. Нет ничего обидного в том, что я допрашиваю вас с пристрастием. Я нисколько не сомневаюсь в вашем искреннем желании работать в этой области, но вы молоды и вас может испугать одиночество, отрешенность от людей... Ведь вы будете совершенно отрезаны от всех товарищей, за исключением одного-двух...
– Я знаю это, Сергей Иванович...
– Значит все в порядке? – кивнул головой Старик и потрогал очки.
Елена тихо, с затаенной обидой ответила:
– Конечно.
Тогда лицо Старика снова на мгновенье осветилось улыбкой, и он произнес два слова:
– Ладно, девушка!
И было в звуке его голоса что-то такое необычное и неприсущее Старику, что Елена широко посмотрела на него и почувствовала, как неожиданная теплая нежность согрела ее, нежность к этому придирчивому, суровому человеку.
Об этих двух незначительных словах она вспоминала часто. Она попыталась понять и разгадать, отчего же ее так взволновал голос Старика, и не могла. И когда, сработавшись с Матвеем, она рассказала ему о своем разговоре со Стариком, о том, как ее сначала обидел его допрос, а потом согрели эти слова, Матвей задумчиво сказал:
– У Старика, видать, неизрасходованный запас нежности... Он умеет ценить человека. Но у него какое-то целомудрие в отношениях с людьми и больше всего боится он сантиментальности... Таких у нас, Елена, немало!..
9
Павел, не дождавшись полного выздоровления, с перевязанной рукою ушел из дому. Он огрызнулся на Галю, которая попыталась его задержать, и направился по своим делам.
Улицы, на которых он не бывал со дня погрома, показались ему празднично оживленными. Вышагивая по заснеженным тротуарам, он поглядывал на прохожих и беспричинно улыбался. Люди казались ему близкими и родными. Он ловил их улыбки, и ему хотелось заговаривать с незнакомыми, обмениваться с ними дружеской шуткой, весело и просто приветствовать их. Он остро и горячо чувствовал свою молодость и накопившийся в нем запас энергии. Ему нужно было двигаться, действовать, что-то делать. И он понимал, что сегодняшний день даст ему возможность действовать, работать, творить.
Он понимал, что предстоит тяжелая и упорная борьба, что нет еще полной победы и что завтра может потребовать больших и тяжких жертв. Он готов был, как ему казалось, на эти жертвы. Ведь недаром он вошел в революцию и целиком, доотказа отдал себя ей. Опасности? Гибель? – Ну, что ж, он готов к этому! Он готов, потому что в действии, в борьбе – жизнь!..
Улицы казались Павлу помолодевшими и нарядными. Помолодевшим и бодрым, несмотря на повязанную руку, почувствовал себя Павел. И эту свою бодрость и жажду деятельности и движения принес он к товарищам.
Его встретили приветливо. Осведомились о том, как заживают раны, спросили, не рано ли он вышел, не надо было ли ему еще подлечиться. Посмеялись незлобиво и дружески над чем-то. Потом замолчали. Молчание это слегка изумило Павла.
– Ну, что нового? Как дела? – спросил он, торопясь узнать как можно больше о том, что происходило во время его отсутствия.
Но ответы были уклончивы и односложны. Павла охватила тревога. В чем дело? Что с ними приключилось? Он собирался вспылить, рассердиться, но пришла Варвара Прокопьевна. Увидев его, она кивнула головой, словно только его и хотела встретить, и незаметно для Павла в комнате остались они двое.
Серые глаза пристально уставились на Павла. Он почувствовал себя неловко.
– Давайте, товарищ Павел, поговорим, – негромко и с каким-то упорством сказала Варвара Прокопьевна. – Надо кое-что выяснить...
– Выяснить? – вспыхнул Павел. – Что, Варвара Прокопьевна?
– Ваши настроения... Только будем совершенно искренни и откровенны...
– В чем дело? – растерялся Павел. – В чем дело?
– Ваши настроения, Павел, – повторила Варвара Прокопьевна, – а отсюда – ваши действия... Вы считаете себя настоящим революционным марксистом? – неожиданно спросила она.
Павел нетерпеливо вздернул голову вверх. Вопрос показался ему странным и ненужным.
– Конечно! – уверенно ответил он.
– А как согласовать этот ваш марксизм с вашими поступками?
– С какими поступками?
– Не горячитесь, Павел, – остановила его женщина, заметя, что он начинает нервничать, – постарайтесь выслушать меня спокойно... Мы давно уже замечаем некоторую непоследовательность с вашей стороны. Вспомните одну массовку, это было еще месяца два назад... Тогда вы выступали прямо по-эсеровски! И когда товарищи заметили вам это, вы не признали своей ошибки. Потом с дружинами у вас опять вышло что-то. Почему вы очутились в какой-то смешанной и неопределенной по составу? Почему вы действовали не по плану и согласились строить баррикаду там, где, может быть, и не следовало?.. Вы же знали, что организация выработала точный план, и ему должны были подчиниться все члены! В вас, Павел, есть что-то анархистское. Нехватает в вас дисциплины... Для вас революция вроде искусства, где главную роль играют личные способности... А это совсем не по-нашему. Нам не нужны герои, которые все время чувствуют свой героизм и любуются своими поступками...
– Варвара Прокопьевна!.. – вспыхнул Павел.
– Постойте, Павел. Я говорю о типе. Но у вас отдельные черты такого типа уже появляются. Вы кидаетесь из стороны в сторону. Достаточно ли вы подготовлены теоретически? Что, например, вы читали за последнее время?
В серых глазах мелькнули настойчивые огоньки.
– Вы меня экзаменуете как гимназистика!.. – пробормотал Павел.
– Я спрашиваю вас как старший товарищ, – спокойно отрезала Варвара Прокопьевна.
– Мне некогда было много читать. Разве такое время, чтобы сидеть за книгой! Я был занят... Мне давали поручения...
– Вам давали наш заграничный центральный орган. Внимательно ли вы читали его? Усваиваете ли вы основные моменты разногласий наших с меньшевиками?
– С меньшевиками я резался на массовках несколько раз!
– Да, я знаю. Но резались, как вы выражаетесь, очень своеобразно. Вы что-то очень путанно говорили о роли крестьянства, о земельном вопросе. У вас выходило, что аграрный вопрос можно решать только по-эсеровски... Хорошо, что другие товарищи во-время сумели исправить ваши ошибки... Вам, Павел, нельзя выступать от имени организации. И мы предлагаем вам воздерживаться от этого. Вообще лучше всего будет, если вы станете аккуратно исполнять поручения, которые даст вам организация, и займетесь собою, хорошенько почитайте. Вам подберут литературу, помогут...
Павел слушал молча. Уши у него горели. Ему было стыдно. И глухое недовольство против этой женщины, против товарищей, которые считают его каким-то недоучкой, которые обращаются с ним, как с провинившимся первоклассником, поднималось в нем и заливало его обжигающей волной.
Варвара Прокопьевна сбоку посмотрела на него и слабо улыбнулась.
– Вы не должны, Павел, сердиться на меня и на организацию. Поймите, что речь идет о большом деле... И о вас тоже. Из вас может и должен выйти настоящий революционер, а вы тянете в сторону беспочвенной и очень опасной романтики... Подумайте, Павел, и давайте останемся друзьями...
– Друзьями... – угрюмо пробормотал Павел и отвернулся.
– Мы подумаем, Павел, может быть, для вас лучше будет, если вы перейдете на работу в технику. Там вы сможете и собой заняться... Ну, вот все!
Возвращаясь домой, Павел уже не чувствовал себя молодым и бодрым. Обида уколола его и томила. И улицы кругом были чужие и враждебные.
10
Семинарист Самсонов был страшно занят. По всем учебным заведениям шла горячая работа: вырабатывали резкие требования начальству. Гимназисты составили резолюцию, в которой было пятьдесят пунктов. В женской гимназии эти пункты были целиком приняты. А семинаристы потребовали, чтобы для них резолюция была составлена совсем по-иному. Самсонов корпел над составлением семинарской резолюции и все время носился по разным комитетам и комиссиям.
Ректор семинарии архимандрит Евфимий, обеспокоенный кощунственными действиями вверенных ему будущих пастырей, пытался вызывать к себе на душеспасительные беседы особенно упорствующих и шумливых семинаристов. Самсонова он оторвал от его горячего занятия и принял с суровой ласковостью всепонимающего отца.
– Сын мой, – сказал он почтительно стоявшему пред ним юноше, – все мы в заблуждениях и в суете пребываем, а господь бог наш – он только один знает, насколь души наши этим омрачаются... О чем вы шумите и безобразничаете?
Самсонов встрепенулся и хотел изложить пространно и основательно ректору сущность требований семинаристов, но архимандрит вдруг сбился с тона и, сурово сдвинув брови, прикрикнул:
– Молчи, негодный! Как ты смеешь начальнику своему и попечителю дерзить?! Распустились! Страх божий забыли, уважением к старшим и почитанием начальства пренебрегли!.. Я вас! Я вас, бунтовщиков!..
– Ваше преподобие! – перебил Самсонов ректора, побагровев от собственной смелости. – Вы не кричите, ваше преподобие! Нынче не то, что было... да и я не маленький! У нас требования выработаны...
Архимандрит привстал с кресла, замахнулся на Самсонова посохом и, путаясь в длинной мантии, пошел, разгневанный и безмолвный от негодования, прямо на семинариста. Самсонов отскочил в сторону. Келейник подхватил ректора под руки и осторожно подвел к ближайшему дивану.
– Прочь!.. прочь! – изнемогая, прохрипел ректор. И когда Самсонов, быстро побежавший к выходу, был уже возле двери, архимандрит с вернувшейся к нему силой крикнул:
– В карцер! На хлеб и на воду!.. Шесть дней!..
По семинарии быстро разнеслись слухи о бурной сцене, происшедшей между ректором и Самсоновым. К Самсонову подходили товарищи и жадно расспрашивали его о подробностях. Занятия и так шли беспорядочно, но в этот день они совсем нарушились. Семинаристы бродили по общежитиям, шумно разговаривали и посмеивались над ректором, который еще смеет грозить старшеклассникам карцером в такое время!
А через полчаса после беседы в ректорском кабинете к Самсонову пришел сторож Анисим и деловито заявил:
– Ну-кася, господин семинарист, пожалуйте в карцер.
– Куда? – насмешливо переспросил Самсонов.
– Известно, в карцер, – охотно пояснил сторож, оглядываясь на подошедших семинаристов. – Высшее начальство приказало, и разговаривать нечего!
Семинаристы расхохотались. Самсонов положил руку на плечо Анисима и дружелюбно посоветовал:
– Ступал бы ты, Анисим, на кухню, там повар рыбную селяночку отменную для себя готовит. Не угостил бы он тебя!
– Ступай, ступай, Анисим! – подхватили семинаристы.
Сторож усмехнулся и равнодушно согласился:
– Не мое, конечно, дело. А только приказано. И кабы тут вас не экае войско, сгреб бы я господина семинариста и сидел бы он в темной!
Проводив сторожа шутками и смехом, семинаристы опомнились и стали обсуждать эту историю.
– Товарищи! – вырвался веселый возглас. – А ведь этого дела так оставлять не следует!
– А ты думаешь, отец ректор оставит его?
– Дело не в отце ректоре, ребята! Это что же такое? Грозить карцером? Заводить старые порядки?! Не-ет, шалишь!..
– Надо протестовать? Где наша резолюция? Предъявить!
– Протестовать!..
– Самсонов, где твой проект, гони его сюда!
– Товарищи! – воодушевился Самсонов. – Мы сейчас засядем за окончательную отделку требований, а вечером устроим собрание!
Семинаристы согласились. Но привести план в исполнение им не удалось. Вернулся Анисим в сопровождении уборщика и дворника. Сзади них выглядывал смущенно и виновато помощник инспектора. Мужики направились прямо к Самсонову, а помощник инспектора, набравшись храбрости, тонким голосом закричал:
– Самсонов! Ступайте в карцер!.. Берите его! Нечего!
Самсонов попятился от наступавших на него мужиков. Семинаристы с веселым любопытством следили за происходившим.
– Ступайте, ступайте! – приказывал помощник инспектора Самсонову и одновременно подбадривал мужиков. – Хватайте его, если добром не хочет!
– Порфирий Васильич! – угрюмо крикнул Самсонов, заметив, что дело принимает скверный оборот. – Перестаньте! Я в карцер не пойду!
– Силой возьмем! – взвизгнул Порфирий Васильич. – Свяжем да уведем!..
В толпе семинаристов, которая все увеличивалась и заполняла весь коридор, прокатился гул. Внезапно толпа эта стала буйной. Раздались крики, кто-то ухарски свистнул, и тонкий свист резко взвился под круглые своды полутемного коридора.
– Долой!.. Убирайтесь прочь!.. Самсонов, наплюй им в хари!..
– Улю-лю, крючки! Вон, вон отсюда!..
– Долой начальство!..
Порфирий Васильич, Анисим и остальные были смяты и побежали по коридору. За ними несся вой, свист, гам.
В этот день на половине ректора созван был совет, и там долго возмущались и негодовали по поводу бунта семинаристов.
– Надо полицию вызывать, – робко посоветовал Порфирий Васильич. Ректор сурово поглядел на него и укоризненно покачал головой:
– Неразумно толкуете. Такие ли времена, чтобы к власти светской за помощью обращаться? Своими мерами, своими следует предотвратить дальнейшее растленье умов. Надо вырвать плевелы! Гавриила Самсонова исключить! И других зачинщиков. И немедленно очистить от них семинарию!..
Но в это же время в большом актовом зале собралась шумная сходка, на которой выбран был комитет, утверждены требования, предъявляемые начальству, и с которого с позором были изгнаны сунувшиеся было туда преподаватели.
Когда запыхавшиеся и испуганные вестники сообщили ректору о сходке и принятых на ней решениях, тот гневно стукнул кулаком по столу, но тотчас же смиренно опустил глаза и расслабленно вымолвил:
– На все воля господня... Ежели в силах еще светская власть, сообщите господину жандармскому полковнику...
11
В городе создавались профессиональные союзы. Первые сколотили свой союз рабочие типографии. Рябой печатник, работавший в типографии газеты Пал Палыча, был избран в правление союза. Когда происходили выборы и кто-то предложил закрытое голосование, он сплюнул и недовольно покрутил головой:
– К чему? Вовсе это не рабочее, не пролетарское дело – шарики катать, вроде как в городской думе! Давайте попросту и по-честному: открыто!
Рябого поддержали, и выборы произведены были открытым голосованием.
Пал Палыч, узнав о порядке выборов и о словах рябого, стал сокрушаться:
– Дичь какая! Основой истинного народоправства является четыреххвостка: всеобщие, прямые, равные и тайные выборы. И как же можно восставать против одной из этих основ? Это же бескультурье, несознательность!.. И такие люди, как Трофимов, не стесняющиеся выражать отсталые взгляды, избираются в руководящий орган рабочего профессионального союза!.. Обидно!
Но профессиональный союз стал огорчать Пал Палыча и по другим поводам.
Издатель, владелец типографии, получил от рабочих ряд требований. Издатель читал их и волновался:
– Восьмичасовый рабочий день... Повышение заработной платы... Охрана труда... Установка вентиляции... Врачебная помощь... Вредность для здоровья производства... свинцовая пыль... заболевания...
Он пошел жаловаться Пал Палычу:
– Это же разорение, Пал Палыч! Откуда я возьму средства? Газета и так не приносит дохода, а наборщики требуют ни бог весть что!..
Пал Палыч задумался. С требованиями рабочих он был уже знаком, и требования эти не казались ему непомерными. Он неоднократно, правда, довольно робко поднимал в своей газете вопрос о положении рабочего класса и ратовал за ряд экономических улучшений. Но газета, действительно, совсем не приносила дохода, и издатель вправе был сетовать на убытки. А кроме того Пал Палыч был заинтересован в существовании газеты не только, так сказать, духовно: он был до некоторой степени и совладельцем ее.
Положение создавалось запутанное. Надо было выворачиваться.
– Сергей Григорьевич, – вкрадчиво заметил он, – конечно, надо итти на уступки... И время такое, да и рабочие, пожалуй, правы... Придется согласиться на ряд требований...
– Вам хорошо так говорить! – вспыхнул издатель. – Не из вашего кармана!
Пал Палыч поморщился.
– Не то вы говорите, Сергей Григорьевич... Вы не учитываете момента. При свободе слова, при всем том, что мы теперь имеем, газета непременно станет приносить доходы. Ведь тираж растет каждый день! А вот когда начнется предвыборная кампания в государственную думу, мы вырастем сильно! Всё окупится, Сергей Григорьевич! Всё! И сокращенный рабочий день, и увеличенные расценки, и вентиляция!.. Все решительно!..
– Тираж... – засветилось лицо издателя. – Конечно, хорошо бы, если бы отмахнуть нам тысяч двадцать! Да объявлений на целую полосу!.. Хорошо бы.
– Вот увидите, к этому идем! У нас большой авторитет, недаром мы, Сергей Григорьевич, все время с реакцией боролись! Видите, что вышло! А, сознайтесь, вы частенько бывали недовольны направлением газеты. Сколько раз вы упрекали меня, что газета слишком левая...
– Очень уж вы, Пал Палыч, иной раз сильно загибали... – немного смущенно возразил издатель. – Да и штрафы, тоже не шибко приятная штука. Три раза ведь мы платили!
– А теперь это все окупится! – торжествующе пообещал Пал Палыч. – Теперь у нас прочная репутация и мы – сила! Сила, Сергей Григорьевич!.. А рабочим на уступки пойти надо...
– Что ж, – вздыхая согласился издатель, – видно, придется...
Успокоив издателя, Пал Палыч сам успокоился не окончательно. Требования рабочих, – рассуждал он, – сейчас выполнимы, но стоит пойти раз на уступки как появятся новые претензии. Это пугало. С этим надо было как-нибудь бороться. Пал Палыч решил сам переговорить с рабочими. Он розыскал правление союза и натолкнулся на рябого. С ним разговаривать Пал Палычу не хотелось, но делать было нечего.
– Товарищ Трофимов, вы знаете, конечно, уже, что все требования по нашей типографии удовлетворены?
– Слыхал, – коротко подтвердил рябой и настороженно поглядел на редактора.
– Я очень рад, что у нас все обошлось без трений. Впрочем, иначе и не могло быть! Вы хорошо знаете, на какую газету вы работаете! Но, знаете ли, издательству пришлось пойти на большие жертвы...
Рябой насмешливо сверкнул глазами:
– Эту песню мы от каждого хозяина слышим! В убыток, мол, производство, а закрывать лавочку ни один хозяин не собирается!
– Наше дело нельзя сравнивать с любым производством! – недовольно и нравоучительно возразил Пал Палыч. – Газета – это дело общественное, идейное.
– Идейное-то, идейное, а проценты у господина Баранова в банке все растут да растут!
Пал Палыч промолчал и сдержал готовое сорваться с уст возражение. Рябой раздражал его. Но с рябым не нужно было ссориться.
– Сергей Григорьевич, – со всей мягкостью, на какую он был способен, сказал он, – вложил в дело свой капитал, все, что у него есть. И он имеет право получать законную прибыль. Надо считаться с тем, что его капитал дает нам возможность иметь передовую, радикальную газету. Вы сами знаете, что «Восточные вести» всегда боролись с правительством, с самодержавием и неоднократно подвергались гонениям.
– К чему это вы? – равнодушно спросил Трофимов.
– А к тому, товарищ Трофимов, что дело наше надо беречь и не ставить его в невыносимое положение дальнейшими невыполнимыми требованиями...
– Понимаю, – усмехнулся рябой, – кой-кому желательно нажить капитал на рабочей шкуре! Вряд ли это пройдет!
– Вы ошибаетесь! – рассердился Пал Палыч. – Я, например, совершенно не заинтересован материально в издательстве, Сергей Григорьевич, повторяю, еле-еле получает законный процент на капитал. Но мы все, и вы, рабочие, в том числе, кровно заинтересованы в существовании независимой, левой газеты. Это надо понимать!..
И, смягчая свой тон, с улыбкой добавил:
– Одним словом, я уверен, что здоровое рабочее чутье подскажет вам, товарищи, какую линию нужно вести по отношению нашей газеты.
– Ясно! – усмехнулся Трофимов. – Будьте спокойны, мы свою линию поведем напрямик!..
Когда Трофимов ушел от Пал Палыча, редактор раздраженно прошелся по своему кабинету, затем немного поостыл и сел писать очередную передовицу о бережном и осторожном отношении к народоправству...
12
Завсегдатаи общественного собрания нашли себе новое интересное занятие. Они приобрели привычку вести дебаты и почувствовали вкус к политическим спорам. Они чаще, чем когда-либо, отрывались от карточных столов и заводили бурные и бесконечные разговоры о политике. Но это не были просто беспредметные разговоры и споры о политике вообще, – клубные люди спорили главным образом о будущей государственной думе и о выборах в нее.
Еще со всех концов России приходили вести о беспорядках, о погромах, о кровопролитии. Еще не улеглись страсти здесь, под боком. Еще свежи были в памяти описания кровавых событий в соседних городах. А тут судили и рядили о будущем избирательном законе и гадали о возможных кандидатах в государственную думу.
Чепурной расхаживал по гостинным общественного собрания с высоко поднятой головой. Он считал себя знатоком конституционного права и мог ответить на любой вопрос, касающийся парламентов и парламентаризма. И к нему со всех сторон обращались за разъяснениями, за справками, за советом. Даже Пал Палыч воспользовался знаниями Чепурного и взял у него статью о конституции. Кой-кто уже поговаривал о том, что Чепурной, если он выставит свою кандидатуру, непременно попадет в первый российский парламент. Когда Чепурному об этом намекали, он загадочно улыбался и переводил разговор на другую тему.
О будущей государственной думе говорили все. Не отставал от других и Суконников-младпшй. Он вмешивался в разговор и толковал о роли купечества.
– Конечно, – сбивчиво, но тем не менее настойчиво твердил он, – конечно, в наших местах, где, так сказать, промышленного капиталу мало, а все больше торговля и оборот, у нас, говорю, купечеству должен теперь ход быть дан широкий...
– А как, – перебивали его насмешники, – Сергей Петрович, папаша ваш все еще собирается от новых порядков бежать? Не передумал?
– Папаша мой человек привычек старых... Однако, как новые порядки от высшей власти произошли, то в скорости он смирится...
– И, пожалуй, в российский парламент устремится? Законодательствовать начнет?
– Не знаю. Не слыхал такого... – сдержанно огрызался Суконников и прятал в глазах злые искорки.
– А вы сами, Сергей Петрович, не собираетесь государственными делами заниматься?
– Я полагаю так: вообще много туману во всем, что и как... Некоторые, по-моему, рано планы свои планируют. Обождать надо, а уж потом прилаживать что к чему... Но на счет ходу купеческому капиталу в нашей местности остаюсь при твердом мнении... Торговое сословие наше крепкое и личность свою имеет особенную. В нем вся сила, если посмотреть, в нашей местности!







