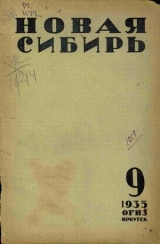
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Павлу дали подробнейшие инструкции, просмотрели и исправили тезисы его доклада, набросали проект устава военного союза.
– Добивайтесь, чтобы приняли этот устав! Особенно отстаивайте общеполитические требования.
Тщательно скрывая свое волнение, Павел появился на этом собрании. Офицеры встретили его сдержанно, с явным любопытством. Председатель собрания оглядел присутствующих и решил, что можно начинать. Павел насчитал в комнате человек сорок. Ни одного знакомого здесь не было и ему стало неловко.
– Мы так поступим, – сообщил председатель, – сначала выслушаем доклады представителей партий, а потом уже приступим к нашим вопросам. Ну и кроме того обсудим, конечно, доклады и устав союза. Согласны?
Собрание ответило согласием.
– Тогда я предоставлю слово представителю эсэровской партии... Товарищ Краснов, пожалуйста!
Павел живо оглянулся и стал разглядывать Краснова. К столу вышел прапорщик в новенькой форме, аккуратный, молодцеватый, уверенный. – «Здорово! – подумал с завистью Павел. – У них свои люди среди офицеров!..»
Краснов докладывал долго и горячо. Он говорил о своей партии, которая боролась и борется с самодержавием не на живот, а на смерть, говорил о терроре, о боевой организации. Он на все лады развивал лозунг партии «в борьбе обретешь ты право свое» и заявлял, что только его партия не на словах, а на деле ведет настоящую революционную борьбу...
Офицеры слушали его внимательно. Павел порою еле удерживался от того, чтобы не перебить Краснова и не ввязаться в спор. Но надо было молчать и спокойно дожидаться своего череда.
Краснову аплодировали. Он отошел от стола, вытирая вспотевший лоб и самодовольно улыбаясь.
– Теперь ваша очередь! – напомнил Павлу председатель.
Тезисы доклада были на листках бумаги. Надо было пробежать их, восстановить в памяти весь доклад и смело заговорить. Но Краснов, видимо, какими-то словами и мыслями своими пришелся собравшимся по душе, и приходилось отступать от тезисов и ломать весь заранее заготовленный доклад. Это волновало Павла и немного сбивало его с толку. Поэтому его первые фразы были вялы, звучали неуверенно и неубедительно. И Краснов, насторожившийся как только слово было дано Павлу, иронически заулыбался. Его улыбки озлили Павла. Он заговорил живее и страстней. Он напал на тактику партии, которою только что бахвалился Краснов. Он почувствовал почву под ногами, осмелел, загорелся...
Офицеры насторожились. Задорный боевой тон Павла затронул в них скрытое до тех пор внимание. Некоторые из них глядели на Павла с изумлением и переводили взгляд на Краснова, как бы сравнивая их. Некоторые иронически улыбались. Председатель сидел за столом вытянувшись на стуле и постукивая карандашей по столу.
Павел разбивал своего противника по пунктам. Громил его самоуверенное заявление о том, что только его партия является действительно революционной партией, решительно высказывался против индивидуального террора, отрицая какую-либо пользу от него, говорил о рабочем классе, как о ведущем, и о революции, которая должна быть революцией этого класса... Павел высказывался против создания офицерского союза и предлагал создать вообще военный союз, в котором состояли бы на равных правах и офицеры и солдаты, нижние чины.
– Если вы, товарищи, – возбужденно и горячо заключил он, – действительно за революцию не на словах, а на деле, то вы согласитесь со мной и будете бороться за создание именно такого военного союза, где исчезли бы всякие различия между офицером, командиром и солдатом, нижним чином, и где все одинаково являлись бы полноправными и свободными гражданами!.. Моя партия вас, товарищи, к этому призывает!..
Павел тоже вспотел, как и Краснов, и тоже стал вытирать платком вспотевшее лицо. Офицеры молчали. Председатель нервно расправил усы и помолчал. Затем со вздохом предложил:
– Что-ж, господа, будем обсуждать... Предлагаю высказываться!
Высказывались бурно и беспорядочно. Почти все выступали против предложения Павла. Офицерам было неприятно и они заподозрили какие-то особые соображения в том, что Павел настаивал на создании единого военного политического союза. Офицеры говорили о разных интересах командного состава и нижних чинов, о разной подготовке и сознательности офицеров и солдат.
– Это полное непонимание армии! – горячо и озлобленно кричал один из ораторов. – Полное непонимание армии!... Да ведь наш солдат даже сам будет неловко чувствовать себя в одном союзе с нами, его командирами!.. Армию надо знать! Это не завод, не фабрика!.. Оратор никогда наверное не встречался близко с армией, поэтому-то он приходит к нам с такими странными и нежизненными предложениями!.. Надо создать и укрепить офицерский союз, а пусть солдаты тоже организуются, и уж потом можно установить между обоими союзами согласованность действий!..
Это высказывание было встречено одобрением почти всех присутствующих. Павел понял, что его предложение провалено. Краснов издали насмешливо смотрел на него и что-то записывал в блок-нот.
Уходил Павел с этого собрания хмурый и недовольный сам собою. Он чувствовал, что чего-то недоделал, в чем-то допустил ошибку...
37
Гале удалось вступить в дружину. Сделала она это без участия и помощи Павла и поэтому, когда брат узнал об этом, то немного рассердился.
– И вовсе тебе не нужно это! – раздраженно заявил Павел, выслушав радостное сообщение сестры. – Тебе что же очень приятно бродить по городу ночами, когда кошевочники распоясались и того гляди, что попадешь в беду?!
– А почему же другим можно подвергаться опасности, а мне нельзя?
Павел вспыхнул и не смог ничего ответить.
– Я знаю, что ты меня все еще считаешь девчёнкой, Павел! – с обидой в голосе продолжала Галя. – В дружинах много девушек младше меня. Вообще в организации вовсе не считаются с возрастом. Почему ты меня так опекаешь?
– Ладно, швестер! – попытался Павел обратить в шутку этот разговор. – Ладно! Я ведь за твоим воспитанием обязан наблюдать и за сохранностью твоей должен пещись!..
– Я не маленькая!..
В дружине Галя быстро освоилась со своими новыми товарищами. С увлечением обучалась она стрелять из браунинга. Сначала ей было страшновато держать в руке эту смертоносную штучку. Жмуря глаза и невольно отворачиваясь в сторону, она наугад стреляла в мишень и, конечно, не попадала. Ей показывали, как надо держать оружие, как целиться, и постепенно она стала делать успехи. Потом ее отправили в ночной обход по городу. Она вернулась с этой первой своей боевой вылазки возбужденная, радостная и немного разочарованная. Улицы были пустынны и дружинники никого не встретили впродолжении двух часов. А ей так хотелось столкнуться с опасностью, пережить ее, что-нибудь совершить смелое и исключительное!
Дежурить приходилось по ночам. Размещались по квартирам у кого-нибудь из сочувствующих обывателей. Располагались по-походному, проводили время весело и подчас очень шумно. Дружинники, все больше молодежь, беспечная и живая, пели песни, вели беседы, спорили. За девушками неуклюже и не совсем уверенно ухаживали. Галю встретили радушно и восторженно. И за ней сразу начали ухаживать двое – Самсонов и гимназист. Самсонов подсаживался к девушке, пыхтел и заводил разговор на какую-нибудь серьезную тему, стараясь блеснуть своей начитанностью. Галя лукаво и незаметно улыбалась и с любопытством слушала запутанные и сбивчивые речи семинариста. Гимназист устраивался с другой стороны, ревниво молчал и, улучив подходящий момент, перебивал Самсонова. У семинариста хмурились белесые брови и он беспомощно поглядывал на Галю.
Оба, Самсонов и гимназист, старались попасть в патруль по городу вместе с Галей. Это не всегда им удавалось и они вызывались пойти на дежурство вне очереди.
Скоро обоих прозвали рыцарями Воробьевой.
– Рыцари! – окликал кто-нибудь насмешливо, и кругом смеялись. – Рыцари, вы бы совершили какой-нибудь подвиг в честь прекрасной дамы!
– Не остроумно! – свирепел Самсонов. Гимназист наливался пунцёвым румянцем и презрительно фыркал:
– Не понимаю!.. Решительно не понимаю, чего вы зубоскалите... Это некультурно!..
Во время одного обхода гимназисту вдвойне посчастливилось. Он попал в патруль вместе с Галей и на глухой улице они столкнулись с кошевочниками. Старший по патрулю окликнул: «Стой!» Кошевочники попридержали лошадь и вместо ответа выстрелили в дружинников. Галя вздрогнула и подалась назад.
– Стреляйте! – скомандовал старший.
Гимназист выбежал вперед, заслонил собою Галю и выстрелил в кошевочников. Вместе с ним выстрелили и остальные. Гале стрелять не удалось. Кошевочники открыли беспорядочную стрельбу и погнали лошадь. Галя услышала легкий стон. Гимназист схватился за плечо.
– Вас ранили? – кинулась к нему Галя.
– Пус...стяки... – сдерживая боль, успокоил гимназист.
Пуля кошевочников пробила плечо гимназиста навылет. Наскоро тут-же на улице перевязали рану и быстро вернулись в штаб. Галя волновалась и хлопотала возле раненого. Гимназист болезненно кривил губы и все успокаивал:
– Ерунда!.. Чесслово, ерунда!..
Волнение Гали было ему отрадно и он блаженно краснел, чувствуя ласковые прикосновения девушки.
Самсонов посматривал на гимназиста с нескрываемым чувством зависти, но строил из себя великодушного и беспристрастного товарища и суетливо помогал налаживать перевязку на простреленное плечо.
– Это я виновата! – твердила Галя. – Из-за меня... он заслонил меня!..
Гимназист слабо улыбнулся и приподнялся.
– Товарищ Воробьева! – проникновенно сказал он. – Чесслово, каждый поступил бы так на моем месте... Каждый!..
– Конечно, – подтвердил Самсонов и благодарно поглядел на гимназиста.
Рана оказалась не серьезной. Но эта первая кровь слегка потрясла дружинников. Все почувствовали, что происходит не игра, а самое серьезное и нешуточное дело. И кой-кого это событие напугало. Зато остальные, и было их большинство, получив это первое крещение огнем, по-хорошему взволновались и почувствовали потребность бороться и побеждать.
– Надо, – заявляли такие руководители самообороны, – устроить облаву по городу и очистить его от всяких преступных элементов!.. Отправляйте нас на окраины, туда, где всегда всякая шпана ютится! Мы их выловим!.. Мы наведем порядок в городе!..
Галя не отходила от гимназиста. И только утром, когда пришлось расходиться по домам, она узнала его адрес и ласково сказала ему:
– Я зайду к вам домой, Добровольский. Можно?
– Ах, конечно!.. – вспыхнул гимназист и прижал руки к сердцу. – Чесслово, можно!..
38
Когда вызванная для подавления солдатских беспорядков воинская часть не оправдала доверия и арестованные руководители военной забастовки были насильственно освобождены из гауптвахты, генерал Синицын пал духом. Он решил, что взбунтовавшиеся нижние чины примутся за него и ему тогда, конечно, не сдобровать. И он засел в своем штабе, вызвав для своей охраны юнкерское училище и выставив во дворе, пред подъездом артиллерию.
Двор был отгорожен от улицы каменной затейливой решеткой и обыватели с опаской поглядывали, торопливо проходя мимо, на жерла двух орудий, устрашающе направленных на невидимых врагов.
Генерал Синицын заявил гражданским властям, что он теперь ждет анархии, что город во власти преступных элементов и что он снимает с себя всякую ответственность за возможные последствия.
Губернатор заволновался. В белом, с колоннами, губернаторском доме снова пошли бесконечные совещания. Ротмистр Максимов раза два пронесся по городу на своем заметном рысаке, а к стачечному комитету почтово-телеграфных служащих явился посланец от губернских властей с просьбой передать в Петербург телеграфный запрос насчет увольнения в долгосрочный отпуск запасных нижних чинов.
Но солдаты теперь уже не довольствовались первоначальными требованиями. Поведение и упорство начальства возмутило солдат и они, почувствовав свою силу, были неистощимы в своих требованиях, вспомнили старые затаенные обиды, потянули к ответу жестоких и грубых начальников.
– Давайте их нам сюда! – бушевали в казармах. – Давайте, мы их судить будем сволочей!..
В каждой части нашлись такие офицеры, против которых копились обиды и которые до этого считали солдат, нижних чинов, серой скотинкой. Каждая часть требовала суда и расправы над такими офицерами.
– Наш зверь – зверем! Нашего учить надо! – шумели в одном полку.
– Хуже нашего нигде нет! – настаивали в другом. – Только и знал, гад, что по зубам да по зубам!..
– Все они одинакие!.. Всех бить надо! Смертным боем, чтоб помнили и чтоб другим урок был!
А когда по казармам разнеслось, что офицеры устроили свой собственный союз, солдаты озлились:
– Ага!.. свое что-то замышляют!.. Бить!
– Не допускать!..
Ротный командир одного из полков в эти дни обругал солдата и даже замахнулся на него. Офицера схватили и стали бить. Он вырвался, побежал и вид у него был жалкий и беспомощный, и это спасло его. Солдаты заулюлюкали, загрохотали, но не стали его догонять. Солдатам было приятно от сознания, что прежде страшное и грозное начальство теперь трусит их. Солдаты почувствовали, что сила на их стороне, и пьянели от этого чувства.
По частям пошли разговоры о необходимости похода на генерала. Эта мысль пришлась многим по душе и однажды утром, без ведома выборного начальства, большая толпа солдат беспорядочно направилась к штабу генерала Синицына.
Толпа шла веселая, с шутками, с песнями. У толпы было приподнятое настроение, ее занимал этот поход и радовал.
Толпа подошла к каменной решетке, за которой настороженно стыли часовые юнкера и вытянули свои хоботы две пушки. У решетки солдаты остановились и смех и веселье сразу пропали. Стало тихо. Весь задор куда-то испарился. Передние растерянно и смущенно переглядывались. Из задних рядов кто-то еще попробовал поозоровать:
– Эй! вашепревосходительство!.. выходи! Объясняй, почему не сполняешь наше требованье?!.
– Выходи!..
За решеткой замелькали серые шинели. Юнкерская часть строилась в боевой порядок. Возле пушек встали артиллеристы. Толстый поручик подошел почти вплотную к решетке и хрипло закричал:
– Расходись!
– Тащи сюда генерала!.. – закричали сзади. – Чего он прячется?.. Скажи ему, что тут не японец, прятаться не стоит!..
Толпа снова вспыхнула смехом и шутками. Толстый поручик отошел от решетки и что-то скомандовал юнкерам. Юнкера взяли ружья наизготовку. В толпе солдат были такие, что захватили с собою оружие. Они протиснулись поближе и тоже изготовились стрелять.
– Расходись!.. – повторил поручик.
Солдаты и не думали слушаться его приказа. Кровь неминуемо должна была пролиться. У юнкеров, у генерала Синицына, у поручика позиция была выгоднее, чем у солдат. Но солдаты не считались с этим.
Но в самую решительную минуту по широкой мостовой, взмывая белую снежную пыль, лавой наскакали казаки. С гиком и присвистом налетели они на толпу, которая дрогнула. Но дрогнула она от радостного изумления: впереди всадников скакал казак с красным знаменем на пике.
– Ура! – грохнула толпа. – Ура! Ура-а!..
– Ура! Ура-а!.. – ответили казаки. – Ура-а!..
За решеткой произошло смятение. Казаков никто не ждал. Казаки до самого последнего времени держались в стороне от военной забастовки.
Передовой казак спешился и втиснулся в толпу.
– Товарищи! Передаю приказ выборного командования: построиться колоннами и идти по казармам!.. Идти с песнями!..
Толпа, немного поволновавшись, выполнила приказ. Солдаты построились. Песельники вышли вперед. Казаки протиснулись к решетке и стали охранять отступление забастовщиков.
Юнкера хмуро глядели сквозь решетку. У отступающих был вид победителей. Они весело пели. Над их головами колыхался красный флаг.
39
По предприятиям, на фабричках и заводах города заговорили о совете рабочих депутатов.
Из Питера, наконец, пришли первые номера «Известий». Со свежих листов небывалой газеты повеяло новым и бодрящим. В подпольной типографии часть статей и воззваний «Известий» были перепечатаны отдельным изданием. Отдельное же издание листовки, разъясняющей значение и цели советов рабочих и солдатских депутатов, было напечатано в типографии «Восточных Вестей». Там этим делом занялся Трофимов и там рабочие первые выбрали своих депутатов. Сразу же занялись выбором депутатов железнодорожники. И не успели в городе опомниться, как появились извещения о первых заседаниях совета рабочих депутатов.
Емельянов попал в совет в качестве представителя партии. Потапова выбрали рабочие электрической станции. Павел в совете не оказался. Это его огорчило и обидело. Он полагал, что партия могла бы послать его вместо Емельянова. «У меня больше теоретической подготовки», – раздраженно думал Павел, – «Да и грамотность Емельянова сомнительна...» О своих огорчениях и обидах Павел никому не говорил, но к совету относился с легкой издевкой.
– Совет!.. – язвительно говорил он в кругу близких партийцев. – Одно слово, что пролетарская, рабочая организация! Собрались, организовались, наговорили много сильных слов, и больше ничего!..
– А ты чего хотел? – спрашивали у него.
– Действия! Самого активного действия!.. Смять остатки полиции! К чорту и почистить жандармов!.. Всю нечесть вымести!.. Если по-настоящему взяться за дело, так ведь сила-то у нас!..
Совет рабочих депутатов действовал нерешительно. Товарищи понимали, что какая-то доля правды в брюзжании и упреках Павла была. Но вместе с тем они чувствовали, что Павел брюзжит напрасно, что сразу теперешний состав совета раскачать на решительные активные действия трудно. Железнодорожники послали в совет осторожных и нерешительных депутатов. Почтовики тоже от них не отстали. Потом в совет просочились представители общества приказчиков, фармацевты, еще каких-то вовсе не рабочих организаций и союзов. Надо было завоевать настроения в таком совете исподволь и осторожно.
Когда начались волнения в казармах и генерал Синицын отказался удовлетворить требования солдат и засел в своем штабе под охраной юнкеров и пушек, в ротах и батальонах начались выборы солдатских депутатов.
Первое заседание совета рабочих и солдатских депутатов произошло как раз в тот день, когда солдаты ходили к генералу Синицыну и соединились там с казаками. На этом заседании Сергей Иванович, снова в солдатской шинели и снова плохоотличимый от многих запасных, сидел в президиуме. И когда дошла очередь ему говорить, председатель сообщил:
– Слово даю товарищу Бодрову!
Солдаты после выступления Сергея Ивановича восторженно говорили:
– Ишь, ловок-то как говорить! Как по книге читает!..
– Мозги у человека на правильном месте... Не то, что темнота какая-нибудь!..
– Научно у него все и ясно, как стеклышко!.. Все поймешь!
Кто-то сомневался, солдат ли Бодров. Но эти сомнения не спугивали хорошего настроения и благодарности, которую слушатели питали к Сергею Ивановичу.
– А хоть бы и так, что значит вольный он, так какая в этом беда?!
– Правильные слова человек говорит! А что он солдат ли или вольный, это делу некасаемо!..
Емельянов и Потапов ходили среди солдат, слушали их толки, удовлетворенно посмеивались и вступали в разговор.
Когда речь Сергея Ивановича показалась части депутатов слишком решительной и опасной, в углу зала наскоро состоялось совещание и очередной оратор пылко и сбивчиво заявил:
– Вот тут под видом солдата выступал представитель эсдеков...
– Это провокация! – перебил оратора Потапов. – Форменная провокация!..
Вслед за Потаповым стали кричать и другие. На мгновенье в помещении стало шумно. Оратор, нервно заглядывая в бумажку, старался перекричать шум:
– Я хочу сказать...
– Ладно, не разоряйся!.. Сматывайся!
– Долой!..
– Я хочу сказать, – стараясь перекричать нарастающий шум, надрывался оратор. – Дайте мне досказать!..
– Долой!.. Пусть скажет!.. Не надо!.. Дайте ему сказать!..
– Хочу сказать, что товарищ, названный Бодровым, сам не солдат и потому не может понимать настоящих нужд и требований...
Сергей Иванович, прислушивавшийся к перепалке с лукавыми искорками в глазах, поднялся за столом и замахал рукой.
– Товарищи! – закричал он. – Не мешайте этому товарищу говорить! Только потребуйте, чтобы он доказал, что я выступал неправильно!.. А что касается того, что я социал-демократ, то какой же в этом секрет? Вы меня уже не раз слушали, и я никогда не скрывал, что выступаю и говорю от имени российской социал-демократической рабочей партии и что я большевик!..
Притихший зал одобрительно слушал Сергея Ивановича. Его прямое заявление о том, кто он такой, пришлось собравшимся очень по душе и они бурно захлопали ему. Противник Сергея Ивановича смущенно мял бумажку в руках и перегибался со сцены к кому-то из своих товарищей, горячо и сердито ему что-то наговаривающему...
После закрытия собрания Сергей Иванович вышел на улицу вместе с Потаповым и Емельяновым.
– Народ-то в совете довольно серый! – заметил Потапов.
– Ничего, – ответил Сергей Иванович, – образуется... Когда до настоящего дела дойдет, останутся твердые пролетарии, а шушера и случайные отсеются...
40
У Вячеслава Францевича в самом начале солдатских волнений вышло неприятное столкновение с Чепурным. Адвокат увлекся обывательскими настроениями и развязно стал предсказывать хаос и анархию.
– Мы не умеем совершать революцию, – поучал он, сам любуясь своими словами, – у нас все должно выйти по-рассейски: с хамством, грубо и неприлично... В Европе и у просвещенных европейцев – революционный переворот, а у нас бунт, свалка! Бессмысленное кровопускание!
Вячеслава Францевича такие рассуждения взорвали. В нем проснулись старые взгляды и традиции народовольца и он возмутился:
– Всякий переворот сопровождается насилием! Наш народ, по-моему, еще продолжает проявлять обычное добродушие... Я не понимаю вашей точки зрения! Так могут рассуждать только реакционеры!
При разговоре были посторонние. Чепурной вспыхнул и ядовито ответил:
– Не все, во-первых, могут быть такими крайними левыми, как вы, уважаемый Вячеслав Францевич. А, во-вторых, то, что вы называете реакционными взглядами, есть ни что иное, как здравое и трезвое представление о фактах и поступках...
Они наговорили друг другу еще много неприятных вещей и расстались почти врагами. После этого Вячеслав Францевич стал избегать показываться в общественном собрании в обычной клубной обстановке. Оттолкнуло его от общественного собрания и то, что заправилы клуба, старшины собрания, умышленно оттягивали обсуждение внесенного некоторыми, в том числе и Скудельским, предложения об изгнании из клуба чинов полиции и жандармерии. Вообще Вячеслав Францевич за последнее время заметил, что обычные завсегдатаи клуба, державшиеся раньше дружной компанией, стали теперь разделяться на группки и кружки, вступавшие между собою в жестокие пререкания и споры. Неожиданно стал выдвигаться, смелеть и уверенно разглагольствовать в своей компании Суконников-младший. Он путанно, видимо с чужих слов, говорил о порядке, о русской идее, об исконних устоях. И его теперь трудно было высмеять, потому, что сразу у него находились горячие защитники. И он порою туманно намекал на какие-то мероприятия, которые вот в скором времени употребят благомыслящие люди для того, чтобы покончить со смутой.
– Это что же, что-нибудь вроде действий вашего папаши? – насмешливо осведомился у него Вячеслав Францевич.
– Мой папаша совсем не такой вредный и неприятный человек, господин Скудельский! – разозлился Суконников. – И нечего меня им попрекать!.. Я считаю, что есть кое-кто, кто и повредней!.. Да!..
Когда военная забастовка стала грозной и когда начальство растерялось, не зная, что предпринять, Суконников и его компания перепугались. Не совсем хорошо почувствовал себя и Чепурной. Страх пред восстанием, пред бунтом совсем придавил его. Он наблюдал здешние события и сравнивал их с сообщениями о волнениях, о разгроме помещичьих усадеб, о кровопролитных столкновениях забастовщиков, войск, рабочих, о том, что бурлило и грозою проносилось по всей стране, по всей темной, задавленной, царской России. Эти наблюдения потрясали его, наполняли темной неприязнью к простому народу, к черни, к тому пролетариату который сейчас пытается поднять голову и небывало громко заявить о себе. Чепурной почувствовал необходимость защищаться, отстаивать свои позиции, свой налаженный жизненный уют, свое сытое бытие. Он, конечно, не допускал и мысли, что восставший народ может окончательно победить и выбросить из жизни всех неугодных ему. Народ, по его мнению, неспособен добиваться своего до конца. Конечно, рассуждал Чепурной, необходимы свободы, надо дать просвещение народу, надо улучшить немного его материальное положение. Против этого Чепурной не спорил! Ведь он недаром слыл и еще до сих пор слывет красным, недаром его садили в тюрьму... Но что им надо? Вот есть манифест 17 октября, вот подходит срок выборов в государственную думу, как никак, а все-таки почти парламент! Народ, лучшая, просвещенная часть его может прекрасно и с пользой использовать и то и другое. К чему же эти беспорядки? К чему разжигать страсти неорганизованной, темной толпы?! Все эти эсдеки, бомбисты, крайние элементы – они только ухудшают положение. Да, да! Народу нужно дать раньше всего просвещение, грамоту, кой-какие знания. А уж потом...
Чепурной понимал, что надо действовать. Пусть растерявшиеся обыватели хлопают глазами в растерянности и испуге. Люди культурные, а Чепурной не сомневался, что он из их числа, должны сплотиться и поискать верных и радикальных способов противустоять анархии и разрушению!
А дни наполнялись неудержимыми событиями и жизнь проходила мимо присяжного поверенного Чепурного и его единомышленников. Приходилось при всем аппетите к жизни, при всем желании ухватить кусок получше и поувесистей довольствоваться скромной и непочтенной ролью наблюдателя. И это было самое неприятное и нетерпимое.
Поэтому когда либеральные купцы заметались в поисках ловкого и наторелого руководителя и вождя и когда Чепурнову намекнули, что известные люди не прочь увидеть в этой роли его, присяжного поверенного Чепурного, испытанного и славного Златоуста, он не долго колебался и пошел на переговоры.
41
Натансон выписался из больницы. Холостой и одинокий, он нашел на своей квартире запустение и мерзостный неуют. Квартирные хозяева поздравили его с выздоровлением, поохали о том, что попал он ни за что ни про что в такую переделку и рассказали, что кой-кто из учеников заходил справиться о его здоровье.
На пианино, на нотах, на плюшевом диване лежали толстые слои пыли. Натансон брезгливо дотронулся до инструмента, поднял крышку, пробежал пальцами по клавишам. Руки слегка отвыкли от музыки. Это огорчило Натансона, но возвращаться к привычному было приятно. И Бронислав Семенович, удовлетворенно вздохнув, наладился продолжать свою прежнюю размеренную и скупую на внешние события жизнь.
В толстых стопках нот были и Чайковский, и Рахманинов, и Рубинштейн, и Шопен, и Лист. Тут было все, что могло многое сказать душе музыканта. И с пыльных потрепанных нотных листов старинные, но понятные иероглифы подсказывали инструменту сложнейшие, вдохновенные и потрясающие мелодии, которые оживали и наливались живою страстью под пальцами Бронислава Семеновича.
Бронислав Семенович жадно играл пьесу за пьесой и блаженно вздыхал.
Что ему было до совершавшегося за стенами его комнаты, вне мира потрясавших его звуков?!..
Но жизнь неотвязно шла за ним по пятам. Жизнь властно стучалась в его двери.
За игрою Бронислав Семенович не сразу расслышал, что кто-то стучит в дверь и спрашивает: «Можно?» Оторвавшись от пианино, Натансон, наконец, ответил:
– Войдите! Можно, можно!..
Он ждал, что войдет кто-нибудь из его учеников. Но в дверях показалась Галя.
Галя оглядела Натансона, мельком скользнула взглядом по беспорядку в комнате и улыбнулась:
– Здравствуйте, Бронислав Семенович! Пришла убедиться, что вы теперь совсем поправились!
Суетливо распихивая разбросанные вещи за шкаф, под стол, Натансон очистил место на диване.
– Вот не ждал! Вот не ждал! – с радостной растерянностью твердил он.
Галя рассмеялась.
– Значит, я напрасно пришла? Вам это неприятно?
Натансон окончательно смутился и с отчаяньем посмотрел на девушку.
– Галина Алексеевна! – наконец, вымолвил он, прижав руки к груди. – Галина Алексеевна!..
Успокоенный Галей, что она пошутила, Бронислав Семенович пришел в себя, усадил девушку на диван, сам устроился неподалеку. Галя еще раз оглядела комнату и, не глядя на Натансона, объяснила, что забежала она на минутку, что чувствует себя виноватой пред ним за то, что он попал в такую историю и что она очень, очень рада его окончательному выздоровлению.
– А как ваша музыка? – под конец спросила Галя. – Все в порядке?
Натансон любовно посмотрел на свой старенький инструмент.
– Да, все хорошо!..
– А вы не сыграли бы мне что-нибудь? – попросила девушка.
Сначала Бронислав Семенович отказывался. Какой он музыкант? Он преподаватель. Не ему концерты давать. И никакого удовольствия Галина Алексеевна от его игры вовсе не получит... Но отказывался он не совсем искренно. И в конце концов согласился.
Галя слушала внимательно. С первых же аккордов она поняла, что действительно Натансон не концертант, что он заурядный пианист. Но играл он с чувством, волнуясь, и волнение это заразило Галю. Она узнала венгерскую рапсодию Листа, пьесу, которая ей нравилась. Галя прижалась к стенке дивана, притихла, полузакрыла глаза...
Когда Бронислав Семенович сыграл несколько вещей и когда Галя поднялась и сказала, что ей пора уходить, Натансон снова стал беспомощным и робким. Нерешительно он попросил:
– Посидите еще!
– Мне некогда, – объяснила Галя. – Дела!
– Какие же?
– До вечера много разных мелких, а вечером на дежурство.
– На дежурство? – не понял Натансон. – На какое? Вы служите где-нибудь?
– Нет. Я сегодня дежурю в дружине. Пойду по городу. Я вас охраняю! – засмеялась Галя.
Бронислав Семенович взволновался. Вот эта молоденькая, такая изящная девушка пойдет ночью по пустынным улицам города, где орудуют страшные грабители, неуловимые кошевочники? Это непостижимо!
Галя увидела, что Натансон пришел в ужас от ее рассказа, и покачала головой:
– Чему ж вы тут удивляетесь? Во-первых, я не какая-нибудь кисейная барышня, а, во-вторых, теперь никто не имеет права стоять в стороне от того, что кругом происходит!.. И притом я теперь научилась хорошо стрелять из нагана. Вы знаете, я с двенадцати шагов попадаю в середину карты!
Она ушла, оставив Натансона смятенным и сбитым с толку. Комната его после ухода девушки показалась ему еще более неприглядной, пыли везде оказалось больше, чем он замечал раньше. Пыль и беспорядок неожиданно возмутили его. Он подошел к двери и жалобным голосом крикнул:







