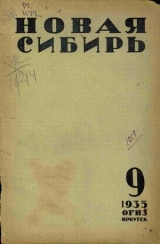
Текст книги "День разгорается"
Автор книги: Иссак Гольдберг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
– Оттуда... Долечиваться привели!
Вячеслав Францевич издали окликнул его:
– Паша, здравствуйте! Вы знаете, Галина тоже здесь.
– Влипла, значит, швестер! – огорчился Павел. – Тут, я вижу, население разнообразное!
Староста подошел с какими-то записями. Тыча карандашом в воздух, он предупредил Павла, что снимет с него «допрос».
– Только я раньше вас, товарищ, накормлю. Мы уже отобедали. Пропитаю вас из запасных фондов.
В камере было шумно и даже весело. Хмурились только в одном углу, где устроились отдельной группой Пал Палыч, Чепурной, Голембиевский и еще несколько инженеров, адвокатов и врачей. Этот угол шумная и насмешливая молодежь прозвала «либеральным болотом». В этот день уже произошло веселое столкновение «болота» с остальной камерой. И отголоски этого столкновения застал Павел. Староста принес ему пару своеобразных бутербродов. На широком ломте черного, плохо выпеченного тюремного хлеба в неуклюжем порядке разложены были кусочки ветчины, сыра, кильки, паштета. Когда Павел удивленно взглянул на Антонова, тот хитро улыбнулся.
– Это, товарищ, из коммунального фонда. Разделение по едокам всех индивидуальных передач. Кушайте на здоровье! Тут не мало вкусных вещей!
Павел отказался от вкусных вещей. У него кружилась голова, он чувствовал большую слабость, плечо у него болело все сильней и сильней. Прикурнувши на отведенном ему месте, он прикрыл глаза и тихо застонал.
Скудельский подошел к нему, взял руку, пощупал пульс, нахмурился.
– Надо бы в больницу... – сказал он, ни к кому не обращаясь. Со всех углов камеры поднялись люди, потянулись поближе к Павлу. Староста подошел к двери и крикнул в волчок:
– Надзиратель!
Надзиратель появился сразу. Он был где-то совсем близко, может быть дежурил и подслушивал возле дверей.
– Вызовите смотрителя! – почти приказал Антонов. – Да живее!
– Вы зачем? – поднял голову Скудельский.
– А вот поговорим... – многозначительно и односложно ответил староста.
В камере насторожились.
– Если отправлять в здешнюю, тюремную больницу, то без хорошего ухода этого добиваться не следует... – предупредил Скудельский. – Самое лучшее, чтобы кто-нибудь из нас занялся этим...
– А вот выясним! – повторил Антонов и снова подошел к волчку. У волчка он нетерпеливо крикнул:
– Вызвали смотрителя?
По ту сторону двери глухо и недовольно отозвалось:
– Вызвали...
Пришел не смотритель, а его помощник. Связка ключей долго позванивала в руках у надзирателя и долго лязгал большой ключ в замке, пока дверь открылась. Она распахнулась настежь, и в камеру вошли и помощник, и надзиратели, и конвойный солдат. Помощник выпятил грудь и строго оглядел камеру.
– По какому случаю вызывали?
Антонов подошел к нему вплотную и посмотрел на него сверху вниз: помощник был низенький, хилый, а староста возвышался над ним великаном, добродушным и насмешливым.
– В каком состоянии у вас больница?
– То-есть, как это? – забеспокоился помощник.
– Очень просто: можно ли там поместить больного или вы там морите народ?
– Больница обыкновенная. Тюремная... А народ мы там не морим... В чем дело?
– Видите ли, – вмешался Скудельский, – у нас тут больной товарищ. Ему нужна хорошая больничная обстановка. Я врач. И как врач настаиваю, чтобы нашего товарища поместили в больницу. А вместе с ним кого-нибудь из нас, в качестве брата милосердия...
– И кроме того, – добавил Антонов, – чтобы лечил его там в вашей больнице наш врач – товарищ Скудельский...
У помощника смотрителя забегали глаза.
– На счет больницы без высшего начальства не могу... И, кроме того, должен освидетельствовать сперва тюремный врач... Есть ли надобность или нет...
– Давайте сюда ваше высшее начальство! – глумливо потребовал Антонов. – Давайте прокурора, тюремного инспектора!
– Я сообщу... – уклончиво пообещал помощник. – А врача я покуда пошлю.
Помощник повернулся и вышел. Дверь загремела, связка ключей коротко прозвенела. В коридоре затихли шаги.
Пал Палыч вышел из своего угла, поправил очки и поглядел на Антонова поверх стекол.
– Видите ли, – неприветливо сказал он, – по-моему, вы не совсем правильную линию ведете... Нельзя же так сразу... требовать!
– А как же по-вашему? – настороженно спросил староста.
С нар стали сползать некоторые из товарищей. Вышел на средину камеры, поближе к разговаривающим, и Чепурной.
– А как же, – повторил Антонов, – кланяться им, что ли?
Чепурной укоризненно покачал головой:
– Ай-яй-яй! Вот сразу же и требовать! Ведь у тюремной администрации имеются инструкции, правила...
В камере раздался дружный смех.
– Правила!.. Мы их по шапке, правила-то!
– Вместе с инструкциями!
Чепурной неодобрительно оглянулся и развел руками.
– Поверьте мне, я знаю законы...
– Какие законы? О чем вы говорите?.. – посыпалось со всех сторон.
– Я говорю о существующих законах... Тюремная администрация, разумеется, не пойдет против них, и наши настояния будут бесполезны.
Кто-то иронически свистнул. Чепурной побагровел и сердито обернулся на свист:
– Мне кажется, можно было бы без мальчишества!.. Здесь уже и так много легкомыслия проявлено! Утром с передачей, проделали прямо издевательство. Что это за смысл – делить каждую коробку сардин, каждый фунт сыра на микроскопические доли? Я полагаю, что это проделано нашим старостой из простого и ненужного озорства!.. А теперь дело серьезнее. Вы своими необдуманными и поспешными действиями подводите всех сидящих!
Пал Палыч одобрительно кивнул головой.
– Совершенно верно!
– Чего верно?! – возмущенно крикнул молодой голос, и на средину камеры выскочил высокий курчавый студент, запевавший у железнодорожного собрания после погрома. – Вы, товарищи, напрасно представляете себе дело так, что мы, мол, будем сидеть здесь паиньками и дожидаться каких-то милостей!.. Мы боремся! Понимаете – боремся. И на свободе и здесь!..
– Вы своими действиями осложняете борьбу! – сердито возразил студенту Скудельский. – Надо действовать осмотрительно и с учетом своих сил... А то дошли даже до того, что баррикады строили, а для чего? Зачем?..
В камере стало шумно. В спор ввязались уже многие. Вокруг спорящие сгрудилось почти все население камеры. К волчку по ту сторону двери прильнул подсматривающий глаз.
– А вы вашей политикой постепенности и осторожности тормозите дело борьбы!.. – наскакивал на Вячеслава Францевича студент.
Отталкивая студента в сторону, среди спорщиков вырос Лебедев, тот, что председательствовал на митинге в железнодорожном собрании.
– Постой, обожди! – деловито вмешался он. – О чем спор? Разве мы можем договориться? Мы, рабочие, за революцию, а они (он протянул руку и указал на Чепурного, на Пал Палыча, на Скудельского) они за конституцию...
– За куцую! – смеясь, подсказал кто-то.
– За куцую, действительно... У нас методы: борьба! А у них – разговорчики!
Вячеслав Францевич побагровел:
– Я революцию начал делать, когда многие из вас еще пешком под стол ходили!..
– Ого!.. это не аргумент!
– Старо! Найдите, что-нибудь поновее!
У двери послышался топот. Снова зазвенели ключи. Все насторожились. Спор погас.
Павел тихо стонал.
34
В городе наступило мертвое спокойствие. Но забастовка не прекращалась. Поезда не ходили. Почта и телеграф не действовали. Магазины торговали с перебоями. А на заборах не переставали появляться свежие прокламации.
Кроме прокламаций, на заборах белели новые приказы и обязательные постановления начальства. Приказы и обязательные постановления были грозные и суровые.
Генерал-губернатор снова грозил:
«Признаю необходимым вновь предупредить население, чтобы оно воздержалось от прогулок по улицам города, так как в случае вынужденной необходимости действовать оружием многие могут пострадать без всякой вины...»
Население воздерживалось от прогулок. Улицы были безлюдны, и по ним устрашающе ходили патрули.
Начальство могло бы быть спокойным: казалось, все улеглось, все утихомирилось. Но ни губернатор, ни полицеймейстер, ни жандармы не были спокойны.
Город был попрежнему отрезан от остального мира, попрежнему стыли на путях и в тупиках потушенные паровозы и забиты были до-отказу стрелки неразгруженными составами и порожняком. И кроме всего – не все подозрительные и опасные люди были арестованы. Где-то, ловко и умно скрываясь, действовали партийные организации, где-то, законспирировавшись, продолжал давать свои распоряжения стачечный комитет. Подпольные типографии выпускали нелегальную литературу, и литература эта была дерзкой, боевой и неугомонной.
В эти дни Матвей и Елена работали не покладая рук. Елена осунулась, побледнела, но серые ее глаза излучали горячую радость: она чувствовала, что делает настоящее дело, что приносит прямую и ощутимую пользу. Порою Матвей, оторвавшись от работы, чтоб на-спех выкурить папироску, вглядывался в девушку пристальнее и внимательнее обыкновенного, что-то отмечал в ней для себя и тихо улыбался. Порою он с суровой ласковостью кидал ей несколько простых слов, от которых лицо ее освещалось неожиданным румянцем, а губы вздрагивали, как у обласканного ребенка.
Утром, в день погрома у железнодорожного собрания, в их квартиру заявился неожиданный гость. Не постучавшись, широко и властно раскрыв дверь, их порог перешагнул пристав. Он торопился, но глаза его быстро обежали всю обстановку передней комнаты, прощупали Матвея, пившего чай, и Елену, которая перетирала посуду. Матвей чуть вздрогнул, увидев пристава, но ничем не выдал своего волнения и почтительно вскочил на ноги.
– Чаевничаешь? – бесцеремонно спросил пристав. – Поздновато... А ты бы поторопился.
– Я, вашблагородие, недужный... – с виноватой улыбкой объяснил Матвей. – У меня катар в кишках сидит... Лечусь...
– Катар?! – пренебрежительно поджал губы пристав. – Толкуй! Катар – болезнь благородная, от тонкой жизни. Вот у его высокоблагородия, у господина помощника полицеймейстера, у того действительно катар. Так то ведь – личность! Пост человек какой занимает!.. А ты – катар!.. У тебя какое-нибудь простое расстройство... Так понимать нужно!
Матвей подавил душивший его смех и состроил виноватую улыбку:
– Я человек, вашблагородие, малограмотный. Откуда мне знать? Мне доктор сказал, я и поверил...
Пристав наклонил голову на бок и пощипал ус.
– Желаешь послужить отечеству и начальству? – в упор спросил он.
– С моим удовольствием! – торопливо ответил Матвей. Елена вздрогнула и опустила глаза.
– Ага... – удовлетворенно кивнул пристав головой. – Я сразу, брат, по человеку вижу, чего он стоит. Вот ты и богомольный и почтительный, это хорошо... Ну, значит, отправляйся сегодня к железнодорожному собранию. Знаешь, поди, где оно находится?.. Там выучка будет жидкам и забастовщикам. Поработай и ты!
Елена метнула быстрый испуганный взгляд в Матвея. Тот невозмутимо улыбался.
– Господи! Вашблагородие! Да я бы со всей готовностью!.. Но как болезнь меня замучила, так отсиживаюсь я дома...
– Совсем замаялся он у меня!.. – вмешалась Елена и вздохнула.
У пристава в глазах вспыхнуло неудовольствие. Он выпятил грудь, дернул себя за ус и раскрыл рот. Но Елена внезапно метнулась к нему и испуганно вскрикнула:
– Ваше благородие, постойте!
– Чего? Что такое? – оторопел пристав.
– Постойте, я сейчас! – засуетилась Елена. – У вас на флястике пуговка отлетает, на единой ниточке висит!..
– А-а!.. – спохватился пристав и потянулся рукою за спину. Но Елена предупредила его, схватила злополучную пуговицу, дернула ее и настойчиво повторила:
– Ну, на тоненькой-претоненькой ниточке висит! Я сейчас зашью.
Пристав не успел ничего сказать, как девушка, вооружившись иголкой, присела возле него и стала пришивать пуговицу. Матвей прищурился: он заметил, что пуговица сидела крепко пришитой на надлежащем месте. На пристава услужливость Елены произвела размягчающее действие. Он терпеливо высидел, пока она орудовала иглою, и два раза снисходительно сказал:
– Конечно, спасибо тебе... С оторватой неловко должностному лицу... Весьма неловко.
Находчивость Елены отвлекла внимание пристава от повода, по которому он пришел. Когда девушка сказала, что все в порядке, пристав поднялся, оправил на себе шашку, поглядел на Елену замаслившимися глазами и пошел к выходу. И только у самого порога спохватился.
– Значит, в тебе болезнь? Неладно это, братец, неладно! Лечиться надо. А то потребуешься ты, скажем, для настоящего дела, а у тебя болезнь! Никуда это не годится.
Когда пристав ушел, Матвей невесело рассмеялся.
– Испытание глупостью, Елена! Если бы не ваша находчивость, трудно было бы мне выкрутиться... Ну, на этот раз прошло. Надо держать ухо востро... А вы молодчина!
Елена радостно сверкнула глазами и промолчала.
Оба почувствовали, как это маленькое происшествие неожиданно сблизило их и сделало их отношения еще более простыми и сердечными, чем прежде.
И еще почувствовали они, что опасность провала висит над ними грозно и неотвратимо.
Но они ничего не сказали друг другу: ни о своих чувствах, ни об этой обострившейся опасности.
35
Ротмистр Максимов славился тем, что умел быстро и основательно узнавать людей, причастных к революции. В жандармских кругах шутили, но шутили почтительно и с нескрываемой завистью, что Сергей Евгеньевич нюхом, на далеком расстоянии чует революционеров. У ротмистра выработалась тактика сначала выяснить, кто и что из себя представляет, не трогать неосторожных революционеров, особенно молодежь, и тщательно и упорно наблюдать за ними.
– Лишний и несвоевременный арест, – сентенциозно говаривал он, – порою прямой проигрыш для нас... Надо всегда иметь на случай ниточку. Ухватишься за нее, она, глядишь, и приведет к цели!..
Поэтому он не совсем был доволен настояниями высшего начальства на том, чтобы арестованы были все, кто числился на малейшем подозрении. И, внешне подчинившись приказу, он кое-как утаил, кое в чем посамовольничал.
Он оставил для себя ниточку: не тронул несколько человек, кто подлежал аресту.
Своему наперснику и ближайшему помощнику, вахмистру Гайдуку, он многозначительно пояснил:
– Этих, Гайдук, надо осветить со всех сторон. Чтоб ясненькими стали, как стеклышко!
Гайдук понял и стал действовать.
Вахмистр, подобно своему начальнику, предпочитал иметь дело с молодежью – с гимназистами, студентами первых курсов, семинаристами. С хитрою вкрадчивостью он обыкновенно пытался прикинуться добрым дядей, служащим в жандармерии из-за куска хлеба, и когда ему приходилось сопровождать арестованного юнца, он качал головой, вздыхал, поглядывал на свою жертву, склонив голову на бок и причмокивая губами:
– Ах, ах, как же вот вы теперь, молодой человек! И гиминазия может по боку, и родителям страдание... Молодые годы ваши до моего сердца доходят и жалко мне вас...
Иногда жертва клевала на эту приманку, и какой-нибудь обожженный испугом юноша преисполнялся некоторым доверием к Гайдуку. И были случаи, что вахмистру доверяли письма домой и товарищам. Гайдук уносил эти письма ротмистру. Но чаще всего из этих писем жандармы ничего не могли сплесть.
Доверчивых было, впрочем, мало. Почти всегда разглагольствования и лукавая вкрадчивость вахмистра наталкивалась на упорное и непоколебимое недоверие и враждебную настороженность.
У Гайдука под началом было несколько мелких филеров. С филерами он держался строго и высокомерно: он считал их дармоедами и лентяями.
– Его приставишь к делу, а он вместо того, чтобы действовать честно и с рвением, идет себе в трактир и там прохлаждается!
Филеры, с которыми приходилось иметь дело вахмистру, действительно были неповоротливые, трусливые и ненаходчивые. Они вели слежку так грубо и неряшливо, что частенько их заманивали в темный переулок и там били. Били и приговаривали:
– Доложи господину ротмистру, что тебя лупили! На вот тебе! На!..
Конечно, они старались скрыть от всех, что их разоблачали, потому что в таком случае их беспощадно гнали из охранного. И так, битые и бесполезные для жандармов, ходили они за теми, кого «освещали», и приносили вздорные и никчемные сводки.
Гайдук любил переодеваться и действовать самостоятельно. Он намечал жертву и устанавливал слежку. И тут он блаженствовал. Его записная книжка к вечеру покрывалась каракулями, которые он потом тщательно разбирал и на основании которых составлял сводки. Ротмистр не всегда знал о похождениях Гайдука, и только когда вахмистру удавалось что-нибудь установить путем переодеваний, он, жеманничая и отводя глаза в сторону, докладывал начальству:
– Так что, ваше высокородие, в этом деле я сам самолично поработал... Погонялся, извините за выражение, до поту!
В эти октябрьские дни, когда жандармам и охранке дел было по горло, Гайдук ухватился за мысль, во что бы то ни стало обнаружить подпольную типографию. Он с сосредоточенным вниманием, сопя и морща нос, разглядывал каждую свежую прокламацию, сверял шрифт, каким она была набрана, с имевшимися в охранном образцами шрифтов всех типографий города. Он нюхал краску, прощупывал бумагу, рассматривал ее на свет. Он нюхал, следил, искал. Он часами простаивал, переодетый, на улицах, где чаще всего чьи-то ловкие руки приклеивали к заборам прокламации. Он ждал
Однажды Гайдук чуть-чуть не поймал какого-то паренька, на-ходу приклеившего новую прокламацию на забор. Вахмистр метнулся за парнем, но тот ловко увернулся от него. И только одно успел Гайдук заметить, что наклеивавший прокламацию был очень молод и как будто даже в ученической форме. Это натолкнуло Гайдука на мысль покрепче заняться учащимися. Были у него на подозрении несколько гимназистов и семинаристов. А так как во время массовых арестов ротмистр оставил для «ниточки» как раз молодежь, Гайдук порылся в списках и остановился на двух-трех, в том числе на семинаристе Самсонове. Самсонов в жандармских списках значился давно. Последние пометки против его фамилии устанавливали: «Состоит в кружке социалистов... Участвует в дружине. Был в числе других в уличной засаде (именуемой революционерами баррикадой)».
Вахмистр нацелился на Самсонова и стал следить за ним.
36
Глупый и неопытный филер сразу себя выдает. Он норовит итти следом за порученным ему человеком, он боится потерять его из виду и мечется из стороны в сторону, как только тот оглянется или приостановится. Часто такой филер быстро проваливается и попадает в беду. Гайдук знал тонко искусство сыщика. Он шел за преследуемым, как хорошая ищейка, не торопясь и не опасаясь, что тот куда-нибудь внезапно исчезнет. Он хорошо знал город, знал все кривые улочки и переулки и умел во-время воспользоваться этими познаниями. У него была хорошая память на лица. И он умел прикидываться простачком и глядеть людям в лицо открытым и ясным взглядом.
Таким простачком он однажды подвернулся Самсонову, когда тот проходил по улице недалеко от своей квартиры. Самсонов шел торопливо и вид у него был деловой и озабоченный. Гайдук заметил в его руках какой-то сверток и насторожился. Семинарист миновал несколько улиц, потом замедлил шаги, оглянулся и скрылся в подъезде двухэтажного каменного дома. Выждав некоторое время, вахмистр подошел к этому дому, заметил его номер, прочитал фамилии жильцов на разнокалиберных дощечках и, отойдя в сторону, стал дожидаться.
Он ждал долго. Прошло не меньше часу после того, как Самсонов вошел в этот дом, и Гайдука начинало уже томить нетерпение. Но вот дверь распахнулась, семинарист вышел, поправил очки, оглянулся и пошел по тротуару. Свертка с ним уже не было.
Гайдук опять пошел по следам Самсонова. На этот раз он дошел до квартиры семинариста, куда тот вошел и уже не выходил.
Вечером вахмистр разбирался в своих записях. Дом, куда заносил сверток Самсонов, был населен разными жильцами. Тут был и зубной врач, и адвокат, и священник, и модистка, и несколько коммерсантов. Попа и коммерсантов Гайдук зачеркнул. Подумав немного, зачеркнул он и модистку. Остались зубной врач и адвокат. Этими он занялся. Он выяснил, что зубной врач хотя и не состоит под подозрением, но, как еврей, все-таки доверия внушать не может, и за ним стоит понаблюдать. Адвокат был уже как-то замечен в каком-то выступлении несколько месяцев назад.
На следующий день, наблюдая за Самсоновым, вахмистр снова дошел с ним до этого же дома. На этот раз семинарист шел туда без всего. Зато обратно он нес какой-то тючок. С этим тючком он вернулся к себе домой и больше в этот день никуда уже не выходил.
У Гайдука раздувались ноздри, как у ищейки, напавшей на верный след. Он пришел с докладом к ротмистру, рассказал ему о своих подозрениях, похвастался проделанной работой и стал ждать распоряжений. Максимов, прищурившись, осмотрел его с ног до головы, словно только сейчас увидел его впервые, и коротко сказал:
– Финкельштейна и Ясинского проверить можешь. Заготовь ордер. А мальчишку пока не пугай... Мальчишка пригодится.
У зубного врача Финкельштейна и у помощника присяжного поверенного Ясинского в эту же ночь были произведены обыски. Результатами обыска Гайдук остался недоволен. Ничего серьезного найти не удалось. Но Финкельштейн сильно волновался, и это радовало вахмистра. А Ясинский, хмуро приготовившийся отправляться после обыска в тюрьму, изумился, когда его оставили в покое. Гайдук пожалел, что не выпросил у Максимова ордера на арест адвоката.
А назавтра, к великому удивлению Гайдука, семинарист снова появился на улице и снова пошел прежней дорогой и опять вошел в подъезд двухэтажного дома. Это окончательно сбило вахмистра с толку. Он был уверен, что обыски у зубного врача и у адвоката отобьют на некоторое время у семинариста желание ходить сюда и что появится какая-нибудь новая комбинация и что-нибудь выплывет новое. Но ничего нового не появилось. Зато в этот же день ротмистр насмешливо поглядел на него, покачал неодобрительно головой и молча пододвинул листок бумаги. Гайдук, обливаясь потом от страха и стыда, прочел справку, что жительствующий по такой-то улице, в доме номер такой-то, священник Богоявленский приходится родным дядей ученику старшего класса духовной семинарии Самсонову Гавриилу...
– Виноват... – оторопело проговорил Гайдук, не подымая глаз на начальство. – Не сообразил...
Ротмистр скривил губы и назидательно, но зло напомнил:
– В нашей работе надо соображать. Надо работать с умом, а не фантазировать!..
Потом, пройдясь быстро по кабинету и звякнув шпорами, ротмистр остановился у шкафа с делами и угрожающе протянул руку:
– Не фантазировать!.. И добиться раскрытия типографии!
– Слушаюсь!.. – упавшим голосом ответил Гайдук. И в опущенных глазах спрятал злые огоньки.
37
Филеры шныряли возле замолкшего железнодорожного депо.
Филерам был дан наказ выловить членов стачечного комитета, скрывшихся в подполье и оттуда руководивших забастовкой. Но в железнодорожном депо было безлюдно, и изредка появлявшиеся около него рабочие вели себя тихо, спокойно и по догадкам филеров не походили на членов стачечного комитета.
На телеграфе дежурили войска, но он по-прежнему не работал. И город оставался отрезанным от всего мира. Но по городу ползли самые невероятные слухи. Говорили о полном перевороте в Петербурге, о свержении правительства, о конституции. Слухи эти доходили до начальства, до жандармов. Жандармы нервничали. Полковник не переставал спорить с Максимовым о сущности происходящих событий и настаивал на том, что пожалуй они смахивают на настоящую революцию. Максимов еще упирался и повторял свое утверждение, что это всего-на-всего бунт, но видно было, что он сам колеблется и что его охватывает неуверенность. Но он бодрился и повторял свое:
– Революции в России сейчас быть не может! Напрасно господа революционеры хлопочут!..
А в тайниках души беспокоился и нервничал. И брюзжал на подчиненных и с нескрываемой иронией разговаривал с полковником.
Самое обидное было в том, что, казалось, всех вредных и подозрительных людей выловили и сидят они под замком, а порядок никак не может установиться. И забастовка продолжается, как будто он, ротмистр Максимов, и весь аппарат охранного отделения и жандармского управления, и все власти ничего не делали, ничего не предпринимали! Было от чего нервничать Сергею Евгеньевичу!
И приходило ему на ум: а что, если действительно – избави господи! – революционеры возьмут верх? Ну, допустить это на мгновенье! Что тогда будет? Даже и представить себе нельзя! Настоящая жизнь кончится. В стране, в Российской империи, восторжествует хам. Вылезут пронырливые жиды. Попрано будет все святое. Неграмотные рабочие и грязные, вшивые мужики начнут командовать. Оборвется красивое существование – все изящное, всякое искусство, музыка, театры... Фу, чорт возьми! Неужели это может, действительно, случиться?!
Ротмистр в волнении даже встал на ноги и пробежался по своему кабинету.
– Фу! Чорт!.. – громко сказал он, хотя был в кабинете один. – Может ли это произойти?!
И, меряя комнату широкими шагами, ротмистр сам с собою спорил. И в этом споре сам же выходил победителем.
Нет! Конечно, это не может произойти. А гвардия? А офицерство? А крепкий мужичок в деревне и боящийся всяких беспокойств мещанин в городе? А купечество и промышленники? Наконец, есть же много патриотов, монархистов... Ротмистр остановился, захватил со стола из раскрытого портсигара папироску, закурил ее и пустил густые клубы пахучего дыма... Патриоты... Он знает им цену. Можно ли на них надеяться? По совести – нельзя. Но из шкурных интересов они пойдут против попыток установить новые порядки. Пойдут! Ведь они уже действовали... Значит, выходит, что не так еще все печально. И незачем сомневаться в прочности существующего строя. Все войдет в норму. Все уладится. Только надо быть энергичным. Вот таким энергичным, как он, ротмистр Максимов, может быть... Да, да!
Ротмистр повернулся на каблуках, звякнул шпорами и подошел к большому зеркалу, висевшему на стене. Зеркало отразило молодцеватую фигуру в ловко пригнанном мундире. Зеркало отразило хорошо посаженную голову, пушистые усы, тщательный пробор на голове, пронзительный взгляд серых глаз.
– Да, чорт возьми! – удовлетворенно сказал ротмистр и закрутил кончик левого уса...
Он вызвал к себе Гайдука и, когда вахмистр пришел, смерил его тяжелым взглядом.
– Ну, Гайдук, типография продолжает существовать, стачечный комитет блаженствует, а мы занимаемся пустяками? Семинаристов подкарауливаем, когда они к родственникам обедать ходят? Так?
– Не могу знать, ваше высокоблагородие! – смущенно отрапортовал вахмистр.
– Не можешь знать?! – вскипел Максимов. – Ты должен знать! Должен!.. Эти сукины дети социалистишки смеются над нами! А мы зеваем! Ты слыхал когда-нибудь, чтоб ротмистр Максимов в дураках оставался?
– Никак нет! – вытянулся Гайдук.
– Так чтоб и теперь! Усилить! Найти! Бросить пустяками заниматься! Бросить!..
– Слушаюсь!..
– Ну, вот... – ротмистр передохнул, рванул со стола портсигар и неожиданно сунул его в сторону Гайдука. – На, закури!
– Благодарю покорно, ваше высокоблагородие! – радостно сказал вахмистр и деликатно, двумя пальцами потянул папироску.
– Кури... – совсем мягко проговорил Максимов и, закурив, неожиданно прибавил: – Мальчишку этого, семинариста, арестовать.
– Слушаюсь!..
38
В широко рассевшейся за палями и за каменной фасадной стеной тюрьме целые корпуса были населены уголовными. Через эту тюрьму проходило много народу на каторгу и в ссылку. Многие и здесь отбывали долгосрочное тюремное заключение. И жизнь в тюрьме была уныло размеренная, и день отмечался утренней поверкой, обедом, короткой прогулкой, ужином, вечерней поверкой и завершался тяжелым сном в переполненных камерах, где густо и непереносимо смердили параши и копошились несметные полчища клопов. Дни были похожи один на другой. Только в царские дни в мутной баланде всплывали жалкие кусочки мяса и в каше плавали желтые комочки масла. Да на пасху и на рождество замаливающие свои грехи купчихи привозили в тюремную контору подаяние: калачи, яйца, сахар и камерные старосты бегали по коридорам с озабоченным видом и делили гостинцы и следили за тем, чтобы никто не был обижен.
Порою вспыхивали драки. Порою кого-нибудь убивали. Иногда администрация делала внезапные ночные налеты на камеры и забирала карты, ножи, деньги – разрушала на время майдан. Ио проходила неделя-другая, и майдан снова восстанавливался: предприимчивый майданщик откуда-то доставал новую колоду карт, и игра возобновлялась до нового налета или до новой драки.
Дни влеклись у уголовных однообразно и уныло.
Уголовные порою украдкой встречались с политическими заключенными. Уголовные удивлялись этим людям, которые попадали в тюрьму за какие-то необычные дела. Уголовные знали, что политические шли против царя, против начальства. А так как сами они ненавидели и трусливо боролись со всяким начальством, то в политических видели полезных и стоящих людей.
За последнее время, когда по стране прокатились волнения, когда разразились забастовки и отголоски этих волнений проникли за стены тюрьмы, уголовные воспрянули духом. У них ожили надежды на какой-то небывалый манифест, который раскроет двери тюрем и выпустит на желанную волю всех. Появилось новое слово «амнистия», смысл которого был всем ясен и близок.
Старые тюремные сидельцы уже всерьез толковали о воле, о том как они там будут устраиваться, о привольной свободной жизни.
Тюрьма с жадностью хватала все скупые вести, просачивавшиеся с воли. Тюрьма по-своему воспринимала их и горячо обсуждала. На это время прекратился даже майдан и вместо картежной игры по вечерам в камерах шли бесконечные разговоры и споры о бунтах, о политических, о воле, об амнистии.
Споры эти вспыхнули ярким пламенем в тот день, когда тюрьма стала наполняться большими партиями политических. Уголовные взволновались. Как же это? Казалось, что на воле все идет к желанному концу, и вот этих революционеров арестовывают пачками! Значит, не все еще благополучно на воле. Значит, начальство еще очень сильно!
Камерные старосты уголовных в первый же день сумели добраться до новых политических заключенных. Хитрые и испытанные дипломаты, они разыскали старосту политических и предложили ему свои услуги:
– Будьте надежны, товарищи, если что на волю надо, так у нас способы есть... Ксиву там передать или что другое...
– Спасибо, – сдержанно поблагодарил Антонов.
– Вы не сомневайтесь, у нас легашей нету. Все будет чисто и честно.
– Я понимаю... – так же спокойно и осторожно успокоил их староста.
Уголовные помялись. Потом один из них, постарше, настоящий тюремный «Иван», оглянулся и тихо спросил:
– Добьетесь?
– Чего это? – не понял Антонов.
– А вот власти вы достигнете? Сковырнете теперешних господ да хозяев?
– Этого сказать не могу определенно, – засмеялся политический староста. – Стараемся.







