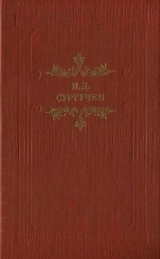
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц)
Стало темно. Не было видно соседних деревьев, и только слышалось, как по-осеннему боязливо шуршит уже слабая, бессонная, больная листва. Небо висело над землей, как люстра, в которой, от края и до края, по случаю праздника загорелись все огни.
Темным, крупным куском чуть был виден обрыв горы, на которой сидел губернатор. Под обрывом внизу, как около высокой стены, расположился город, как лист конторской книги, разграфленный на длинные столбцы улиц ровными, огненными линиями то синеватых электрических, то желтеньких керосиновых, чуть мерцающих фонарей. На самом краю города, в восточной его стороне, совершенно отдельно от других, видны далекие, особенные огни вокзала. Можно проследить, как от них влево тянется невидная полоса рельс: как высокие, недосягаемые, спокойные сторожа, стоят по ее направлению цветные сигналы. Время такое: скоро пойдет почтовый поезд, повезут на север письма и людей. Если хорошо приглядеться к городу, то можно различить архиерейскую церковь, духовное училище, водокачку, дом купца Егорылина с чугунным медведем на крыше, темную ленту бульвара, спускающегося сверху до Семеновской площади.
В успокаивающуюся мысль снова тянется осторожный, легонько и незаметно вползающий вопрос:
– Вот скоро умру. Куда все это денется? Куда провалится?
Пятьдесят лет тому назад в корпусе был маленький кадетик, которого звали Арбузом. Этот кадетик любил, бывало, идти по коридору и орать во все горло:
– Кэскэсэ? Муркусэ?
Вспомнился почему-то он, толстый, краснощекий, которого, в один час, перед рождеством, задушило крупом.
– Где он теперь, например? – подумал губернатор. Около него умерло много людей; на Дунае он видел целые горы распластавшихся по земле, гниющих на солнце, трупов, а вспомнился почему-то этот Арбуз, и звучит его голос в ушах, как будто он сейчас вот над самым ухом орет свое: «Кэскэсэ-муркусэ…»
Шевелится около памятника и покашливает Свирин.
– Свирин! – говорит губернатор и наперед знает, что сейчас же, как неизменное эхо, последует обычный отклик:
– А?
– Свирин! – говорит губернатор. – Поди сюда, ближе.
Свирин кряхтит, поднимается, вероятно, придерживаясь рукой за памятник, сбивает пыль с колен.
– Садись сюда! – говорит губернатор и показывает на скамью.
Свирин сел. Помолчали.
– Вот гляди, – сказал губернатор, – город видишь?
– Вижу, – отвечает Свирин.
– Правда, красиво? Наверху звезды, на земле – огни, дома, храмы.
– Красиво.
– И правда: вот хочется пойти к людям в этот красивый город и жить там тихо, покойно, безгрешно?
– Хочется, – отвечает Свирин.
– Ну а сколько зла в этом городе, – ты чувствуешь?
– Чувствую.
Ответы Свирина были спокойны и уверенны: видимо, те вопросы, которые задавал губернатор, не явились для него новостью; звучала у него в голосе любопытствующая нота, как бы спрашивающая: «Ну да, конечно. Все это так. Что же дальше?» При губернаторе Свирин не смел курить, сидел он на краешке скамьи, искоса поглядывал на грузную, тяжелую фигуру, наклонившуюся над тихо шумящим, как на медленном, к вечеру ослабевшем огне, городом.
Губернатор сидел и, положив голову на руки, смотрел вниз. Гора была высокая, крутая, и шум города: езда, крики, звонки, какие-то песни – долетали сюда глухим, все в себе слившим гулом.
Губернатор смотрел на город, и в образе отвлеченной, далекой силы сознавал в себе странную волнующую власть: захочет он – и многое изменится в этом широком, прилипшем к земле гнезде, в той жизни, которая за много лет наладилась в нем и идет привычным, одинаковым, редко изменяющимся чередом. Отдаст он завтра распоряжение, – и будут раньше потухать фонари, раньше затворятся и погасят свои цветные гирлянды кинематографы, и после указанного им часа не заиграет уже музыка в садах. И послушаются люди, и будут исполнять его капризные, своевольные желания, и только молча, может быть, поропщут меж собой, тихонько посудачат люди, которых собрано здесь почти восемьдесят тысяч.
И еще думалось, что вот в эту звездную ночь где-нибудь в доме, в этом городе, лежит под парчовым покрывалом покойник, и читают над ним псалмы, в которых свое горе и свою радость описывает несколько тысяч лет тому назад живший еврей: и плачут над умершим человеком, и целуют теплыми поцелуями его уже разлагающуюся кожу. И есть, несомненно, дом в этом городе, где на кровати, в муках и стонах, корчится роженица и не помнит себя от радости, когда родит, ибо человек родился в мире.
«Ибо человек родился в мире!» – мысленно, про себя сказал губернатор и подивился значительности и музыкальности этих слов и не мог вспомнить, где он их слышал или когда-то, давно, в какой-то книге прочитал.
– А можно ли исправить то зло, которое человек, родившись в мире, сделал на земле в свою жизнь? – спросил губернатор вслух, отвечая собственным мыслям и совсем забыв, что рядом с ним, на скамье, сидит молчаливый Свирин.
Было тихо кругом. Горели огни вверху, в небе. Горели огни внизу, на земле. Шла ночь. И вдруг губернатор услышал, как кто-то дает ответ на его вопрос:
– Нельзя.
Губернатор вздрогнул. Говорил Свирин. Губернатор взглянул на него: сидит он – темный, большой, и видно белеющее лицо, которое смотрит прямо перед собой, на восток, на вокзальные, квадратами положенные огни.
– Чего нельзя? – недоумевающе спросил губернатор.
– Нельзя исправить зло, которое человек сделал на земле, – еще раз повторил Свирин, – повторил, как истину, давно ему известную, продуманную и непререкаемую.
– Почему? – с возрастающим удивлением к этому тону, к манере так спокойно и уверенно говорить, спрашивал губернатор и, чтобы лучше в профиль видеть Свирина, передвинулся немного дальше от него.
Говорил человек, который больше тридцати лет живет около него, ухаживает за ним, ворчит о мундире, подает лекарство, бегает по базару, ищет у старьевщиков ржавых гвоздей для ванны, – и теперь говорит твердо и уверенно о том, что для него, губернатора, отлично окончившего военную академию, является тяжким мучением и сомнением.
– Сил у человека нет на это, – решительно, как мысль давно обследованную, сказал Свирин, – бог, и то не мог исправить зло, которое наделали люди на земле. Бог! Всемогущий! – и Свирин высоко поднял один палец.
– Как бог не мог исправить зла? – спрашивал, уже повернувшись к нему совсем, губернатор.
– Не мог, конечно! – спокойно и убежденно настаивал Свирин. – Потому что, если бы мог, зачем бы сына посылал на распятие? Ну? – и теперь уже Свирин повернулся к губернатору, и смотрели они друг на друга.
– Да откуда ты знаешь? – спрашивал губернатор.
– Писание читаю, – отвечал Свирин, стараясь, видимо, не упустить из головы правильно развивающуюся мысль, – а уж если бог не мог, то как нее человеку мочь? Зло исправить нельзя. Его можно только искупить.
– Чем?
– Кровью.
– Да почему ты это знаешь? – снова допытывался губернатор.
– Говорю: Писание читаю. Ищу, – по-прежнему спокойно отвечал Свирин.
– Чего ищешь?
Свирин улыбнулся, помолчал, точно хотел подразнить молчанием. Блеснули в темноте его глаза. Конфузливо потер он свои сухие, шуршащие ладони, как-то застенчиво кашлянул и сказал:
– Ищу, почему нет счастья на земле.
Помолчал и губернатор и после молчания со странной, неизвестно откуда пришедшей надеждой спросил:
– И что же, – нашел?
Хотелось ему сделать свой вопрос слегка ироническим, и боялся он, что тогда Свирин обидится и ничего не скажет.
Свирин ответил не сразу. Видно было, как в темноте он улыбнулся, постучал пальцами, о скамью, подумал. Раздался высокий свисток, и из-за стен кладбища, рассекая темноту тремя неподвижными, неморгающими глазами, вывернул почтовый поезд и, казалось, поплыл по глубокой, черной долине. Когда около Череповского бассейна он повернул направо, по направлению казенной даче, и в последний раз, как зверь хвостом, мелькнув, скрылся на крутом повороте цветной фонарик, Свирин тихо сказал:
– Нашел.
Помолчал губернатор еще. Было странно, что то огромное напряжение, которое жило в его душе все эти дни, повернулось к Свирину, который прячет почтовые квитанции около троицыной травы и digitalis называет «егетались».
– Но почему же, по-твоему, нет счастья на земле? – спросил губернатор..
Свирин усмехнулся.
– Очень просто! – словно кокетничая легкостью ответа, сказал он. – Бог не может слышать молитв человеческих.
– А почему бог не может слышать молитв человеческих?
– Почему? – своим прежним неизменившимся тоном, не обращая внимания на нотки недоверия и снисхождения, которые слышались в вопросе губернатора, переспросил Свирин. – Молитвы человеческие заглушаются стоном, – стоном большим, как огонь, как пламень, – вот такой большой! – И Свирин, показывая величину огня, взмахнул обеими руками вверх.
– Кто стонет? – тихо спросил губернатор.
И так же тихо, сделав паузу, ответил Свирин.
– Земля. Земля стонет.
Опять в голосе у него появились те ласковые ноты, с какими он говорил о сосне, и точно хотел приголубить и другие давно живущие в сердце слова, он сказал:
– Земля-матушка.
– Какая земля? – с удивлением спрашивал губернатор.
– А вот та, на которой стоят ноги ваши. Она стонет. По ночам, когда тухнут звезды. По ранним утрам, когда рождается роса. Надо послушать только. Надо уходить в поля. В леса. Подолгу сидеть около воды.
Свирин вдруг придвинулся близко к губернатору и, обдавая его запахом только что выкуренного табаку, добавил:
– Только вам одним могу сказать. Религии нет настоящей на земле. Религии. Нужно религию настоящую. Только в настоящей религии бог услышит людей. Только это секрет, – таинственно сказал, почти шепнул Свирин. – Вы – барин, бог для вас – что? А бог есть. Бог – это дело великое и истинное.
Снова, уже из-за дачи, вывернул поезд и тянулся, все дальше и дальше уходя от города, вверх, волоча за собой красную маленькую, беспомощную точку фонаря. Когда замолк разговор, то чуть-чуть слышно было в тишине, как стучат то сильно, то тихо покорные колеса.
В соборе ударили часы, и здесь, вблизи у креста, чувствовалось, что колокол, в который звонят, висит высоко, – вероятно, на третьем, самом последнем этаже колокольни. Потихоньку растаяла и грустно расплылась в воздухе волна звука. Свирин, считавший удары, сказал:
– Одиннадцать, – и добавил: – пошел поездок. Повез письмецо. Сегодня письмецо в Тарусу загнул. Мужичку одному. Славный мужи-ик! – и протянул, опять, видимо, возвращаясь к своим только что высказанным мыслям. – Да-а. Такие дела, – и вдруг обычным, деловым тоном спросил:
– А не пора ли нам, ваше превосходительство, час до дому сделать? А?
Губернатор знал, что «превосходительством» Свирин звал его только тогда, когда был настроен особенно нежно, и это его почему-то тронуло. Показалось, что Свирин заметил и видит ту тревогу, которая поднялась в душе его, – видит, сочувствует, но никогда не подаст виду, что знает, и никому не скажет.
– Два часика незаметно просидели, – заметил Свирин, – а то мга уже поднимается. Видите, туман вон там, в долине, где поезд шел? Это в народе называется – мга. В царстве Польском от нее на полях кресты ставят. Вредоносная она. Поднимется она, и все съест; всю фрукту, всю овощь, все растения. Вредоносная.
Становилось сыро. В теле чувствовалось утомление. Пошли домой.
По-прежнему ухала электрическая станция, и опять казалось, что где-то в ней спрятан работающий черный медведь.
Рабочий, читавший газету, ушел, а тот, который спал, теперь сидел и, выпятив губы, внимательно обрезал себе ногти на левой руке.
VIII
Ярнов писал в Москву, и скоро, дней через шесть, на хорошей, с выпуклыми полосками бумаге пришел ответ, что приехать не могут: собираются за границу, в Берлин, к брату-доктору. В Берлине жил брат жены губернатора, давно звал их к себе, – и теперь они, все трое, едут погостить.
Ярнов принес это письмо генералу. Тот дрожащей рукой вынул листок из неровно оторванного конверта, прочитал, посмотрел на обороте, – нет ли там чего-нибудь, – и отдал его обратно.
– Ну, что же делать? – сказал он, – нельзя так нельзя. Что ж ты будешь делать?
Ярнов поговорил немного о Берлине, положил письмо в карман и ушел.
Начались дни тусклые и ленивые.
По утрам губернатор вставал рано и прямо с постели, босыми ногами, – подходил к окну. Странно было затвердевшей на подошвах кожей ощущать холодноватый, скользкий пол, по было в то же время приятно наблюдать, как этот холодок идет по ногам вверх и, кажется, пробирается в душу. Наружные окна выходили на север, и потому перед домом, на тротуаре и на половине дороги в это время лежала, доставая до бульвара, коричневая полоса тени. Ранним утром бульвар, огромный и густой, дышал, как лес, густым, душистым дыханием. Сердце, успокоенное предрассветным сном, когда снится детство, билось ровно и плавно, как здоровое, и хорошо было думать, что можно, пожалуй, прожить еще до зимы, увидеть снег, закутаться от мороза теплым воротником, поехать к лесу на санях, выпить с холода греческого коньяку из бутылки с пятью звездочками.
Являлся Свирин и помогал одеваться. После ванны, которую насыщали каким-то газом, губернатор медленно и любовно надевал свой штатский костюм. Было большим наслаждением вставлять запонки в тугие, заглаженные петли крахмальной, твердой, шуршащей рубашки, завязывать галстук цветным атласным бантом.
Часто губернатор думал о том, что сказал бы он теперь, если бы очутился перед сотней молодых-студентов? Вот он – старик. Скоро – смерть. Он вошел на вершину горы, с которой ясно уже ему, мудрому, должно быть видно, что такое жизнь и что такое смерть, что такое счастье и что – горе, что стоит человеческое наслаждение и какая цена страданию. Он должен все это ясно, как с горы долину, видеть и знать и должен точно и определенно обо всем этом говорить. А что, на самом деле, он может сказать? Чему он может научить?
– Пустота! Пустота! – шепчет и горько улыбается губернатор.
Он очень полюбил смотреть на себя в большое, что висит в зале, зеркало, и часто думал о том, как этот старик в штатском платье, похожий на профессора и стоящий теперь на фоне далеко отраженной комнаты, хотел, по приезде из Наугейма, бороться с блестящим генералом, от которого трепещет вся губерния. И казался ему этот профессор странно бледным, мертвым, а генерал с витым шнуром через плечо – живым, бодрым и ярким. И почему-то всегда вспоминалась одна поездка в Петербург.
Был май. Часа в четыре, он поехал в. Михайловский манеж на цветочную выставку, и это коротенькое время, прожитое случайно, неожиданно, среди чужой, незнаемой толпы, составило самое нежное впечатление жизни. Цветы прекрасные, временные звезды земли, тени звезд небесных говорили о жизни прекрасной, тайна и пути которой еще не разгаданы человеком, – о жизни, которая, страдая, молчит; говорили о какой-то встрече, которая могла бы быть у него на земле и, по странной случайности, прошла мимо…
В дверь уже стучались: приходил доктор Пепенко, говорил на «о» и, криво, на середину носа надев увеличительное пенсне, писал рецепты, которые Свирин сейчас же торопливо относил в Красную аптеку.
В девять часов утра губернатор сходил в нижний этаж, в свой служебный кабинет.
Два этажа дома соединялись меж собой внутренней деревянною лестницей, по которой губернатор любил ходить. Лестница была дубовая, с широкими, сделанными в виде лотка, перилами. Ступеней в ней было четырнадцать; когда по ним шел губернатор, то чувствовал, что они скользкие, крепкие, толстые и твердые, как камни. В его жизни случалось много неприятностей, но когда он, придерживаясь за перила с точеными, пузатыми колонками, медленно, спокойно сходил по этой лестнице, то, неизвестно почему, у него прежде всего являлась уверенность в своей правоте, силе и непоколебимости. В это время губернатор ясно видел, как живет его большой дом, в жизни которого он был главным, неоспоримым руководителем.
Наверху, в квартире, убирают из столовой отпитый кофе и покрывают стол для завтрака – меняют скатерть. Стоят высокие, пустынные комнаты, в которых теперь деловито и уверенно хозяйничает Свирин… Кипуча жизнь идет в нижнем этаже.
Работает канцелярия: пишут бумаги, заграничные паспорта, получают пакеты и расписываются в почтовых книгах. Правитель с кипой заготовленных, чисто, на хорошей скользкой бумаге переписанных рапортов, уже застегнувши и одернувши сюртук, ждет звонка из губернаторского кабинета. В приемной собрались: полицмейстер, кто-нибудь из губернского правления, присутствия, из управы, какой-нибудь поп, – всех, сидя за особым зеленым столом, записывает на особый лист красивый, изящный чиновник. Все они собрались, ждут звонка, разговаривают между собой о вчерашних новостях, и привычно в накуренной комнате шуршат обывательские слова. Красивому чиновнику скучно. Зевая, то и дело зажигая папиросу, он вяло пишет столбец знакомых фамилий и думает, что если тухнет папироса, то это – хороший признак: значит, кто-нибудь скучает по нем.
Вдруг тонким язычком затарахтел повешенный над дверью звонок. Прекратились сразу разговоры, оборвались думы: губернатор уже в кабинете. Является красивый чиновник и подает список лиц, явившихся на прием. Уходит, и, как столб, на смену ему идет с бумагами высокий, ровный, лысый, вчера несомненно пьянствующий, правитель. Зашуршали листы, послышалась скрипучая речь, потянулись длинные, неумные соображения, ссылки на законы, циркуляры и секретные предписания.
Хочется, чтобы поскорее ушел этот человек, у которого не особенно чистые манжеты, разные запонки, сюртук с двумя болтающимися пуговицами. Губернатор всегда с нетерпением ждал полицмейстера.
Как делец, полицмейстер был плох и нерадив. Часто он не знал того, что обязан был знать, и не делал того, что должен был делать, но был в нем. – в его спокойствии, в его черствости, в его невозмутимости тонкий, красивый аристократизм, какая-то незаметно чувствующаяся пренебрежительность ко всему: к этим делам, бумагам, выговорам, угрозам, крикам.
Года два тому назад, неизвестно откуда и почему, явился на прием красивый офицер, штабс-капитан, вежливо отрекомендовался, заявил, что он на днях оставил полк и просит места. Губернатор взял прошение, прочитал и почувствовал, что его влечет к этому человеку, что хочется поскорее исполнить его просьбу. Быстро были наведены все справки, – и он назначил его исправляющим должность полицмейстера. С тех пор каждое, утро этот человек приезжал к нему и ровным, спокойным голосом докладывал об убийствах, пожарах, крупных кражах и о всем том, что замечательного случалось в городе в минувший день.
В театре, дней через десять, губернатор увидел его жену. Это был человек тоже молчаливый, красивый и тоже чем то неуловимо к себе манящий. С самых первых дней приезда в город ее назвали цыганкой Азой, и это им и шло к ней, красиво и верно оттеняя какую-то часть ее души. Приходили эти два человека в театр, садились в ложу, смотрели на представление, в антрактах молчали, а потом, после конца, садились на извозчика и ехали домой, – и всегда было завидно, что вместе, в один дом поехали эти два красивых и странных человека.
Нельзя было уяснить себе; любили ли они друг друга или ненавидели и что связывает их между собою? И всегда казалось, что совершили они вместе какое-то страшное дело, теперь оно связывает их и, как к тачке, как цепью, приковывает друг к другу на всю жизнь: без ропота, без протеста, с покорностью нужно вместе сидеть в ложе, вместе ехать в один и тот же дом.
Во время доклада губернатор обыкновенно ничего не слушал. Он смотрел на полицмейстера и видел, что все в существе этого человека говорило: «ведь это чепуха, о чем я тебе делаю доклад. Есть вещи такие, от которых ты закричал бы, если бы узнал».
«Что же есть в тебе?» – думал губернатор, глядя на него, на красивое, холодное лицо. Он чувствовал, что никогда ему не приходилось видеть другого, так занимавшего и так тянувшего к себе человека. Когда губернатор был в Наугейме, то наступали такие моменты, когда являлось удивительное, необъяснимое желание увидеть их, этих людей, – мужа и жену, – увидеть сейчас, увидеть, как они молчат, как не смотрят друг на друга, как в половине двенадцатого едут домой: он с левой, она – с правой стороны..
Когда полицмейстер входил в кабинет, губернатор начинал ощущать легкое, неудержимое волнение. Начинал полицмейстер говорить, ничего не было слышно, было только видно: вот стоит высокий человек с красивыми глазами, смотрит ими прямо, в упор, шевелит губами. Какое-то иное, другое существо вошло вместе с ним, стоит вот тут, неподалеку, около него, словно сторожит, и чувствуется это невидимое присутствие, неотвратимое и неизбежное. Полицмейстер кончил доклад.
– Как супруга ваша поживает? – предлагал губернатор всегда один и тот же неизменный вопрос и всегда ждал ответа необычного, удивительного.
– Благодарю вас, – всегда одинаково вежливо говорил полицмейстер; слегка кланяясь, и было видно, что дальнейшие вопросы не нужны, и ответил бы он на них уклончиво и неохотно.
Губернатор отвечал ему тоже легким поклоном, и это значило, что прием окончен. Полицмейстер откланивался, легко, по-военному поворачивался, шел к двери, – тогда губернатор невольно приподнимался и, с ясно ощущаемой дрожью, с желанием крикнуть и остановить эту широкую, изящную спину, чувствовал, как за полицмейстером тянется какая-то особая, мутная тень.
Губернатор не давал следующего звонка, останавливался у окна и ждал, чтобы посмотреть, как полицмейстер выйдет на подъезд, как подадут ему пролетку, как вытянется перед ним постовой стражник, как легко и свободно, колыхнувшись от первого движения лошади, он поедет по улице вверх.
Уезжал полицмейстер, и тогда длинной, однообразной вереницей входили в кабинет, что-то говорили и докладывали чиновники из правлений, управлений, присутствий, палат, управ и комиссий. Приходилось выслушивать их, отвечать, – и невольно, сама собой рождалась мысль:
«А что теперь делает полицмейстер? Хотелось бы в эту минуту быть около него, проследить, посмотреть, как он живет, как разговаривает с подчиненными, как принимает просителей, как курит, как ест».
Губернатор часто получал анонимные письма и верил им, что полицмейстер берет взятки. Письма эти он торопливо, нервно рвал на мелкие куски, чтобы нельзя было собрать их вновь, и бросал в корзину, а если горела печь, бросал в огонь и ждал, пока кусочки бумаги обратятся в черную, пепельную, завернувшуюся паутину.
IX
Полицейский двор, четырехугольный, большой, выстланный серыми известковыми плитами, весь залитый солнцем, был оживлен. У заднего фасада полицмейстерского дома стоял новый, изящный, ослепительно лакированный фаэтон. Дрянненькая, взятая случайно у извозчика лошадь, которая привезла этот фаэтон, была отправлена, и оглобли, длинные, выгнутые наружу, лежали на земле. Колеса фаэтона были туго и аккуратно обтянуты упругой, еще почти неезженной резиной, сиденье обито гладкой дерматоидовой кожей, место для ног заклеено ковровой, с вышитыми цветами материей. Все это, до последнего гвоздика, блестело, отливало солнечными шевелящимися пятнами и напоминало игрушку.
Около фаэтона ходили, лениво и завистливо осматривая его, несколько пожарных, пристав в серой дождевой накидке с погнувшимися погонами и какой-то черный, с резким голосом господин, высокий, одетый в модное, широкое внизу пальто и лакированные сапожки, – ходили, трогали сиденье, крылья, рессоры и ногтем давили шины.
– Харьковская работа! – сказал черный господин. – Из Харькова выписал.
– А сколько обошлось? – спросил пристав, и худое, насмешливое лицо его улыбнулось.
– Не говори, что молодость сгубила! – сказал черный господин и безнадежно махнул рукой.
– Ты ревностью отравлена моей? – в тон ему ответил пристав и засмеялся.
Кое-кто из пожарных, слышавших этот разговор, тоже ухмыльнулся. У всех было такое выражение лица, как будто все знали, в чем заключается дело.
Против полицмейстерского дома, на противоположной стороне, в длинном, низком сарае с растворенными дверьми-воротами стояли, каждая в отдельной загородке, пожарные лошади, здоровые, красивые, с подрагивающими спинами; в другой половине – зеленые бочки на дрогах, всегда готовых к быстрой упряжке. По третьей стороне двора тянулись казармы с желтыми окнами, по четвертой, лицом к площади, стояла полиция с пожарной каланчой.
Полиция была двухэтажная; в верхнем этаже – канцелярия с обычным разделением комнат, писцами, пишущими машинами, деревянными шкафами, серыми и раскрашенными портретами, дежурными комнатами; внизу – казармы для городовых и камеры для арестов. Камер этих было несколько. Одна большая, просторная, с нарами, как на сельских постоялых дворах, называлась «вытрезвительной» и еще почему-то – «фельдмаршальской». Сюда свозили пьяных; здесь кипела жизнь, слышался храп, и пассажиров, как называли арестованных, всегда бывало много.
Кроме большой комнаты, было еще три отдельных камеры: успокоительная, нравоучительная и вразумительная. Вразумительная была страшна необычайным обилием всегда голодных, тощих, сухих, медленно ползающих клопов. Стен и потолка здесь никогда умышленно не белили, полов не мыли и клопов не истребляли. В этой комнате нельзя было ни лежать, ни сидеть; но и к стоявшему человеку клопы, сколько их ни дави, ползли медленными, густыми полчищами, лезли по сапогам и добирались до тела. Если человек их давил, то распространялось зловоние, от которого кружилась голова и начиналась рвота.
При управлении находилось пятнадцать городовых, которые постоянно менялись, потому что жалованье получали маленькое и жить было трудно. Во главе их стояло двое «старших», служивших уже лет по двадцати, опытных, до точности знавших хитрую полицейскую службу.
Один из них – маленький, щупленький, с истощенным лицом схимника, и на самом деле очень богомольный, говевший по три раза в год, назывался Хорьком. У него было странное лицо, все выбритое, – сбривал он даже брови. Выло известно, что для уничтожения волос на лице он употреблял специальную помаду, но помада помогала мало, и бриться все-таки приходилось. Специальностью Хорька, любимым делом было переодевание: он хорошо, как актер, умел приклеивать усы и бороду, надевал парики, великолепно, без промахов налаживал засады в канавах, накрывал трактирную торговлю в незаконный час или запрещенную игру на биллиарде – в «ботифон» или «пачко», и в революционное время был знаменит и страшен, как разведчик всяких собраний, сходок и массовок. Делал он все это хитро, неслышно, осторожно, любовно, ползком, и, когда дело кончалось успехом, Хорек искренно, радостно сиял и ставил богу свечку, перевитую золотом.
Другого звали Пыповым. Был он человеком большой силы, толстый, плечистый. Когда в город приезжал цирк и, для поправления сборов, устраивал французскую борьбу, Пыпов записывался в кассе и выступал на спор с профессиональными чемпионами в медалях и поясах, нередко ломал им кости, прикладывал к земле с неумолимой настойчивостью и получал призы, которые требовал сейчас же, не уходя с арены. Пыпова посылали арестовывать буйных пьяных. Пыпов приходил, упрашивал и, если пьяный на речи не поддавался, Пыпов брал его за талию, поднимал, всовывал под мышку и, натужась, покраснев от напряжения, наваливал его, как колоду, на дрожки. Если пьяный смирялся, то Пыпов чувствовал к нему нежность: приехав в полицию, любовно забирал его с дрожек, нес в большую фельдмаршальскую комнату, аккуратно клал на нары и приговаривал:
– Приехали, господин пассажир! Ваш билет пожалуйте предъявить!
И все смеялись.
Если же пьяный на дрогах не успокаивался, а ругался, пытался вырваться от Пыпова или ударить его, то спокойствие не уходило от городового: только темнели, становились почти черными, серые спокойные глаза его, да рука крепче прижимала арестованного, чтобы не упал.
В полиции он помещал его в одиночку, сам запирал дверь и заявлял дежурному чиновнику:
– Буен очень. Безобразить будет в фельдмаршальской. Взбаламутит всех.
Часа через три, когда темнело, когда пьяный мог уже несколько выспаться и отрезветь, Пыпов шел к нему на «беседу», будил его и начинал разговор;
– Ну вот, боярин. С добрым утром! Хорошие ли сны видели? Пуховичок бочков вам не намял ли? Может, и теперь еще на гулянках подраться вздумаете? А?
Не разозлившись, Пыпов бить не мог или бил, как он сам говорил, не аккуратно, без удовольствия, – и поэтому долго, сидя перед арестованным, разжигал себя.
Пыпов был человек совершенно одинокий, но когда у него отдыхала душа, в тихую, например, зорю, вечерами, когда приходила теплая ночь и спать можно было на дворе, на крыше, – он мечтал о семье, о женской любви, о чистых комнатах, о детях, из которых вышли бы хорошие люди, и о своих думах, как о действительности, говорил арестанту:
– Вот видишь. Ты меня дорогой ударил, – так? Сознаешь? А знаешь ли ты, что я три раны имею? Что я своему государю кавалер? Что я в боях за церкву и отечеству кровь проливал? Может, милостивый государь, желаете посмотреть?
Никаких ран у Пыпова не было, в солдатах он никогда не служил, но геройство на войне всегда снилось ему; он расстегивал рубаху и нащупывал там тело:
– Вон они, ранушки… Вот одна, вот другая, вот на спине, около лопатки, третья. Которую рукой нельзя достать. А одну, брат, так и не вынули, так, окаянная, и застряла. Доктора диву дались, как это я вынести мог. И теперь: как вот сырая погода, так у меня ревматик начинается. – Пыпов старался из-за спины, сзади, нащупать это место.
– А знаете ли вы, – продолжал он, – господин боярин, милостивый вы государь, что я хоть и городовой, хоть, скажете вы, и хам, и холуй, и мурло, и селедка, и фараон треклятый, – а знаете ли вы, что у меня есть дочь-невеста, красавица, тонкая, нежная, деликатная? А знаете ли вы, что сватается к ней, вот второй год уже, человек – полковник, сто восемьдесят рубликов в месяц получает, и теперь, еще до венца, папашей меня зовет? Значит, как по-вашему: могу я выходить почтенным человеком или нет? И можно ли меня такой поганой рукой, как ваша, по морде, скажем, бить?
Пыпов замолкал и смотрел, какое действие производят его слова. Пьяный начинал понемногу приходить в себя, осматриваться кругом, чесать затылок и разглядывать; кто это перед ним сидит и о чем он говорит?
– А вы меня ведь били при людях, и я горел от стыда и смотрел по сторонам: не идет ли будущий зятек-полковник, не посматривает ли он по сторонам – и вдруг видит: тестя его будущего, нареченного, какой-то неизвестный человек в штатской жилетке – и вдруг его по мордасам бьет. Каково было бы смотреть на это благородному человеку? И за что бьет? За то, что тот, по разуму своему, честно и благородно свою службу исполняет, а?








