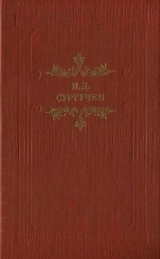
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)
Мы молчали, избегая смотреть друг на друга…
– Но позвольте! – сказал я. – А вы? а ваше участие? Ваши большие, внимательные глаза, полные сострадания, полные такого деликатного человеческого внимания? Тоже игра?
Профессор пожал плечами.
– Что же ты будешь делать? – ответил он, – Поверить – трудновато, не поверить – страшно. Думаешь, ну актер, пусть. А вдруг – не актер? И если видишь, что уж очень хорошо у человека выходит, что уж очень он актер хороший, – ну, получай пять. За искусство, так сказать. И вы тогда, я теперь это отлично помню, показались мне актером первоклассным.
Я перебил его:
– Но позвольте заметить, профессор, если и вы только, так сказать, имитировали ваше отношение ко мне, то и вы – актер первоклассный.
– Я актер, – согласился профессор, – я хороший актер. Это я знаю.
Я обозлился.
– Может быть, – сказал я, – и эти слезы, которые вот только что катились по вашему лицу, – тоже бутафорские слезы?
Профессор испугался и полез за платком.
– Разве есть слезы?
– Есть.
Профессор торопливо стирал слезы платком. Я почему-то в это время все внимание устремил на инициалы платка: там стояла буква А, «значит, женин платок», – подумал я.
Утерев лицо, профессор сказал:
– Знаете что? Знаете, что я надумал? Вот этот торт, – и он показывал мне круглую коробку, словно демонстрируя торт, – роскошный, я вам скажу, торт… Можно сказать, замечательный. Двадцать лет, каждое воскресенье, я заказываю его жене своей бездетной, Анне Михайловне. Кондитер, Егор Васильевич, за это время сделался моим другом, и я иногда беру у него деньги взаймы. А он просил меня даже в кумовья к нему пойти…
Профессор так торопился говорить, словно была опасность, что я уйду.
– Да-с, и вот, видите ли, – захлебывался он, подыскивая следующую фразу, – так вот… Прошу вас… убедительнейше прошу, пошлите его вашим девочкам. Право, а?
И профессор снизу вверх просительно заглядывал мне в глаза.
А день, как цветок, с каждой минутой расцветал все больше и больше, великолепие его сделалось все выше и торжественнее; по тротуару, огибая нас, как вода – камни, текла живая человеческая волна, и все люди, сразу, вдруг, стали казаться мне веселыми и радостными. И профессора, этого замечательного актера, хотелось погладить по волосам, сняв с них кругленькую, потертую каракулевую шапочку. Его предложение послать торт детям показалось мне таким простым, таким ясным, таким человеческим, что стало весело и хотелось только улыбаться.
«Какими переливами может играть жизнь!» – стояла в голове одна только мысль в то время, как я говорил:
Что ж? Великолепно! Пошлем! – и вдруг вспомнил: – А Анна Михайловна? Она что скажет?
– Ах, боже мой! – поморщился профессор: – Анна Михайловна, Анна Михайловна! Если Анна Михайловна посидит одно воскресенье без торта, – наша планета не остановит своего движения.
– Великолепно! Если так, то посылаем торт! – говорил я, принимая из профессорских рук тяжеловатую коробку. – Торт, говорите, мокко? Три с полтиной стоит?
– Ей-богу, три с полтиной! – вдруг тенорком взбо-жился профессор, и мне показалось, что вот он сейчас, в доказательство своей правоты, перекрестится на святую Екатерину маленьким крестным знамением: – Три с полтиной!
Профессор смотрел на меня и смеялся мелким, старческим смешком, и на глазах его, я ясно видел, показывались уже радостные, радужные слезинки.
И подумал тогда я: есть в сердце человеческом две чаши слез: одна полна слезами радостными, другая – до краев налита слезами печальными. Умирает человек и оставляет на земле одну чашу печальную, вероятно, всегда пустою. Бывает ли так же опустошена чаша со слезами радости?
Мне было весело, а профессор, сдав торт, засуетился, сел на извозчика и уже, когда экипаж тронулся, крикнул:
– А когда поедете на юг, то поцелуйте их: Колокольчика и Елочку.
– Ладно! – опять густым басом сказал я, чувствуя, как на душе моей становится все веселее и веселее: день, снег, далекое небо, румяные девушки, зеркала магазинов, фасад церкви, а в руках – торт.
И я громко сказал, удивляясь:
– Торт! А? Каково!
Сказал так громко, что проходящие оглянулись.
Когда я дома раскрыл коробку, то торт оказался целым и невредимым. Я тщательно переложил его тонкой бумагой и на другой день отослал по назначению.
На днях я получил ответ.
На листке, вырванном из ученической тетради, по косым голубоватым линиям, крупными, не закругленными буквами, было написано:
«Милый папочка! Извини, пожалуйста, что мы тебе давно не писали. Все некогда было: учились. А когда нас распустили, то мы забыли. Торт твой был очень хорош, все ели, и всем было вкусно. Спасибо тебе, что ты не забываешь нас, детей своих. Когда еще будешь посылать, то клади в хороший ящик».
Это были письмена старшей.
Немножко ниже стояли каракули младшей:
«И я тебе кланяюсь, – выводила она, и каждая буква была почему-то похожа на куклу, – пришли еще пирогов Этот съели. И пришли еще рубль денег. Потому что на дело нужно».
Внизу стояла торжественная, как на манифесте, подпись.
Делать нечего. Сходил в кондитерскую. Сходил на почту. Заказал торт, послал рубль.
Раз на дело, – что ж тут еще разговаривать?
Путь звездный
I
В городском саду, на детской площадке, около гигантских шагов, сошлись после полудня маленькие Петровы, Щербенины, Васильковские. На одной скамье в ряд, как воробьи на проволоке, сидят француженки, тараторят, вспоминают Париж, Лион и своих бедных матерей. Немки образовали другой кружок, свой, подобрали ноги под туго натянутые юбки и молча, торопливо, опустив носы, вяжут из гаруса кто шапку с кисточкой, кто петуха на чайник. Отдельно от всех, в платочке, в белом фартуке, сидит Васильевна, около нее – Мишенька.
Мишенька – бледный, больной мальчик с большой, неправильной головой, с широко расставленными, печальными глазами. Всякий думает, глядя на него, что мальчик этот – не жилец на свете. С детьми играть Мишенька не любит, да и не может: бегать ему трудно, мешает тяжелая голова, и потому всегда он около няни, стоит, прислонившись к ее колену, она тихо гладит ему нежные, тонкие волосики, говорит ему что-то неразборчивое и ласковое, а он посматривает, как другие ребята бегают на гигантских шагах, играют в разбойника и городового, ловят мяч и орут во все горло и обдают друг друга песком. Если никого нет и Мишенька один, тогда он тихонько ходит по аллеям, серьезный, маленький, похожий на гнома без бороды, и, с трудом наклоняясь, собирает в тележку упавшие листья.
Утренняя поливка уже просохла, образуется пыль, и мадемуазели, закрутив веревки вокруг столба, запретили беготню на гигантских шагах. Ребята играют в колдуна, делают страшные, выпученные глаза, разговаривают страшными голосами; когда идут друг на друга – растопыривают пальцы, прыгают, стараясь походить на чертей, но вдруг Лева сразу соскучился и объявил:
– Я не боюсь колдуна.
Колдун обиделся, сел на лавочку и затянул:
– А если та-ак… То я играть не хочу-у…
Лева, не обращая внимания на протест, предлагает:
– Давайте хвалиться!
Это сразу принято, все собираются в кружок и начинают:
– А мы сегодня в монастырь поедем после обеда!
– А мы в поле…
– А мы дальше поля.
– А я скоро именинник.
– Вре-ешь! – говорит завистливый Левка.
– Правда! – отвечает именинник. – И еще вот что: за меня Соня позавчера замуж выйдет. Она говорит: у вас хорошо, у вас дома жилеток мно-ого!..
Тихо, не моргая, смотрит на них Мишенька, серьезный, неулыбающийся; прижался к старухе: прекрасны его глаза, – глаза матери, родившей единственного, скорбного, больного.
Левке скоро надоедает хвалиться, потому что больше его и лучше его все равно никто не похвалится: он и под облака взлетит, он и хвост вырвет у губернаторского павлина, он до фруктовой будки на одной ноге проскачет, – он может сделать все, это решено, это бесспорно, Левка – царь. Вдруг Левка видит Мишеньку, о чем-то на секунду задумывается, подходит к нему и говорит:
– Ну, иди к нам играться! Принимаем тебя!
Мишенька жмется к колену еще ближе, молчит, и Левке отвечает за него Васильевна:
– Нет, господин, сегодня мы к вам уж не пойдем играть!..
– Почему? – задорно спрашивает Левка.
Левка – маленький, толстенький, румяный. Золотые его волосы кудрями выбиваются из-под матросской шапочки, а нос – как пуговка.
– А потому, – отвечает Васильевна, – давеча вы сказали, что мы маленькие и что вы нас в свою компанию не возьмете.
– Нет, он большой! – легкомысленно отвечает Левка, показывая на Мишеньку.
– Ишь ты фокусник какой! – обижается сразу Васильевна и на Левку смотрит косо. – Даве был маленький, а теперь вот сразу вырос…
Она обнимает Мишеньку, как будто коршун Левка может больно клюнуть его.
Васильевна не любит ни француженок, ни немок: лопочут – не разберешь что, детей не любят, все хи-хи-хи да ха-ха-ха, а жалованья получают рублей по сорок, на всем готовом.
Ребята, оставив Мишеньку в покое, сошлись в кружок. На солнце жарко, то ли дело стоять под каштаном? Тень такая, будто по земле вода разлита.
– Я уже цифры учусь писать, – говорит Левка и вдруг предлагает: – Хотите, научу вас?
Все хотят, все с восхищением смотрят на мудрого, великого Левку.
Левка схватывает какую-то палочку и начинает чертить на песке, пыхтит, старается, – и вдруг, кончив, говорит торжественно:
– Готово! Нарисовал! Четыре. Это цифра – четыре. А если посмотреть на нее вверх ногами, то она похожа на стуло… Если похожа на стуло, – учит Левка, – значит, правильно.
– Не стуло, Левочка, – поправляет, картавя, гувернантка, – а стуль.
– Ну, стуль, – огрызается Левка, – все равно.
II
По соседней аллее, тенистой, прохладной, с густой каштановой крышей, лениво идет высокий человек в светлом костюме и желтых башмаках. Он молод, красив, губы – красные, на шляпе лента с полосками. Идет, постукивая тросточкой и движением руки делая полукруг.
Васильевна видеть не может этого человека, не любит, отворачивается.
«Леший бы тебя поймал за ногу!» – недоброжелательно думает она.
Она знает, зачем он явился в сад и кого ждет, и снова ее рука, защищая, обнимает Мишеньку, как будто и здесь ему грозит большая беда.
– Явился, окаянный! Рано пришел, шут! – шепчут ее губы, и сердитые дальнозоркие глаза следят за каждым движением молодого человека.
А тот дошел до конца аллеи и оглянулся. Пришел в цветник и опять оглянулся.
– Придет, не бойся! – сама с собой, по-прежнему недоброжелательно, разговаривает Васильевна.
Проходит пять, десять минут, и правда: вдали, на первом повороте от главной аллеи, показывается женская фигура. Знакомая шляпка с черным пером, знакомая походка.
– Не вытерпела! – почти вслух, забыв и француженок, и немок, говорит Васильевна и, обиженная, гладит Мишенькину щечку, как будто и он обижен, и приговаривает: – Миленький ты мой! Болезненькой! Доля твоя – хуже сиротинушки!
Это пришла Мишенькина мать, Евдокия Алексеевна, красавочка Душенька, как называют ее все знакомые. И хотя муж ее, адвокат, жив и здоров, и каждый год ездит в Ессентуки для уменьшения в весе, и все живут вместе, и вместе ходят в театры и на музыку, и дом роскошный, и доходов в год тысяч двадцать, и у окна около парадной висит вогнутое зеркало, чтобы видно было, кто звонит на пороге, – Васильевне Мишенька кажется сиротинушкой, и, как обиженному, как заброшенному, гладит она ему щечку и говорит нежные, уменьшительные словечки.
Идет, держа на плече японский камышовый зонтик, Мишенькина мать. На ней белое платье, купленное, когда ездили за границу. Висит на шее у нее любимый медальон с накладными, крест-накрест поставленными буквами. Васильевна отлично знает этот медальон, никогда не раскрывающийся; знает, что в нем, только для приличия, портрет мужа, еще молодого, еще тонкого, стройного. Теперь он размяк, каждый день с горячими калачами ест по полуфунту икры, а прежде и на него любо было поглядеть всякой женщине.
Идет Мишенькина мать. Васильевна знает все, что делается в доме. Она знает, что сегодня с утра был приготовлен голубой, новый корсет. Хорошо видят и все понимают дальнозоркие, острые, с маленьким зрачком, глаза.
Идет она не той походкой, какой ходит дома, по высокой зале, когда тоскует и, закинув руки за голову, тихо напевает что-то вполголоса. Она теперь стройна, и кажется, будто никогда не рожала и ничем не мучилась. В белом платье она похожа на девушку. И глаза смотрят иначе, чем дома – на картины или на ноты, когда играет. Нянька понимает, что это она зачуяла любимого.
Издали ее заметил красивый человек и весь подтянулся, подобрался, сделался еще стройнее, перестал размахивать палочкой, пошел к ней навстречу, лицо его радостно.
Видит Васильевна каждый день, как встречаются они, как целует он ее руку, туго затянутую в перчатку; видит, как вспыхивают и не умеют скрыть радости ее глаза.
– Ну, конечно! – враждебно бормочет про себя Васильевна. – Здрасте-здрасте! Как поживаете? Как ваше здоровье? Какая сегодня погода!
И, словно жалуясь, вдруг обращается к Мишеньке и гладит его шершавой коричневой рукой по щечке:
– Милый ты мой! Болезный ты мой! Сиротинушка ты мой! Папенька твой человек хороший, добытчик, день и ночь о судьбе твоей промышляет, деньги тысячами волокет: и картинок хороших накупил, и зеркалов от полу до потолка, и люстры раззолоченные, как в церкви. До двух часов ночи, промышляючи-то, сидит, и с народами разными разговаривает, и по телефону… А маменька твоя… Эх! Прости ей господи!
И опять с сокрушением смотрит старая нянька в противоположную сторону сада и видит, что «они» пошли в нижний сад, и опять вздыхает:
– Думаешь, там никто не увидит, бесстыдница? Увидят, увидят… Спрятаться хочешь?.. Не спрячешься; от людей не спрячешься…
…Солнце переваливает за полдень; кажется, что где-то накаливаются миллионы печей и обжигают землю. Француженки спрятали лица за вуали, немки побагровели, но все еще вяжут, и все больше и больше вырастают в их коротких пальцах синие петухи. Дети приумолкли, захотели есть, даже Левка осовел и уже не с прежней радостью глядит на свет божий.
Тихо поднимается с своего места и уходит Васильевна, держит Мишеньку за ручку, и идет он за нею, как безбородый гном, с грустными, большими, редко моргающими глазами: ножки у него слегка искривлены, поверх коротких чулочков видны бледные, синие, дряблые жилки; еле плетется он, склонив набок тяжелую головку, по желтому, туго утрамбованному тырсу.
Из тени выходят они на тротуар, от асфальта еще жарче, совсем трудно идти Мишеньке: нянька кряхтит, поднимает его и усаживает в изгиб правой руки и несет, перебирается через дорогу на другой тротуар, туда, где тополи. Прикоснулся Мишенька головкой к ее голове, и обливается у старухи сердце жалостью: такая жара, а щечки не разогрелись, глазки не заблестели, губки бледненькие и по краям будто синим шнурочком обведены.
– От нелюбимого рожден, бедненький мой! Батюшка! – бормочет Васильевна, целует Мишеньку в губки, и тихонько, движением губ, отвечает он ей, и этот чуть слышный поцелуй до слез трогает душу – и чувствует она, что нет ничего на свете дороже этого Мишеньки, что навек он привязал ее к себе своей тихостью, болезненностью, поцелуями, безмолвием, медленными взглядами.
Особенно дорог ей Мишенька темными ночами, когда все спит, когда Мишенька в своей белой кроватке с высоким пологом лежит навзничь и глаза его, спящие, полуоткрыты, и от этого берет жуть ее, старуху, и кажется тогда, что в комнате происходит чудо, и спящий мальчик видит его, видит не сон, а будущее, то, что скоро случится в их доме, и это не похоже на обычные видения. Никогда не разбросается он ручонками, не забормочет спросонку, не улыбнется, – лежит тихий, недвижный, чуть заметно дышит, и не снятся ему ангелы, залетающие в пазуху.
Странные ночи в их доме, неспокойные, не такие, как у всех людей. Шуршат в темноте не то беды, не то печали, не то еще какие предзнаменования, и не отогнать их молитвой. И опять бормочет тогда старуха:
– Ох, доходишься ты, мать, со своим зонтиком! Ох, доходишься!
Придя домой, долго стоят в темной передней, отдыхают от жары. Васильевна сажает Мишеньку в высокое креслице, сама идет на кухню. Дом хороший, высокий, прохладный. Затворены стрельчатые ставни. Таково-то хорошо идти в полутемноте, в прохладе… Не хочется на дачу от такой благодати ехать, а ехать скоро: уже принесены с чердака чемоданы, свежей бумагой выложены корзины.
По стенам висят картины, купленные в Москве. Ими всегда хвалится хозяин, Егор Иванович, показывает их гостю, ведя его под руку, и если вечер, то зажигает рефлекторы. На потолке люстра с искусственными свечами. Наполовину в чехле рояль, сделанный будто из черных зеркал, в них через оконные щели играют зайчики. Развернуты ноты: видно по ним, как нужно играть. Нехорошее играет она, Мишенькина мать.
– Ушла! С зеленым зонтиком! – враждебно бормочет, пробираясь в полутемноте, Васильевна и вдруг с неудовольствием, мысленно, обращается к хозяину, к адвокату по гражданским делам, к Егору Иванычу: – И ты тоже хорош! Как утро, – подавай ему колбасу малороссийскую! С капустой! Круга два съест! И пищу все тяжелую любишь! И за обедом целую бутылку красного вина выпьешь! Фу, прорва! – плюет Васильевна. – Оттого и разнесло!.. Оттого и дразнят тебя пирамидой.
Чувствует Васильевна, что поддалась женской слабости, нехорошим чувствам, и гонит с души все колебания и отвечает сама себе:
– Ну, и толст. Ну, и некрасив. А с лица что? Воду пить?
III
Проходит день, проходит обед, за которым раскрасневшийся Егор Иваныч сидит в одном жилете и видно, как под мышками у него просачиваются пятна. Вечером на дворе делается прохладнее, чем в доме, и Егор Иваныч собирается в клуб. Ожидая свой час, он медленно прохаживается по темной зале, в которой теперь отворены окна на большую площадь и, после сна, пробует голос, мягкий баритон, которым очень гордится и полный тембр которого пускает при защите только значительных дел. На разные лады и с разными ударениями он повторяет несколько раз одну и ту же фразу:
– Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?
Через две комнаты, из столовой, виден свет: там зажжены лампа и три рожка по стенам. Мишенька, завешенный салфеточкою, сидит в своем креслице, на подставке у него чашка с чаем, и Васильевна, обмакивая в нее круглый бисквит, дает его Мишеньке, и Мишенька, молча, глядя перед собой, медленно и долго разжевывает его, потом глотает, вытягивая шейку, и ждет, пока проглотится, а потом опять ждет и смотрит на отражение огня в подвеске.
А в зале, ожидая свой час, ходит Егор Иваныч, слышны шаги. Остановится – слышны слова:
– Какой вечер, а? Какой вечер, а? – И опять раздается полный, слегка напряженный тембр: – Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?
Барыни нет: сидит в своей комнате и читает желтую книжку.
IV
Когда Егор Иваныч, взяв на руку пальто, уходит, Васильевна идет к барыне. Мишенька сидит один; в комнату залетела бабочка, и он внимательными, серьезными глазами следит за ней.
Васильевна вошла к барыне и зажгла боковой канделябр; через кисею вспыхнули электрические нити.
– Чего в темноте сидеть? – спрашивает Васильевна сурово.
Барыня видит, что Васильевна сердита и хмура. Из рук выпадает желтая книжка, и листы полукругло подмялись. Васильевна молча поднимает книжку, расправляет листы и кладет на стол.
Барыня досадливо-равнодушно спрашивает:
– Ну, что? Опять подглядела? Опять? Ну, что?
– Ничего! – отвечает Васильевна, не глядя на нее.
– Ничего, – устало, как маленькая, повторяет барыня.
– Ничего хорошего, матушка, нету! – повышает голос рассерженная Васильевна.
– Слыхали, слыхали… – тянет барыня. – Сто раз с разом слыхали…
– Видела, матушка, видела…
– Ну, и видела… Ну, и что ж?
– Я-то видела – ничего. А вот другие, ежели кто, то плохо будет, коли ежели увидят… Коли ежели заметят…
– Ну, и пусть замечают, кому охота… – упрямо твердит барыня.
– Да что хорошего! – все больше и больше сердится Васильевна. – Отца у тебя, скажем, нет, матери нету А Егор Иваныч душа человек, добытчик… Ты посмотри: что дом, что одежа, что обужа… Ну?
– Пошла теперь: одежа, обужа… Не люблю я его! Пойми!
– Не любишь, любилка! – укоризненно говорит Васильевна. – А того, что который с тросточкой, того, значит, любишь?
– И того не люблю…
Молчит Васильевна, отвернулась.
– Значит, так… выкомариваешь? – И вдруг, повернувшись прямо, лицом к лицу, спрашивает: – А Мишенька?
Закрыла барыня лицо руками и повторяет с тоскою, как о горе:
– Ах, Мишенька, Мишенька, Мишенька!..
Васильевна наступает на нее и уже скрытно, вполголоса, допрашивает:
– Не люб Мишенька? Хиленькой? Слабенькой? Болезненькой? Краснощекого захотела? Нет, милая, этого люби!.. Этого!.. Все равно сын…
Наступает Васильевна, словно бить свою барыню хочет, а та, закрыв лицо, съеживается, будто удары эти и боль неотвратимы, и опять похожа на маленькую, жалкую, обиженную, беззащитную.
– Совсем за последние дни забыла Мишеньку? А? – допрашивает нянька. – А что-то тебя часто так тошнить стало? А? Что мало ешь за обедом? Что на ужин соленое да кислое заказывать стала? А? А от кого, и сама не знаешь? Не то от мужа, не то от кого которого?
Через некоторое время обе они, и Васильевна, и барыня, идут через темную комнату. Вдруг барыня останавливает Васильевну за руку и спрашивает:
– А что он по ночам-то? Все смотрит? Глазок не закрывает?
– Не закрывает… – отвечает Васильевна: – смотрит…
Приходят в столовую. Мишенька взглядывает на мать серьезными, внимательными глазами, и никакого внимания не обращает на то, что она держит в руках синего, гремящего паяца-музыканта, а она все говорит:
– Мальчишечка ты мой милый! Мальчишечка хороший!
Целует его в синие губки – и покачивается в разные стороны тяжелая головка, и по-прежнему серьезны, безразличны и к чему-то одному, непостижимому, внимательны большие, прекрасные глаза.
А около одиннадцати, раньше обычного срока, приходит домой Егор Иваныч.
Уже сложен ему маленький, желтый чемодан, чтобы ехать в судебную палату на защиту. На чемодане, около замочка, приклеен таможенный, уже вытершийся, ярлычок, который почему-то бережет Егор Иваныч. В половине двенадцатого, за полчаса до отхода поезда, Груша, горничная, приводит извозчика с двумя фонарями, на стекле фонарей коряво нарисована цифра 87. От фонаря падает свет полосой, и от этого странно видны отдельные предметы: часть красных вожжей, рука извозчика, верх колеса и засохшая грязь на спицах.
Егор Иваныч надевает перчатку, сзади него стоят барыня и Васильевна.
Провожать приходится часто, почти каждую неделю, ехать Егору Иванычу без пересадки восемь часов, утром будет в палате, послезавтра вернется домой. Привыкли.
Когда извозчик тронулся, еще минутку постояли на крыльце, посмотрели на огромную площадь перед домом, совсем темную, с силуэтами больших построек вдали. Вверху колебался огонь звезд, будто мерцанье было от ветра.
Завернул извозчик за угол, за кручараевский дом, стало совсем тихо, будто и не в городе.
Барыня повторяет давешние задумчивые слова:
– Кто смеет здесь страданьями путь звездный оскорблять?
– Тяжело на душе-то у него… – говорит Васильевна и ждет вопроса, но вопроса нет, – Конечно, мужчина, что тосковать, – говорит дальше Васильевна, – скрыть может…
Молчит барыня.
– Ты бы пошла да погуляла, – предлагает Васильевна.
– Куда? – спрашивает, очнувшись, барыня.
– Да вот… по тротуарчику… Вдоль дома… Гладенько, чистенько, никто не обидит…
– Скажешь ты… – лениво говорит барыня.
Хлопает дверь, щелкает английский замок. Тушатся в доме огни. Только у Мишеньки горит ночничок.
Васильевна собирается спать. Помолилась богу. Еще раз посмотрела на Мишенькины глазки, незакрытые, строгие. Мишенька спит, чуть слышно дыхание, и чуть заметно, еле-еле, приподнимается под рубашечкой грудь.
Не идет сразу сон, лезет в старую голову разная чепуха, – то Грушка, то Левка, то будто намочила ноги в холодной воде, то синий паяц хлопает в тарелки и поет, приплясывая:
– Ах ты, бабушка Маланья, разварилась до зимы…
Вдруг все пропадает, Васильевна вздрагивает и, повернув голову к двери, прислушивается. Ясно, что кто-то потихоньку открывает уличную дверь, входит. Ясно, что в передней два человека, они стараются скрыть ночной разговор, смех; тихо, на цыпочках, проходят в комнаты. На секунду под дверью вспыхивает огонь и снова гаснет, и снова тишина…
Тихонько, боже сохрани, чтобы стукнуть, поднимается с своего ложа Васильевна, подкрадывается к Мишеньке и видит: по-прежнему смотрит сонный мальчик. И тонкой, непрозрачной кисеей закрывает тогда нянька его неусыпные, внимательные, строжайшие глаза.
А сама опять становится на молитву и просит:
– Аще не обидь руками твоима раба твоего Михаила малаго. Аще пошли ему дух силы и в головку, и в ручки, и в ножки, и в пальчики. Аще не обидь раба твоего обиженного Егора, пошли ему несмышление, избавь его от черного раздумья и заботливости. И аще пошли ему добычу легкую и скорую на пользу раба твоего Михаила… И аще запрети чреву рабы твоея Евдокии понести, обесплодь ее, но не осуди и помилуй по глаголу твоему и по велицей милости твоей…
До самого утра длится молитва, и когда начинается рассвет, когда часы, неслышные днем, теперь слышно бьют три раза, снова шуршат по комнатам крадущиеся шаги, теперь обратные, снова не умеют скрыть разговора, снова осторожно и отчетливо защелкивается английский замок.
А на полу валяется, раскинув руки, молчаливая кукла, и в щели ставен прокрадываются полоски темно-синего света. Осторожно подходит Васильевна к Мишеньке и снимает с его личика тонкую, непрозрачную кисею.
Седельников
– Местечко нижнее-с, нумер первый-с! – сказал носильщик, отдавая сдачу.
– И отлично, – ответил отставной штабс-капитан Седельников. – Волоки багаж.
– Еще рано-с, – возразил носильщик. – Еще первого звонка не было-с. Пропуску-то еще нет-с. У вас три местечка?
– Три.
– Ну вот-с. Как только звонок-с ударит-с, так мы и тово…
Какой-то человек с бородой, но без усов (не лакей ли?), евший за соседним столом осетрину, взглянул мельком, словно нечаянно, на багаж штабс-капитана, и, конечно, презрительная улыбка скользнула по его лицу.
Седельников стиснул зубы так, что двинулись скулы. «Презираешь?» – хотелось сказать ему. Вот этак, картинно встать, опереться на полку, чтобы видна стала больная, оторванная на войне нога, и со злостью, глядя в упор, сказать: «Презираешь, черти б тебя взяли? Презирай, имеешь право. Смотришь на мой багаж? Любопытствуешь? Изволь, я тебе расскажу про мой багаж. Вот видишь? Корзиночка маленькая, старенькая, перевязанная старенькой же разлохматившейся веревкой. Тут – моя еда. Ты вот ешь осетрину, а я вот посиживаю и курю. В стакане чая себе отказываю. Буду в вагоне из чайника пить. Ты хочешь знать, что в узле? Изволь. И это любопытство твое удовлетворю. В узле – две подушки и одеяло. Одеяло – без пододеяльника. А на подушках – наволочки грязные. А вот в этом ящике – запасная нога моя. Лишняя. На всякий случай. Вот сейчас, опираясь на палку, я пойду за носильщиком. И ты, быть может, догадаешься, если наблюдателен, что одна нога моя – деревянная. Кровь на войне за тебя, холуя, проливал. Чтобы ты свою осетрину мог спокойно жрать. Так-то, братец. Где ногу потерял? А на что тебе это нужно? Потерял, и концы».
Седельников любил вести такие разговоры. Ему нравилось сидеть на вокзалах, в фойе кинематографа, на бульварах в своем городе и думать: вот он сидит один, мимо проходят люди и видят, что человек молчит; прищурился, смотрит на свет божий и молчит. А человек совсем не молчит. Он ходит и не кланяется, а знаком со всеми и беседует со всеми: и с буфетчиком, и с протоиереем, и со смотрителем ночлежного дома, и с кассиршей кинематографа. Он может, если захочет, поговорить и с губернатором, и с архиереем. Может написать письмо даже министру, – кто ему запретит? Разве человек сложен? Всякого можно скоро разгадать: все по утрам пьют чай или хотят пить чай; все между двенадцатью и шестью обедают; все спят, – спят обязательно все: без сна человек жить не может. Все видят сны: кому снится пища, кому – ордена, кому – женщины, кому – лошадь. Ему, например, Седельникову, всегда снится утро мая. Одинаково все, за малыми исключениями, любят женщин. Одинаково все, за малым исключением, боятся смерти.
«Все вы одинаковы! – наставительно говорит людям штабс-капитан. – Вот и вы, сидящие сейчас в зале первого класса. Зачем вы в Москве? Сейчас вот вас здесь человек тридцать восемь. Вы сейчас кушаете, пьете чай, в уме подсчитываете ваши дорожные расходы. А придет такой час, – и все вы будете спокойненько лежать головами к востоку. Все! Ручки вам сложат чуть повыше животика. Ножки обуют в туфельки, – в этакие маленькие, на картонных подошвах, чтобы легче было шагать по горним селениям. А вот попа того, который для желудка пьет ессентуки, оденут в золотую ризу, положат на грудь книгу, закроют лицо вышитым бархатом и над самим ухом будут читать ему евангелие. И удивится мертвый поп, когда услышит евангелие, и подумает: откуда, мол, льются такие прекрасные слова? Откуда такая светлость? Почему в жизни своей я этих слов никогда не слышал? И неужели их теперь читает знакомый дьякон Степан?»
Седельников засмеялся и продолжал свою воображаемую речь.
«Подойти бы к нему и надоумить человека: «Батюшка, – сказать бы, – почто столь много печешися о здравии своем? Посмотри, к чему ведешь ты дело свое. Борода у тебя роскошная, и подтеков под глазами нет, значит, почки твои очень хороши. Губы твои – красные, зубы твои – белые – значит, и все внутри тебя хорошо. Готовишь ты из себя свежий и вкусный кисель для земельных властителей. Стоят ли они, червячки, того внимания?»
Седельников потихоньку смеялся и ясно видел, как человек, уже покончивший с осетриной и теперь доедавший маленькие соленые огурчики, осторожно взглядывал на него.
«Смеюсь? – внутренне рокотал Седельников. – Смеюсь? И буду смеяться. Думаешь, что сумасшедший? Думай. Ничем не рискую».
На платформе один раз ударили в колокол. Швейцар, желтолицый, болезненный, с отекшими, видимо, ногами, провозгласил на всю залу каким-то колючим, скопческим голосом:
– Пер-рвый звонок! Рязань, Козлов, Ростов! Поезд стоит на первом пути!
И сейчас же подошел к Седельникову носильщик и, вытирая руки о фартук, сказал:
– Удачливо вам вышло. Маленькое купе-с. Двухместное. Беспокойства будет не весьма.
– Ну, проводи, – ответил Седельников, и, упираясь в палку, – эх, добрая палка! – поднялся. – Ну, вот, – говорил он, прихрамывая, и – прощай, Москва, прощай, златоглавая! Спасибо за хлеб, за соль. Накормила на мои деньги, матушка! Походил по театрам, посмотрел соборы, памятники, а теперь – домой!








