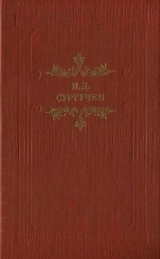
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)
Annotation
Илья Дмитриевич Сургучев (1881–1956) родился в Ставрополе, в семье крестьянина. Ныл близок писателям (Л. Серафимович, Л. Куприн, И Кунин, Л. Андреев и др.), которые сосредоточились вокруг прогрессивного книгоиздательского товарищества «Знание» и находились под могучим влиянием таланта М. Горького.
В произведениях И. Д. Сургучева запечатлена жизнь русского провинциального общества конца XIX– начала XX столетия самых разных сословий, профессий, социальных групп: крупного и мелкого чиновничества, мещан, купечества, разночинного городского люда. В сборник вошли повесть «Губернатор», рассказы «Ванькина молитва», «Счастье», «Родители», «Еленучча», «Седельников» и другие.
Илья Сургучев
«Сургучев обещает немало»
ГУБЕРНАТОР
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
РАССКАЗЫ
Ванькина молитва
Счастье
Родители
В поезде
Соседка
Английские духи
Еленучча
Следы вчерашнего
I. Длинные мундштуки
II. Письмо
III. Профессор
Путь звездный
Седельников
Сон
Смерть
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Илья Сургучев
ГУБЕРНАТОР
ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ


Общественная редакционная коллегия:
ЗАЛЫГИН С. П. – председатель
АСАНОВ Л. Н., БЕЛОВ В. И., ДЕМЕНТЬЕВ В. В., КУЗНЕЦОВ Ф. Ф., ЛИХАЧЕВ Д. С., ЛОМНОВ К. Н., ПАЛИЕВСКИЙ П. В., РАСПУТИН В. Г., ФРОЛОВ Л. А.
Составление Т. Н. Ильинской
Вступительная статья А. М. Кузнецова
«Сургучев обещает немало»
«У Сургучева… язык необыкновенно яркий, красочный, образный, оригинальный и притом такой, которому веришь; чувствуешь, что он не придуман в какой-нибудь литературной канцелярии, а автор либо сам с молоком матери его всогал, либо талантливо подслушал где-то далеко, среди векового простора подлинной России…»
«Мягкое и трогательное «чеховское» настроение проникает его творчество с начала и до конца и окутывает его облаком тихой грусти о страдающем человечестве, все еще не разгадавшем загадку счастья…»
«Автор знает то, о чем пишет, и там, где пишет не мудрствуя лукаво, его рассказ сочен и крепок…»
Цитаты, близкие приведенным, можно было бы продолжать долгот В них – оценка творчества русского писателя И. Д. Сургучева критикой 1910-х годов. Оценка, как видим, доброжелательная, можно сказать даже – высокая. Иных оценок творчества Сургучева, если внимательно перелистать газеты и журналы той поры, мы и не встретим (за исключением суждений «близоруких» критиков, суждений, неизбежных в литературном процессе).
Большевистская «Правда» 26 января 1914 года (тогда она называлась «Путь правды») поставила Сургучева в ряд с лучшими писателями современности: «М. Горький, гр. А. Толстой, И. Бунин… Сургучев и др. рисуют в своих произведениях не «сказочные дали»… – а подлинную русскую жизнь со всеми ее ужасами, повседневной обыденщиной».
«Сургучев обещает немало», – скажет в эти же годы Максим Горький, и его суждение прозвучит в унисон общему мнению.
Почему же писатель, о котором так искренне и непредвзято высказывались лучшие критики, остается неизвестным нашему широкому читателю? Лишь от специалистов – историков русской дореволюционной литературы – можно услышать: да, был такой «знаньевец», которого горячо поддерживал Горький… Да, Сургучев был отмечен немалым дарованием… Выходило собрание сочинений… И пьесы Сургучева ставились с немалым успехом… Однако И. Д. Сургучев практически выпал из истории русской литературы – факт очевидный. Настолько же очевидный, насколько требующий пересмотра.
Если открыть академические истории нашей литературы или же однотомные курсы русской литературы, о Сургучеве мы найдем немного слов (если вообще найдем!). Не о «ярком», «оригинальном» прозаике и драматурге, «обещавшем немало», прочитаем мы там, а о «бытописателе», да к тому же – «темных углов». Оценки, мягко говоря, произвольные. В этом легко убедится каждый, кто откроет настоящий том.
Виновником выпадения из истории родной литературы, из памяти читателя – а что может быть страшнее такой судьбы?! – к сожалению, оказался сам И. Д. Сургучев. Покинувший родину в 1919 году и примкнувший на некоторое время по идейной и политической незрелости к кругам, враждебно настроенным к Советской власти, впоследствии разочаровавшийся в тех, кто втянул его в недостойную истинного патриота политическую игру, Илья Дмитриевич Сургучев стал литературным отщепенцем. Драматична судьба художника, прожившего долгую жизнь, лишь небольшой отрезок которой, 1910-е годы, оставил след в отечествен ной культуре!.. Драматична и поучительна.
И. Д. Сургучев родился 15 (27 по новому стилю) февраля 1881 года в Ставрополе, в городе, с которым связана почти вся его жизнь до эмиграции и который, кстати сказать, первым вернул имя своего земляка из забвения[1].
Сын крестьянина, переселившегося в город, Илья Сургучев с детских лет тянулся к знаниям и потому, закончив гимназию, при первой возможности поспешил уехать в Петербург. Поступил в университет, выбрав редкую специализацию – китайский язык. Окончил в 1907 году восточный факультет, но почти сразу забросил занятия китайским языком, отдавшись литературной работе (впрочем, интерес к литературе и философии Востока сохранил надолго).
Писать Сургучев стал еще будучи студентом и тогда же напечатал свои первые рассказы. Публиковались они в ставропольской газете «Северный Кавказ» и в петербургском «Журнале для всех». А после революции 1905 года молодой литератор попал в среду писателей, группировавшихся вокруг сравнительно недавно возникшего книгоиздательского товарищества «Знание». Держался Сургучев несколько особняком, не сближаясь ни с кем, избегая тесного общения даже с известными писателями (эту замкнутость сохранил он и в эмигрантский период, отделив себя от любых «коалиций»). Переезд в 1907 году, после женитьбы, в Ставрополь вовсе вывел его за пределы непосредственно литературной среды, хотя, печатаясь в сборниках «Знание», он сохранял с ней связь, переписывался с Горьким, Л. Андреевым, изредка с Буниным.
История товарищества «Знание», его роль в литературно-общественном движении начала века сегодня хорошо изучена. То, что Сургучев весьма активно сотрудничал с товариществом, подчеркивает демократические тенденции его творчества, созвучного творчеству коренных «знаньевцев», в большинстве старших по возрасту.
Товарищество возникло в 1898 году по инициативе либерального Комитета грамотности и первоначально преследовало просветительские цели. В 1900 году в него вступил Горький. С его приходом товарищество изменило характер, ибо Горький – теперь один из идейных руководителей издательства – реорганизовал его, наладив выпуск Художественной литературы, адресованной массовому читателю. Товарищество давало широкую возможность печататься писателям – представителям так называемого «нового реализма», как на первых порах критика окрестила творчество самого Горького, а также Скитальца, А. Куприна, В. Вересаева, Л. Андреева, И. Бунина, Н. Гарина-Михайловского и других литераторов демократического лагеря. Сам факт возникновения подобного, нового для России типа издательства был вызван, в первую очередь, ширившимся распространением в стране социалистических идей, резкой активизацией общественной жизни.
Горький же стал инициатором издания сборников «Знание» (№ 1 вышел в 1904 году), знакомивших публику с новинками, в которых отразились общественные настроения эпохи Первой русской революции, а затем – и наступившего за ней периода реакции. В сборниках «Знание» нашел яркое отражение революционный подъем в стране, протест против царской политики контрреволюционного террора, подавления общественных свобод. Сборники были чрезвычайно популярны как среди читателей, так и в писательских кругах. Кроме тех, кто назван выше, в них печатали свои произведения Н. Телешов, С. Гусев-Орснбургский, Е. Чириков, А. Найденов и ряд других писателей, входивших прежде в литературный кружок «Среда». Публиковались неизданные рассказы Чехова. Постоянно сотрудничал в сборниках и сам Горький, который в первом номере опубликовал поэму-манифест «Человек».
Как видим, сборник, созданный Горьким, собрал под одной обложкой имена, сегодня неотделимые от истории отечественной культуры. В. И. Ленин, знакомясь со сборниками «Знание», отметил, что это были издания, «стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы»[2]. А. Серафимович, один из «знаньевцев», вспоминал впоследствии: «Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям».
Горький, чутко встречавший молодых писателей, привлекал их к сотрудничеству в «знаньевских» выпусках. Привлек он и Сургучева. В письмах начала 1910 года к М. Коцюбинскому и В. Миролюбову (одному из ведущих сотрудников издательства «Знание» с 1911 года) он писал, что у Сургучева «хорошие задатки» и – «большой он поэт…» (самому Сургучеву Горький писал радостно-подбадривающие письма, на которые молодой литератор отвечал длинными, содержательными посланиями). А. М. Горький советовал Е. П. Пешковой прежде всего читать Бунина и Сургучева, ставя их выше многих писателей-современников.
Рассказы молодого Сургучева печатались в сборниках «Знание», соседствуя с реалистическими, нередко острыми и смелыми произведениями опытных «знаньевцев». В 1912 году в 39-м номере была опубликована повесть «Губернатор», с одобрением встреченная Горьким (как и большей частью критиков). Еще до публикации ее Горький проявил живейшее участие в работе Сургучева над книгой, обсуждал и сюжет ее, и эпизоды, что нашло отражение в их переписке, ныне частично опубликованной. С симпатией отнесся к Сургучеву и Бунин, к тому времени уже прославленный писатель.
В 1907 году Сургучев, как сказано, вернулся в Ставрополь, и наезды в Петербург и Москву стали эпизодическими, связанными с издательскими делами, позднее с постановками пьес. Живя в Ставрополе, преодолевая замкнутость, писатель старался найти приложение своим творческим силам. Сплачивая местных литераторов, добился издания альманаха, регулярно печатал очерки на общественные темы в газете «Северный Кав каз», следил за новостями русской литературы и жизни страны в целом. В переписке с Горьким эти стороны жизни молодого ставропольского писателя раскрываются очень ярко.
Ставрополь в те годы был развивающимся промышленным центром на пересечении крупных торговых путей. Город, несмотря на все признаки провинциальной затхлости, имел «свое лицо», быть может благодаря очень пестрому этническому составу жителей; бился в нем и «пульс» политической жизни – город гордился тем, что в Государственной думе постоянно заседали несколько его депутатов – представителей Северокавказского края, причем голос их был не последним при решении серьезных государственных вопросов; городские власти стремились «идти в ногу с прогрессом», поэтому столица края интенсивно застраивалась промышленными и торговыми предприятиями.
Наблюдательному писателю, каким был Сургучев, Ставрополь дал основное – богатый художественный материал. А «Губернатор» стал своего рода летописью, пусть краткой, но исчерпывающей летописью жизни южного города. Писатель не указывал места действия повести (как и рассказов), но современники, следившие за жизнью страны, всех ее уголков, по многочисленным периодическим изданиям той поры, узнавали и прототипы и реальные события.
События, происходившие в Ставрополе, были те же, от которых сотрясалась Россия: стачки, бомбометания, ответная жестокость полиции. В «Губернаторе» поэтому нетрудно обнаружить сходство с многими книгами, предшествовавшими ему, прежде всего с романом Горького «Мать» (1906), с его же повестями «Городок Окуров» (1909) и «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910–1911), с произведениями Л. Андреева, А. Куприна, но особенно с теми, в которых авторы пристально всматривались в мелочи провинциальной жизни, тщательно прорисовывая их, охватывая все, что относилось к условиям существования «обыкновенного российского провинциала». Повесть поэтому близка, например, также незаслуженно забытым сегодня, а в свое время очень популярным (еще и в двадцатые годы) повестям Н. Н. Русова… Но подчеркну сразу же, что Сургучев при всей его любви к деталям никогда не замыкался в камерном бытописательстве (что присуще талантливому Русову), неизменно ставя перед собой более масштабные художественные задачи.
Первые же рассказы Сургучева свидетельствовали, что в русскую литературу пришел самобытный талант. Их сравнивали с рассказами Чехова, что было справедливо: Сургучева тоже интересует жизнь простых людей, внешне незаметная, в недрах которой, однако, происходят события, исполненные высокого смысла. Сургучеву важно понять внутренний мир человека, заглянуть в него как можно глубже, до самого «сокровенного».
Читая Сургучева, действительно вспоминаешь мир чеховской прозы, построенный целиком на душевной жизни с ее тревогами, надеждами, эмоциональными и интеллектуальными движениями, влияющими на образ мыслей героев, на их «социальное поведение».
Герои Сургучева, впитывая все, что несет с собой действительность, бурные события, перетряхивающие привычный уклад, воспринимая новое болезненно остро, вместе с тем сохраняют поражающую невозмутимость духа, не утрачивают какой-то особой, «корневой» своей закалки. Вот отчего рассказы Сургучева (при всем их драматизме) оставляют ощущение оптимизма, даже радости, ощущение внутренней просветленности, духовного здоровья. Этими свойствами они отличаются от сочинений многих современников Сургучева, в этом их особое значение…
И даже если встречаются у Сургучева персонажи изломанные, внутренне растерянные, живущие как бы «настороженно» – подобные тем, каких мы встречаем и у Горького, и у Андреева, и у Телешова, и у Сергеева-Ценского, то, при всех их странностях (как у героев повести «Губернатор» или рассказов «Седельников», «Горе»), мы все время ощущаем их духовное ядро, помогающее им стойко противостоять болезненним ударам жизни. Сургучев постоянно сострадает своим героям и делает это потому, что ему удалось разгадать, уловить их душевную основу, природу их стойкости.
Быть может, стоит все же пояснить, откуда берут силы герои Сургучева для своих «тайных подвигов» и что является ядром их души. Это – убежденность в том, что жизнь, их собственная, как и вообще жизнь, всегда освещена смыслом, освещена в любой миг, – «несмотря ни на что». Смысл этот они находят прежде всего в вечных ценностях – красоте, любви.
Красноречиво авторская позиция раскрывается в рассказе «Седельников». Интересен ли его главный герой, симпатичен ли? Нет. Что может быть привлекательного в озлобившемся на весь мир человеке? Потеряв ногу в русско-японской войне, Седельников утратил всякое расположение к другим. Но что же происходит? Седельников садится в поезд… Вместе с ним в купе находится пара, вызывающая у него приступ злобы. Стоило лишь прелестной чете выйти из купе, как наш герой обнаруживает оставленный женщиной букет белых роз, подаренных ей. Седельников «наклоняет к ним лицо и чувствует, как струится из них аромат, белый, чуть ощутимый аромат: дыхание полюбившей. И ясно: ни роз своих она не забудет. Ни слов своих она не забудет… Ни слез своих она не забудет». Седельников обрывает лепестки и кладет их в записную книжку между страниц, заполненных подсчетами долгов, рецептами и прочими ничтожными записями. Он укладывает лепестки, и вдруг, как озарение, его наполняет какое-то счастливое состояние и понимание того, что вокруг «все ласковые люди». «Как хорошо!» – этим возгласом заканчивается новелла о возрожденной душе.
«Как хорошо!» – эти слова, похожие на девиз, можно «расслышать» и в других рассказах Сургучева. И в этой неброской реплике можно уловить ту же чеховскую интонацию примирения с жизнью, «какой бы она ни была».
Сургучев писал в эпоху сложную, подверженную колебаниям общественных настроений, прямо влиявших и на эстетику творчества. В литературе, заполнявшей книжный рынок, сплошь и рядом звучали мотивы безысходности бытия, бессилия человеческой личности перед лицом взметнувшихся социальных бурь. Андрей Белый, писатель выдающийся и очень наблюдательный, искренне признавался: «Еще недавно мы были на прочном основании. Теперь сама земля стала прозрачна. Мы идем как бы на скользком прозрачном стекле, из-под стекла следит за нами вечная пропасть. И вот нам кажется, что мы идем по воздуху. Страшно на этом воздушном пути. Можно ли говорить теперь о пределах реализма? Ныне реалисты, изображая действительность, символичны: там, где прежде все кончалось, все стало прозрачным, сквозным».
В ситуации, описанной Белым, крайне важна была четкость позиции писателя. Таких писателей, не растерявшихся, сохранивших нравственную твердость, было не так много. К тем, кто не испугался «вечной пропасти», следует отнести и Сургучева, не отступившего ни от демократических идеалов, ни от реализма в изображении действительности.
Чувство «прозрачности» жизни, на которое указывает А. Белый, то есть трагедия ее, переживалось писателями-реалистами и философски. В суть происходящих событий они проникали как мыслители, как моралисты. Еще недавно Чехов показал это на примере своего творчества. Хотя он и далек был от морализаторства, от прямой тенденциозности, но герои его так или иначе всегда устремлены к поиску смысла жизни. Творчество Льва Толстого также коснулось серьезнейших проблем. И очевидно, что уроки Толстого не прошли мимо Сургучева, как не прошли они для любого честного писателя той поры. Вспомним написанные в те же годы, полные нравственного пафоса повести и рассказы А. Толстого, Куприна, Вересаева, Серафимовича.
Горький, откликаясь на смерть Толстого, писал Е. П. Пешковой: «С ним исчезает старый паладин правды, уходят аристократические традиции литературы – и как раз тогда, когда необходимо их возрождение, необходима строгость мысли и образа, воздержанность и скромность языка… Его слово должно было как-то действовать на совесть людей, отвлекало их от будничного и низкого – к настоящим, коренным и чистым заветам литературы. Уходит судья».
Возвышенность толстовского слова, нравственная проповедь писателя нашла резонанс и в книгах Сургучева, также с болью пережившего кончину апостола русской литературы. Если Чехов привил ему, как писателю, психологизм, правдивость во всех «мелочах», то Лев Толстой обратил интерес писателя к насущным вопросам жизни, к нравственным проблемам. Толстой как бы привил ему иммунитет против бытописательства как самоцели, против эстетства, черт, к которым были склонны писатели-декаденты.
В повести Сургучева «Губернатор», центральном произведении писателя, уже сам строй фразы выдает прямое воздействие на него поздней прозы Толстого:
«Сделалось (губернатору. – А. К.) ясно, что нужно бы как-нибудь загладить это далекое прошлое, когда за службой, как за высокой стеной, не было видно жизни, когда совсем не думалось о смерти, когда важным и значительным обстоятельством считалось печатное предписание из министерства… Стало ясно, что перед смертью нужно исправить все зло, которое он сделал на земле».
Разве не слышатся в этих строках интонации автора «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича»? Голос морализующий, голос строгого судьи. Сургучев, разделяя духовный поиск великого писателя, ставил те же темы нравственного перерождения личности, ее освобождения.
Давая характеристику губернатору, переосмысливающему свою жизнь, Сургучев почти цитирует Толстого (вспомним рассуждения о Нехлюдове в конце романа «Воскресение»): «Все ясней и ясней становилось, что в своей длинной губернаторской жизни он далеко отбросил от себя то высокое и истинное, чем бог благословляет человека. Теперь понемногу рассеивается липкий и густой туман, который он принимал за воздух, и стало ясно, что не было в его жизни горячего солнца, яркого света» И так далее на многих страницах…
История губернатора, которую воссоздал Сургучев, это обобщенная история социального банкротства правящего слоя (у губернатора в повести даже нет имени!), но одновременно – история морального крушения человека, крушения, за которым следует попытка исправить зло, свершенное за долгий период фальшивой жизни. Зло было и прямым – убийство крестьянина Волчка, порка крестьян, приказ расстрелять толпу, создание беспрецедентно жестокой и по тем временам полицейской машины, где особенно «отличался» садист-городовой Пыпов, и «косвенным» – пре небрежение нуждами близких, равнодушие к собственной жене и проч. и проч.
Когда приходит прозрение, губернатор решает исправить все прежнее зло самыми неожиданными поступками: например, попыткой выпустить заключенных из тюрьмы. Затея, естественно, оказалась невыполнимой – на подобные распоряжения губернатора сначала смотрят как на старческую причуду, затем – как на сумасшествие.
В бюрократическом механизме губернатор не может изменить положение ни единого рычага. Как «выжившего из ума» его отстраняют от исполнения своих обязанностей. Покинутый всеми, он в конце концов теряет и горячо любимую, хотя и не родную, дочь – она погибает от тайных родов. Не выдержав всех ударов, губернатор умирает.
Заканчивается повесть на светлой ноте (поразительны сцены видений губернатора на смертном одре!): борьба со злом принимала у губернатора нелепые, порой комичные формы, внешне он так ничего и не смог изменить ни в своем, ни в чужом существовании, но те моменты внутреннего совершенствования, которые он пережил, стали высшими достижениями его жизни.
Оправдывает ли Сургучев все злые деяния губернатора его запоздалым раскаянием? Разумеется, нет. Но этот последний его шаг, шаг к целенаправленному добру, считает автор, очень важен, ибо он уменьшает – хотя бы на незаметный градус – царящую в мире несправедливость.
Если проследить за поступками губернатора после перерождения, то станет ясно, что он избегает таких действий, которые можно было бы на звать «недобродетельными», он вообще «пассивен», но не столько от того, что смертельно болен, сколько от того, что не желает делать зло. В этом «недеянии» губернатора много сходного с толстовским «освобождением» от гнета общества (в данном случае «испорченного общества»). Весь образ жизни губернатора совпадает с тем, что проповедовал в конце жизни Толстой-моралист.
Интересно, что Горький, обсуждая в письмах отдельные эпизоды по вести, прямо направлял писателя к «высокому» – общечеловеческому, нравственному, предостерегал от слепого копирования реальных событий. «Милый Илья Дмитриевич!.. Чего боюсь? – писал Горький 10 января 1912 года. – А того, чтобы Ваша история с действительным губернатором но отразилась на губернаторе Вашей повести, чтобы нищая и уродливая правда нашего момента жизни не нарушила высокой правды искусства, жизнь которого длительнее нашей личной жизни, правда важнее жалкой правды нашего сегодня».
С пристальным вниманием относясь к литературной деятельности Сургучева, Горький старался также своевременной и порой нелицеприятной критикой всячески способствовать идейному и творческому росту его дарования, подчеркивая всякий раз, что единственно правильный путь, по которому молодому писателю следует идти, – демократический. «Я знаю Вас литератором, человеком несомненного и, мне кажется, крупного дарования – это мне дорого, близко, понятно; я хочу видеть Вас растущим и цветущим в этой области; каждое Ваше литературное начинание возбуждает у меня тот же острый органический интерес, какой, вероятно, чувствует девица к своей беременной подруге. Не смейтесь сравнению: истинный литератор пред каждой новой темой – девственник».
Однако столь же пристальное внимание великий писатель уделял и попыткам Сургучева делать шаги в общественно-политической деятельности. В письме от 26 января 1912 года, в ответ на сообщение о попытке «выступить с кандидатурою в Гос. Думу», Горький прямо пишет: «…мне думается, что преобладающим Вашим свойством является созерцание, а не деяние. Я не знаю также объема Ваших политико-экономических сведений и не могу поэтому судить о степени подготовленности Вашей к политической работе… Говоря безотносительно, я скажу более определенно: литератор, если он чувствует себя таковым, – должен оставаться литератором: у нас на Руси это самый ответственный и трудный пост». Год спустя, ознакомившись с недопустимо разухабистым письмом Сургучева в журнале «Кругозор», Горький строго, но по-дружески советует ему беречь свое доброе литературное и человеческое имя: «…тон письма Вашего убийственно нелитературен, точно вы, сидя в халате после бани и выпивки, рассуждаете… Вы странно смешали журнал с предбанником, чего не надо было делать… Вы вероятно рассердитесь и, может быть, закричите мне, какое право имею я учить Вас? Право сказать молодому литератору, что он не понимает куда пришел и как надобно себя вести в этом месте, – мне дано двадцатью с лишним годами работы моей в русской литературе. Это – неоспоримое право. У Вас его, пока, нет. И Вы, пожалуй, вовсе никогда не приобретете его, если будете вращаться среди Ясинских, Сологубов и прочих артистов для кинематографа и уличных забавников, не достойных стоять рядом с Вами, человеком талантливым и, как показалась мне, относящимся к литературе с тем священным трепетом, которого она – святое и чистое дело – необходимо требует…
Дорогой Илья Дмитриевич! Ведите себя поскромнее, потише, стойте подальше от авантюристов и пьяниц, это для Вас – для Вашего таланта – гораздо лучше…»
Призывы Горького оставаться литератором, не нарушать высокой правды искусства, служить литературе со священным трепетом были созвучны тому, что переживали в те сложные в нравственном и политическом отношении годы лучшие представители художественной интеллигенции. Блок, в частности, писал: «Несчастен тот, кто не обладает фантазией, тот, кто все происходящее воспринимает однобоко, вяло, безысходно; жизнь заключается в постоянном качании маятника; пусть наше время бросает и треплет этот маятник с каким угодно широким размахом, пускай мы впадаем иногда в самое мрачное отчаяние, только пускай качается маятник, пусть он даст нам взлететь иногда из бездны отчаяния па вершину радости».
В «Губернаторе» качание маятника, о котором пишет Блок, представлено в его высшей точке – в той радости нравственного возрождения, которую пережил герой. Эта нота «радости» в блоковском смысле, следование «высокой правде» искусства, как и острая обличительность, делают повесть Сургучева одним из лучших произведений русской прозы предоктябрьского периода.
Надо сказать, что «Губернатор», бесспорно этапное для Сургучева произведение, все же оказалось единственным, в котором «тенденциозность» и прямое морализаторство выступают обнаженно. В рассказах Сургучев менее дидактичен, «диалектика души» раскрывается им тоньше, без всякой заданности, в какой-то степени он даже становится оппонентом Толстого.
Вникнем в рассказ «Счастье». Толстовскую мораль Сургучев вкладывает здесь в уста портного Петухина – «правдоискателя», повидавшего в жизни «невеселые, горькие виды». Петухин резко осуждает нынешнее «устройство жизни»: «С одной стороны люди поразительно умны: они додумываются до железных дорог, телефонов, будильников… – все хорошо делают для тела; а для души, которая есть самое главное, от чего зависит счастье, они сочинили законы, которых вот уже две тысячи лет не хотят переменить, которые и жестоки, и несправедливы, которые жизнь делает адом. И все это похоже, думал Петухин, будто люди придумали обувь легкую, красивую, прочную, а саму дорогу, по которой идут, не хотят исправить…»
Уже в этой сентенции толстовская мысль о неумении людей распознать главное в жизни звучит почти пародийно, ведь автор вложил ее в у(;да человека, который повсюду выискивает несправедливость, но «исправляет» ее на свой лад – со злостью, бессердечно. Человек, вырвавшийся из пут несправедливости с помощью Петухина, в конце концов по падает в новые путы, еще более страшные. Так и случилось с Таней, которую Петухин вырывает из ада жизни с нелюбимым мужем. Один ад оборачивается другим, к которому Петухин, как он сам заявляет, не хочет больше иметь «касательства». Критика толстовской морали сводится в рассказе к важной мысли, которую Сургучев повторит в других, своих вещах: человеку невозможно навязать следование законам «добродетельной» жизни, он может ее, эту жизнь, лишь выстрадать, пройдя сквозь трагические испытания, познав себя, поняв окружающих.
В такой позиции автора еще раз проявилась классическая традиция мировой литературы, смысл которой хорошо передают слова великого английского гуманиста Ч. Диккенса (цитирую именно его, чтобы под черкнуть общечеловечность позиции русского писателя):
«В жизни есть тайная борьба и тихая, никому не ведомая победа в глубине человеческих сердец. В жизни, при всех ее противоречиях и изменчивости, все же встречаются геройские подвиги самоотвержения, совершить которые тем труднее, что они происходят без свидетелей и не заносятся ни в какие летописи. Это мы видим всякий день при самой серой, будничной обстановке. Одного подобного подвига достаточно, чтобы примирить с жизнью самого черствого человека, наполнив душу его верой и надеждой…»
Эти «тайные подвиги» и совершают герои Сургучева, и всякий раз подвиг этот завершается непреходящей победой в их сердцах, а значит, и в мире, который от таких побед становится добрее.
В том же рассказе «Счастье» есть второстепенный персонаж – церковный сторож, «лохматый, с длинной седой бородой и густыми, нависшими над глазами бровями». Очевидно, что его Сургучев противопоставляет «правдолюбцу» Петухину. Он почти бездействует, изредка возникая как бессловесный театральный персонаж, но каждое его появление запоминается. Он не забывается и тогда, когда закроешь рассказ. Именно от того, что он никого не поучает, но – и это мы остро чувствуем – он тот человек, который устремлен к реальному поиску смысла жизни, который и может совершить в глубине души «тайный подвиг», подвиг понимания жизни. Вот как рисует старика Сургучев: глаза его «почти не моргая смотрели в середину церкви и видели, казалось, только массу свечей, и только эта масса, масса огня, жившего какой-то особенною, своею жизнью, привлекала его внимание и живыми пятнами скользила у него по лицу. А остального – народа, икон, священника – словно и не существовало… Думал он, думал упорно, настойчиво…»
Таких людей, «упорно, настойчиво» думающих о главных вопросах жизни, немало у Сургучева. Разве губернатор (при всей заданности авторской позиции) не из той же породы?.. А в прекрасном рассказе «Еленучча», «красавец русский», в которого влюблена Еленучча, тоже упорно думает о чем-то своем, никому не ведомом, и читатель, конечно, останется убежденным, что и его мучит та же «главная мысль», которая вставала перед людьми горьковского и блоковского поколения.








