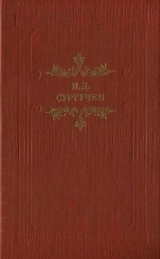
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
– Вот видишь? В этом номере напечатан мой рассказ. Прочти-ка! И смотри! Видишь? Подпись «А. Егоров». – И он ногтем придавил то место. – Теперь я, брат, литератор…
Он спросил: «А на службу? не думаешь поступать?» Саша только усмехнулся и через два дня уехал, и опять, когда они, провожая, стояли на платформе, в голове Ивана Трифоныча вертелись слова: «Люди, газеты, опера…» И было ясно, что какие-то люди, газеты, опера отнимают у них сына и что, в сущности, не надо было целый век гнуть спину, трудиться, наживать четыреста тысяч..-.
И вот, шесть месяцев тому назад, на имя Ивана Трифоныча пришла из Петербурга заказная бандероль. В ней была вложена небольшая желтенькая книжка, на обложке которой, вверху, раздельно и ясно, было напечатано: «Александр Егоров», а пониже, еще крупнее, во всю ширину листа, стояло: «Рассказы». У старика задрожали руки… Саша написал целую книгу! С гордостью он подал ту книгу старухе и сказал, волнуясь:
– Вот, мать, Саша-то! Книга-то! Его сочинение!
Старуха, неграмотная, ласково улыбаясь, вертела книгу в руках, перелистывала неразрезанные листы, и на глазах у нее блестели слезы.
– Это что же? – спросила она, – Из своей головы Сашенька написал или так?
– Нет! – гордо усмехнулся старик. – У соседа ходил голову занимать!
И она долго, точно силясь понять и разобрать те длинные и черные строки, которые прежде чем попасть в книгу, были в голове Сашеньки, всматривалась в них и вздыхала: зачем она не умеет читать!
Он отлично помнит, как в тот же день он благоговейно разрезал желтенькую книжку, потом отвернул первый лист и начал читать… И помнит он, как чем дольше читал страницы, написанные рукой его сына, тем более и более росло в нем недоумение, и в то же время какой-то необъяснимый страх охватывал его.
«Зачем он это пишет? – вертелись в голове беспокойные думы, – Зачем он пишет об этом?»
Неужели в столицах только и замечательного, что падшие женщины, вертепы всякие, пьяные, разгульные ночи, побоища? Во втором рассказе Сашенька описывал каких-то маляров, грязных, оборванных, ругающихся между собой. В третьем рассказывал про студента, который пил водку и сделался босяком. И вся книжка об этом. О тех мерзких, продажных женщинах, имя которых никогда не произносилось в их благочестивой, богобоязненной семье, о которых боялись думать, – Сашенька говорил публично, в печатной книжке, так же просто, как о хороших купцах или почетных гражданах. Записывал речи маляров, рисовал жизнь падших женщин, их слезы, страдания. И неужели Сашенька, этот милый и чистый, на которого когда-то ветрам не позволяли дуть, знаком со всей этой грязью, ходит в дома, участвует, быть может, и сам в этих разгулах? Да и наверное участвует, – иначе он и не знал бы этой жизни, не описывал бы ее так подробно, с такой жалостью, с такой грустью, от которой при чтении душа сжимается, на глазах навертываются слезы и делается стыдно, что на свете есть нужда, такая огромная, гнетущая, а у тебя в банке лежат без дела четыреста тысяч и ты, только вдвоем, живешь в большом, просторном доме, ешь каждый день вкусные обеды и пьешь чай с сухарями утром и вечером. А люди, несчастные, забитые, ожесточаются, называют жизнь бессмысленной, жестокой, проклинают ее, заливают горе вином, и их тащат в участок, бьют сапогами по лицу; а проснувшись поутру, они плачут, и опять с прежней силой на их плечи наваливается старая тоска, и в то же время, такие жалкие и несчастные, они не верят в бога, в ангелов-хранителей, посылаемых каждой душе христианской, ни в загробную жизнь, ни в причастие. И старик здесь возмущался… Он знал и мог согласиться, что можно скучать и тосковать, если подойдет глухая, одинокая старость, если около тебя не улыбается молодое, милое лицо, для которого жил, трудился, – но говорить о тоске и скуке жизни, о ее бесцельности, когда на небе есть милосердный бог, который все даст, все пошлет, все простит, припади только с верою пред его распятием; когда будет святая загробная жизнь, ради которой целые миллионы людей молятся, постятся, отрекаются от земной жизни, живут в пещерах и спят в гробах; когда настанет час, в который все умершие восстанут, и оживут, и услышат глас сына божия, – это для него казалось диким и нелепым. Прежде он знал, что Саша далек от него, чужд ему; а теперь стало ясно и то, что Саша сбился с дороги, пошел не по тому пути, стал, быть может, несчастным человеком… То же самое говорил и Михайло Михайлович.
И теперь, каждый вечер, напившись чаю, Иван Трифоныч ходит сгорбившись по ковровой дорожке из залы в гостиную и думает. Где Саша? Может быть, он сейчас сидит где-нибудь в притоне и говорит, как пьяный студент в его книжке, о том, что нет бога, что жизнь скучна и мерзка? Может быть, он тоскует и пьет водку, плачет? И старик чувствовал, что эти думы съедают его, как огонь свечу. Пусть Саша не хочет земного счастья, пусть не нужны ему родители, чины, ордена; но зачем он душу свою губит? Сколько раз хотел он написать ему в Петербург, чтобы он верил в бога, не забывал его, молился ему, – брал перо, долго смотрел в чистую бумагу, которую раскладывал перед собой, и не находил слов.
Долго ходит старик. И когда сердце его заполняется тоской и отчаянием, когда ему трудно становится дышать и по лицу льются слезы, – он близко подходит к темным образам, в которых скрывается счастье и его, и сына, и всего мира; долго глядит в пятно, отраженное стеклом от красного света дорогих хрустальных лампад, – и шепчет свою заветную думу:
Господи! Господи! Батюшка! На тебя одна надежда моя! На тебя! Пошли ты ему, милостивый, веру в тебя! Укрой его! Упаси его!
И слезы бегут но щекам веселыми капельками…
– Старик! Старичок! – раздается вдруг из гостиной ласковый голос. – Ужинать иди! Уже готово.
Иван Трифоныч вздрогнул, быстро вытер лицо и откликнулся:
– Иду! Иду!
На пороге, в полосе света, которую бросала из столовой лампа, стояла старуха и улыбалась ему навстречу.
– Опять, опять, старичок? – с ласковым укором сказала она, замечая, что глаза его красны. – Ну зачем, зачем это? Зачем, дорогой мой, старичок мой? Опять тоскуешь? Ведь Сашенька приедет к нам! Он будет с нами! Вот поверь мне! Чем хочешь отвечаю тебе: он будет с нами! И мы, все трое, будем жить в этом доме, тихо, мирно. Мы с тобой тихонько будем доживать век свой, а он будет писать свои рассказы. Теперь ты читаешь их, а тогда он сам будет читать их. Он приедет к нам! Приедет… Ведь в Питере жить плохо, ему там не нравится, – я знаю, знаю! А у нас придет весна, зацветут яблони, вишни, на пруду заколосятся камыши, – он это любит, он говорил мне. И говорил он мне, что звезды у нас серебряные, яркие, – а там, в Питере, не видать их из-за домов; а если и увидишь, то оне маленькие, тощие, чуть видные… Как же он будет жить? Чудачок ты этакий! А ты тоскуешь… Эх, ты!
Иван Трифоныч с улыбкой смотрел на нее, на ее верящие, ласковые глаза, и ему стало легко.
– Ну, ну, хорошо! – сказал он. – Пусть едет! пусть! Места у нас много, дом большой, тихий…
После ужина Марья быстро прибирает со стола посуду, вытирает тряпкой клеенку и застилает ее поверх скатертью, а потом одергивает свои рукава и садится в уголку комнаты.
– Ну, что же? – говорит Иван Трифоныч, лукаво улыбаясь и чувствуя себя господином положения. – Надо ночь делить. Стели-ко, Марьюшка, постельку! да баиньки! на спокой!
– Ну-у, Иван Трифоныч! – разочарованно протягивает старуха, – Спать! С этих пор, с десяти часов! Еще успеешь: ночь – год. Наспишься! Ты почитай нам лучше Сашеньки-ну книжку…
– Да ведь и так всю прочитали! – говорит Иван Трифоныч. – Самая малость осталась до конца.
– Ну, да! малость! Рассказывай! Эх, будь я грамотная!.. Не стала бы просить! Сама бы так отчитывала, что мое вам почтение! Сходи-ко в кабинет, Марьюшка, принеси книжку-то! Знаешь, желтенькая, с краю на этажерке лежит…
– Знаю, знаю! – говорит Марья и исчезает за дверью, громко шлепая по полу босыми ногами.
– Эх, будь я грамотная!.. – задумчиво повторяет старуха, и глаза ее загораются, – Да я бы!.. – Она машет рукой и останавливается, в бессилии выразить то, что сделала бы тогда. – Я бы каждый день ему письма писала! И такое бы писала, что ах! Сказать не могу! Мне тоже скучно, старик! И как скучно бывает-то! До краев душа переполняется! И ничего сделать с собой не можешь… А иногда как подумаю, да посмотрю на свет божий, да гляну на небо, а там божьи звездочки теплятся, да месяц погуливает, да тучки несутся, – и такой радостью тогда загорится сердце мое! И тогда я не только тебя люблю, Сашеньку, Марью, дом наш, – а и Петербург люблю, и Москву люблю, и все, все я люблю! И вот тогда хочется мне Сашеньке писать письма! Очень хочется! И не умею! Не умею, старик!
Иван Трифоныч глядит на нее, улыбается и думает, как похож на нее был Сашенька, когда говорил ему, что он теперь будет в газетах писать и на службу не поступит. Глаза у него были точь-в-точь такие, как сейчас у старухи: так же горели, блестели, так же размахивал он руками… Точь-в-точь! И Ивану Трифонычу становится почему-то весело.
Но вот по залу опять раздается шлепанье босых ног, и в комнате появляется Марья с книжкой в руках. На лице ее изображается необычайно торжественное выражение и удовольствие…
Иван Трифоныч берет книжку, достает из футляра очки, долго протирает их, поглядывая на свет, потом надевает, солидно кашляет, разворачивает книжку в том месте, где лежит бисерная закладка, проводит по корешку листов ладонью, снова кашляет и, наконец, говорит важным, необычно торжественным голосом:
– Ну-с, прочтем! Вчера остановились на двести шестьдесят первой странице…
Затем он еще раз оглядывает своих слушательниц долгим, строгим взглядом и начинает, глядя в книжку:
– Было море, далекое-далекое. Этого моря нельзя увидеть отсюда никоими способами, даже если влезть на самую высокую гору и смотреть в самую лучшую подзорную трубу, стоящую сто рублей…
Иван Трифоныч перевел дух и посмотрел на окно, в котором отражались и лампа, и он сам, и старуха с чулком…
– По морю, конечно, плавали корабли и возили товары. Ездили купцы и бывали бури. В бурю корабли разбивались о скалистые берега, и тогда матросы и купцы гибли, а которые спасались, те выходили на берег и, мокрые, озябшие, становились на колени и молились богу…
Иван Трифоныч, наслюнив палец, медленно переворачивает страницу.
– И вот однажды шел корабль по имени «Крылатый»…
Он усиленно напрягает мозги, стараясь создать что-нибудь интересное, захватывающее; припоминает все, что ему приходилось читать в житиях святых, в газетах, что рассказывал Михайло Михайлович, и сочиняет, сочиняет, перелистывая страницы, в которых написано о мерзких женщинах, малярах, побоищах и о всем том, чего старухе слушать нельзя.
– Везли на нем товаров тьму-тьмущую! – медленно выдумывает старик. – И товар был не простой, а выписывал его царь персидский, дочку свою выдавал замуж и готовил приданое. Потому по нынешним временам и в Персии, дикой стране, без приданаго не очень-то берут. Там были бриллианты, сапфиры, дорогие шелковые и парчовые ткани по сто рублей за аршин, башмачки, осыпанные жемчугом; а что пуще всего берегли купцы, это был ларчик, спрятанный на самом дне корабля. А в ларчике том, на бархатном футляре, лежала корона из упавших звезд.
Иван Трифоныч постепенно, сам не замечая того, увлекается, забывает переворачивать страницы и смотрит все в одно место; а глаза его оживляются, и картины, одна за другой, вырисовываются в воображении, и он, как умеет, просто, бесхитростно рассказывает их своим слушательницам. Тут действуют и колдуны со своими страшными заговорами и заклятьями, и звери с хвостами в сто верст, и почему-то телефоны. Добродетель борется со злом и после огромных усилий, при помощи благодетельных гениев, побеждает, конечно. И вдруг, в самую интересную минуту, сквозь радугу собравшихся образов, Иван Трифоныч снова слышит робкий голос жены:
– Старик! Старичок! – И вздрагивает…
– Ну, чего еще? – недовольно спрашивает он и сердито смотрит на нее через очки…
Иван Трифоныч очень не любит, когда ему мешают при чтении, потому что, во-первых, можно сбиться, а во-вторых, он уже и сам начинает верить в то, что рассказывает, и кажется ему, будто он действительно читает по книжке, а не сочиняет, и слова, красивые и звучные, свободно вылетают из груди, и кажется, будто рассказываешь о таких случаях, которые действительно бывали в жизни, только много-много лет тому назад, или, по крайней мере, обязательно будут когда-нибудь.
– Да ведь ты, милый, опять про корабль читаешь… и про корону… – говорит старуха, разматывая клубок. – Ты нам онамеднясь читал об этом. И как водяной дно ему поцарапал, хотел дыру прогрызть, и как монах на коленках молитвы стал читать по молитвеннику. Только монаха-то будто звали Антонием, а не Иваном… И опять, птиц этих не было.
Иван Трифоныч сразу смутился, потерял уверенность, виновато заморгал, потрогал очки и нерешительно заметил:
– Как читал? Не может быть! Не мог я этого читать! Мы до этого еще не доходили!
И он, еще более смутившись, покраснев от волненья, быстро перелистывает книгу, озабоченно разглядывая что-то по страницам, и даже капли пота выступают у него на лбу… «Попался! – думает он. – Ах, дурак старый, дурак старый!» – И вдруг радостно вспоминает, находя что-то в книжке и поднимая очки:
– Тэ-тэ-тэ-тэ-э! – И лицо Ивана Трифоныча снова проясняется в улыбку, – Господи, боже мой! И вправду ошибся! Фу-ты, дело какое! Вот память-то индюшиная! Ведь мы остановились не на сто сорок восьмой странице, а на сто сорок первой! Так, так, так… Фу-ты, господи! Как это меня угораздило!
– Ну, вот то-то! – говорит старуха. – А я слушаю, слушаю и думаю: да ведь это знакомое дело: и корабль, и монах…
– Так, так, так! – соглашается Иван Трифоныч, облегченно вздыхая. – Сбился, сбился! Эка грех! Что значит старость-то! А? И умереть так-то забудешь. Надо со сто шестьдесят восьмой, а я со сто сорок первой! Так, так! Ну, начнем другой читать. Марьюшка! приверни лампу, пожалуйста. Коптит, кажется. Фитиль, верно, перегорел. Эка, господи!
Марья влезает на стул и, озабоченно глядя под колпак, привертывает фитиль. Становится немного темнее, и старик подносит книгу ближе к глазам. Он все еще улыбается своему промаху и время от времени укоризненно потряхивает головой.
– Ну, другой начнем! – повторяет он. – Эка, господи! Нужно со сто семьдесят третьей, а я со сто сорок восьмой! Память!.. Ну, вот другой рассказ– «Утес»! – торжественно возглашает он и медленно начинает:
– Страница сто пятьдесят четвертая! Рассказ «Утес»! На Тихом океане, где живут китайцы и другие разные народы, похожие на калмыков, был утес. Такой большой, что не только порохом, но и динамитом, самым сильнейшим, не взорвешь. И в том утесе один святой человек вырубил пещеру, поставил там себе иконки, зажег лампадку, разложил на аналойчик книги и проводил жизнь в уединении и молитве. Услышав о такой его святой жизни, начал со всех сторон собираться к нему народ и просить исцеления. И он кому давал святую воду, кому образочек, кому ладанцу, а кому прямо говорил строгим голосом: «Не греши!» И грешники горько плакали о делах своих… И вот однажды…
Иван Трифоныч слюнит палец, медленно переворачивает лист и в то же время с улыбкою поглядывает на своих слушательниц: старушка вяжет чулок, а Марья подперла лицо ладонью и смотрит куда-то далеко-далеко перед собой, – мечтает, очевидно, думает о святой жизни, о пещерах, о схимниках…
– И вот однажды, так часов в одиннадцать утра, – медленно продолжает Иван Трифоныч, – только стало припекать солнце, к этому самому праведному человеку прилетает орел, могучий такой, страшный, с когтями, и говорит человечьим голосом: «Скажи ты мне, преподобный старец…»
И снова Иван Трифоныч увлекается и забывает переворачивать страницы… Медленный его голос спокойно то повышается, то понижается, и на душу обеих женщин веет покоем, счастьем, и комната кажется еще уютнее. А на дворе все больше и больше разыгрывается метель и рвет ставней; в зале часы отбивают время и чирикает проснувшаяся канарейка; кругом тишина; и только, когда притихает голос рассказчика, слышатся порою тихие, радостные восклицанья:
– Как хорошо! Как хорошо пишет Сашенька!
В поезде
I
В Харькове, еще днем, я так крепко заснул на своей верхней полочке, что когда наконец сильный, неожиданный толчок резко остановившегося поезда разбудил меня, то было уже темно. В вагоне, порождая ленивую смесь тьмы и света, мерцали над дверьми свечи. На платформе, залитой, с невидной мне высоты, электричеством, происходила обычная суматоха узловой станции.
Мимо окон поезда, словно в погоне за счастьем, неслись люди с узлами в руках; неуклюже, как тупа, вертелась женщина в старомодном, крылатом бурнусе, какие в провинциальных магазинах готового платья именуются так: «фасон Мефистофель». Пробегали носильщики, нагруженные, как дачные мужья на юмористических картинках.
Женщина в бурнусе горячо призывала какого-то Митрофана Ивановича и, не обращаясь ни к кому, гневно говорила, что Митрофану Ивановичу кислым бы молоком торговать, а не искать места в вагонах.
Свесившись вниз, я заметил в своем отделении перемены: одного спутника, подсевшего к нам из Таганрога и всю дорогу напевавшего греческие песенки, уже не было. Другой, окутавшись одеялом и высунув наружу ноги в смявшихся чулках, безмятежно почивал.
Этот человек, как говорят хохлы, залил-таки мне сала за шкуру. Битых десять часов он посвящал меня в тайны германской политики; рассказывал про монаха, которому бы не акафисты читать, а перед коронованными особами оперы исполнять; подробно, с рисунками, сообщал мне, как за один гривенник можно устроить чудеснейший волшебный фонарь; уверял, что один известный архитектор любил иногда ни с того ни с сего кричать «караул»; маленькими глотками пил вино и, как подеста в «Гаспароне», каждый раз говорил, что это – необходимо для его здоровья.
Теперь он спал, и, видимо, крепко.
Суматоха меж тем на платформе не уменьшалась, и у самого моего окна вдруг послышалась оживленная дискуссия:
– Да ведь тебе же, идиоту, говорили русским языком! Ну, какой же леший, скажи пожалуйста, кладет масло на сахар? Что ты теперь прикажешь с этим сахаром делать? Ну?
Кто-то, и чуть ли не Митрофан Иванович, начал нерешительно доказывать, что если бы масло было хорошее, то оно не могло бы пройти в сахар, а раз масло прошло в сахар, значит, оно было нехорошее, значит, и жалеть его нечего, – но вдруг через все его рассуждения громом прогремело:
– Эх вы-ы! Сахар Сахарович! Фалдочка вы, и больше ничего!
В эту минуту на платформе произошло что-то неожиданное. Митрофан Иванович озверел и словно с цепи сорвался:
– Я т-тебе покажу фалдочку! – гневным голоском залепетал он. – Я не посмотрю, что ты одиннадцать пудов весишь! Я к с-самому начальнику станции пойду! Я т-тебя в жандармскую комнату притащу! Докажи мне: какая я фалдочка? С-сама ты фалдочка!
К великому моему изумлению, поднимается мой доселе мирно спавший сосед, вылезает говолой в окно и, посмотрев на все стороны, сонным голосом говорит:
– Слушай, фалдочка! Чего ты, братец, орешь? По какой уважительной причине ты такой тарарам поднимаешь? Пойми ты, что в поезде может действительный статский советник ехать. Ведь за такое нарушение общественного равноденствия ты дней десять клопов покормить можешь. Ах ты фалдочка этакая неразумная!
Где-то бьют звонки, и после протяжных свистков поезд наконец трогается.
II
Грязный, заплеванный вагон – старый: перевезший на своем веку миллионы людей. Кажется, что болят его колеса, как ноги у старика. И шатается он, и покачивается, и кряхтит, и визжит – но бежать вперед нужно, нужно скользить по этим спокойным, мертвым, до отвращения знакомым рельсам.
Тусклое месиво огня и темноты. Куски мрака в углах. Мне видны освещенная надпись: «для некурящих», картонные объявления, разбитый термометр, кружечки для пожертвований.
На фоне своеобразного вагонного шума до меня из соседнего отделения доносятся тихие, как-то странно сквозь массу посторонних звуков слышные голоса. Там едут шахтеры, которым в четыре часа утра нужно слезать.
В противоположное мне окно глядит черная, досыта мраком напитавшаяся ночь, и только далеко-далеко – очевидно, на крутом изломе пути – маячит сигнальный огонь. И кажется, около него раскинулось что-то громадное и широкое: может быть, облака, может быть, лес.
Зябко и приятно протягивает легоньким сквознячком.
– И вот этот самый Софрон Иванович, – слышу я, – обведет вокруг себя мелом круг и едет на этом кругу, как на шарабане. Да еще усмехнется. Скажет: «Едем, Егор, к жене дыню есть».
– Ды-ню? – спрашивает кто-то, ударяя на первом слоге.
– Дыню. Моя жена-то верст семь отсюда живет.
– Скажи на милость!
«Трах!» – словно испугавшись и крикнув, пролетел по езд по мостку и заглушил на мгновенье разговор.
– А в другой раз, – продолжает тенорок, – еду я с ним ночью, на лошади. И говорю: «Софрон Иваныч! Ты меня, говорю, прости, но удивляюсь я тебе. Силу ты имеешь такую необыкновенную, – ну, какого лешего тебе в шахте землю ковырять? Ведь дворец ты мог бы сделать?» – «Мог бы», – говорит. «И жить в нем мог бы?» – «Мог бы», – говорит. «Ну? – спрашиваю. – Чего же ты? какого лешего?» Молчит, усмехается, на месяц смотрит. Вижу: поперек речка течет. Что за шут, думаю. Никогда на этом месте речки не бывало. Теперь – речка. И так это месяц в воде играет, словно вот кто золотые деньги по ней разбрасывает. Гляжу: плывет что-то. Что – понять не могу: словно большая рыба. Вглядываюсь: гроб. Черный-пречерный. А на крышке – белый крест нарисован.
Эффект от рассказа получился, видимо, сильный: сразу все стихло.
Рассказчик сам, вероятно, не ожидал таких ярких результатов, потому что смущенным, неуверенным тоном еще раз повторил свою последнюю фразу:
– А на крышке – белый крест нарисован!
Это погубило рассказчика: оказывается, кроме меня, к разговору прислушивался и мой сосед – человек, как впоследствии выяснилось, великолепно разбирающийся в разного рода волшебных казусах.
Сбросив с себя одеяло, он, как был, в рубашке и носках, заглянул в соседнее купе и, крестообразно схватившись руками за верхние полки, остановился в проходе.
Шахтеры обратили, видимо, на него внимание.
– Это кто про гроб и белый крест рассказывал? Ты? – среди молчания, спокойно, как на экзамене, предложил он свой первый вопрос.
– Я! – довольно нерешительно отозвался невидный мне тенорок.
– Ты. Так-с. А скажи пожалуйста, милый человек, – тем же тоном вопросителя продолжал мой сосед, – какая тебе корысть этакую брехню – можно сказать, пятьдесят шестой пробы – разводить?
– Как так брехню? – запротестовал неожиданно уязвленный тенорок. – Когда я сам, своими собственными…
– Сам! Своими собственными! – насмешливо, в нос, очень задорно передразнил его сосед, – Своими собственными! Поглядите на него, добрые люди. Ну, что ты понимать можешь сам-то, своими собственными? Растолкуй мне, вышнего ради. Слушал, слушал я, как ты ер-рунду на постном масле здесь разводишь, и не выдержал. А паренек вон уши развесил, слушает, как дяденька азовские басни рассказывает. А в деле ты, я вижу, смыслишь, как известное животное в известном фрукте. Черный гроб! Белый крест! Это, брат, контрамарка, а не рассказ. Что гроб плыл по реке – тут хитрого ничего нет. Но чтоб на нем, на гробе, – сосед высоко поднял палец и отделял им каждое свое слово, – был животворящий честный крест нарисован, – это уж ты, сознайся, фука пустил. Я, брат, до женитьбы семь лет состоял пономарем при высокопреосвященнейшем митрополите киевском и галицком, с монахами и другими народами тонкое знакомство вел, книги запрещенные читал! Эти дела, скажу я тебе, нам виднее… И тебе, и Софрон Иванычу твоему, и пареньку вот этому заявляю я торжественно: туда, где есть крест, только неразумный бес, который из молодых, сунуться может и сейчас же, конечно, посрамление примет. А понимающий, матерый бес никогда себе этой глупости не позволит, А ты мелешь мелево: черный гроб! Белый крест! Своими собственными!
Пономарь с негодующими, нервными движениями лег на свою лавочку, но задор, видимо, вселился и обуял его: он сейчас же опять вскочил, опять бросился в отделение к шахтерам, сел с ними и вступил в жаркое словопрение. Страстный, вибрирующий тенорок то и дело схватывался с раздраженным басом пономаря. Наперебой сыпались рассказы о колдунах, чернокнижниках, о том, что если прочесть всю Библию, то можно с ума сойти.
Пономарь Говорил, что ему на своем веку приходилось встречаться с такими ядовитыми монахами, которых самые отчаянные бесы боялись, как собака – палки.
Говорили о лунатиках, о кликушах…
И я впервые, особенно наглядно, ощутил ту беду человечества, что всегда, во все времена и века, была, есть и будет, вероятно, такая стена, в которую оно, человечество, бьется головой – бьется до огромной боли, до потери сознания. Среди любой культуры есть эта стена и стоит всегда гордая, непреоборимая. Станет мысль человека тоньше, просверлит эту толщь, вырвется на волю, но глядишь: как голова у сказочной змеи, растет новая стена, рожденная уже утончившейся мыслью, окрашенная другой краской, спаянная другим цементом, – и снова твердыня на многие сотни лет…
…Разговор моих спутников все более и более оживлялся, привлекал других пассажиров; даже кондуктор, явившийся посмотреть, не сел ли со станции новый пассажир, – увлекся и рассказал довольно длинную историю о волшебном коте, который у них, в селе Рябове, проделывал необыкновенные штуки – например: в двенадцать часов ночи начинал гореть разноцветными огнями.
В окно было видно, как, блеснув убогими огоньками, промелькнула деревенька. Захотелось представить себе обстановку, противоположную этой, вагонной: хорошо бы теперь спуститься к реке, быть в ночном, сидеть где-нибудь на пригорке и ждать поезда, который издалека, версты за три, сверкнул бы своими холодными, неморгающими глазами. Чуть слышно пели бы песню, догорал бы, прощаясь с жизнью, костер, чуть заметно дышала бы теплая, нежная ночь…
…Почему-то сразу замолчали. Должно быть, опять сразу родилось впечатление.
Я стал жалеть, что пропустил рассказ.
Пономарь стоял в проходе, и мне было видно, как он задумчиво гладил бороду, поворачивая голову то направо, то налево, и наконец глубокомысленно заметил:
– Этому я поверить могу. Могу! Только грех это, великий грех! В Иордане нужно другой раз креститься. Грех! Вел-ликий!
Снова заговорил тенорок.
Я живо представлял себе его голубые, вероятно, глаза – наивные и большие; рыжую бородку; нервные, порывистые движения; лицо строгое, ищущее. Это был человек, знавший, видимо, что на земле есть такие путы, которыми можно прибрать к своим рукам нечистую силу и затем, с ее помощью, жить как душе хочется: ездить, например, на кругу, как на шарабане, и есть с женою, живущею за семь верст, дыню. Когда он заговаривал о Софроне Ивановиче, то по тону его мне казалось, что когда-нибудь эта рыжая бородка придет к нему и горячо, со слезами в своих беспокойных синих глазах, попросит дать ему прочесть те черные книги, в которых разоблачены все тайны жизни, научить его всем заклинаньям и сделать его наследником своих знаний и могущества.
Тогда он бросит тяжелое рвущее силы шахтерство, тогда у него польется золото, начнется привольная жизнь, загремит слава и за ним придут, чтобы исцелить от болезни царскую дочь.
III
Мне надоело лежать, и я пошел на площадку. Когда я проходил мимо соседей, то увидел такую картину: верхние полки не были подняты, а внизу, во всю длину одной, лежал паренек, с густой копной белокурых, резко отброшенных волос и с пухом в качестве начинающейся бороды. Заломив руки за голову, он мечтательно смотрел перед собою.
На противоположной скамье, посредине, низко склонившись к пареньку, сидел, очевидно, тенор. Он не оправдал моих предположений. Это был огромный человек, с длинной красивой бородой, похожий на старообрядца из Черниговской губернии, с мощными, чисто шахтерскими руками. Неуклюжий, он производил впечатление суровое, дикое, но когда вскидывал на вас большие детские глаза, то становилось понятно, почему этот человек выглядит басом, а говорит тенором. И было уже неудивительно, что ему очень хочется поездить на кругу.
На площадке было ветрено, и я, чтобы закурить, принужден был прятать огонь в выдвинутую коробочку.
Поезд летел, рассекая черную, нахмурившуюся ночь. А с ночью, черной и нахмурившейся, делалось что-то неладное. Где-то далеко, как внезапной мыслью, сверкнула ломаной линией молния: сначала нерешительно, потом молодым, изящным смешком прокатился по небу гром, и, может быть ободренная им, молния второй раз сверкнула ярче и ближе, на мгновение осветив густые, плывущие облака и огромное выкошенное поле с разбросанными там и сям скирдами.
На площадку еще кто-то вышел. Я не оглянулся, но скоро услышал знакомый голос:
– Эх, дождик будет важный! – восторженно говорил тенор. – Эх, да и обрадуется же земля! Месяца полтора в этой сторонке капли не было. Земля-то, как чай, сухая стала…
Я полуобернулся к нему.
Бородач завертывал себе папиросу, а паренек держал наготове спички.
– Д-да, – рассеянно, думая о другом, ответил паренек и, когда тот закурил, долго защищал ладонями от ветра еще не погаснувшую спичку. Спичка вспыхнула в последний раз, осенив странными, резко подчеркнутыми тенями его лицо и как-то особенно выдвинув в нем светлые, большие глаза.
Стало темно, и только красный фонарик на площадке, убегая с поездом вперед, маячил кому-то в степи.
– Д-да! – медленно и задумчиво повторил паренек. – Ты говоришь вот, что колдуном хорошо быть. А по мне, брат, святым быть лучше. Колдун что? Все это – нечистая, бесовская сила. За это в котле кипеть будешь.
– Ерунда! – уверенно и деловито ответил бородач. – Ерунда! Никакого котла не будет! Почувствовал, что каюк приходит, – зови попа да кайся: и готово дело. И грех твой Митькой звали. А зато жизнь-то, жизнь! – вдруг оживился бородач, снова нащупывая любимую мечту, – Ведь это, брат, ты еще молод, – ют и поешь соловьем. А ты рассуди. Я работаю, как проклятый, а денег получаю рупь десять. Это тебе и на харч, это тебе и на квартеру, это тебе и на одежу, и на обужу. Разве это житье? Встал да и за вытье! – Раздраженные, давно нажитые ноты зазвучали в голосе шахтера – и стук колес, одинаковый и упорный, подтверждал, казалось, его слова.
– Что же жизнь? – ответил паренек, и я жалел, что мне было плохо видно его лицо. – Здесь-то, пожалуй, деньгу наживешь… А ведь хорошо, если покаяться успеешь? А ну молоньей убьет? А ну бог сразу смертью накажет? Не пожелает твоего покаянья принять? А ведь там-то, брат, годам конца-краю нет! Конца-краю!








