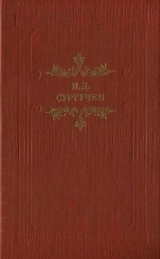
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
«Надо говорить!» – думает Петухин, и сердце опять так начинает биться, что он закрывает, как в изнеможенье, глаза и прислоняется затылком к креслу.
В третий раз уж говорит он с нею. Таня, видимо, боится этих речей и в то же время хочет их: ведь он говорит о том, о чем она сама думает каждый день, каждую ночь, в церкви, дома, на улице… И все сильнее и сильнее она подчиняется его мысли, с каждым днем его думы о жизни, о судьбе, о боге все глубже и глубже проникают в нее и сживаются с нею. Видно, как растет человек, преображается и боится своего преображения…
Тихо отворилась наконец дверь, и в комнату, где сидел Петухин, робко вошла Таня. Она была в своей обычной, домашней кофточке, с косой, заплетенной по-девичьи, и выглядела как-то меньше, чем показалась сначала… Ступила два шага и остановилась у печки.
– Отец Влас служил, – говорит она для того, чтобы сказать хоть что-нибудь.
«Сама начинает, – подумал Петухин, – и чего же, старый болван, робею? – пронеслось у него в голове. – Как маленький… Ну, боюсь я ее, что ли?»
И он решительно повернулся к ней. Таня, заложивши руки назад, стояла спиной к печи, на фоне глянцевитого кафеля, освещенная месячным светом. Карие глаза ее, теперь почти черные, смотрели куда-то вдаль, беспокойно и тоскливо. Чего-то ждут они, о чем-то думают… И видно чрез них, как болит душа.
– Отец Власий? – для чего-то переспрашивает Петухин и добавляет: – Табак курит отец Власий хороший… Четыре сорок фунт. И голос у него ничего. На величании всех превосходит.
Опять начинается молчание и длится долго, томительно, минуты три. Петухин чувствует, что надо говорить, что драгоценное время уходит, что дело идет уже к девятому часу, а в одиннадцать с половиной вернется из города Герасим, и тогда все пропало: работа сдана почти вся, в город уходить незачем, и будет он торчать около Тани, как бельмо.
Петухин придает себе суровый вид, кашляет и многозначительно поднимает на Таню глаза.
– Ну, что же? – сердито начинает он.
Он сидит спиной к свету, глаза его в тени, и Тане хорошо и отчетливо видны только общие очертания его фигуры да взъерошенные волосы.
– Что? – переспрашивает Таня, словно не понимая, о чем идет речь. И голос у нее, как при кашле, срывается и делается грубым, необычным.
– Да вот о чем я говорил тебе… прошлый раз… – продолжает Петухин, нервно теребя пальцами скатерть.
– Говорил, говорил! Мало ли о чем говорил! Обо всем думать – головы не хватит… И еще я не понимаю, Павел Мартынович, зачем вы касаетесь меня? Вы живите сами по себе, я буду жить сама по себе… Убытку от этого вам никакого не может выйти.
– Дура ты, Танька, – вот тебе и сказ весь!..
Петухин вскакивает с кресла и начинает нервно бегать по комнате. Рваные туфли его смешно смурыжат по полу и сбивают дорожки, рубаха без пояса болтается во все стороны.
– Дура ты! – снова говорит он, останавливается и, пронизывая ее глазами, продолжает: – Жить не могу, когда несправедливость на земле вижу, да какую! Несправедливость-то, глупая, разная бывает: ну, там деньги отняли, поколотили, даже убили тебя – это ерунда! Это тело твое убили, ну и прах с ними! И эту несправедливость я пере-несть могу. Но когда у человека душу убивают, да еще у какого человека: молодого, здорового, которому жить не тужить, тогда я терпеть не могу… Да! Не могу! Вот тебе и сказ весь. Тогда я должен поправлять дело! Защищать должен! Исправлять жизнь должен! Да! я Петухин, – пусть я пьяница и человек маленький, – исправлять жизнь должен и буду, как сумею… И думаю, что на том свете бог похвалит меня за это… Ведь вот ты… Ты же любишь Гав-рюшку?
– Люблю.
– Ну и что же? Что мешает тебе любить его?
Таня прямо и спокойно вскидывает на него свои карие глаза, которые в темноте блестят по-особенному, и отвечает:
– Как что? Да ведь Герасиму Егоровичу-то я перед богом клялась…
– В чем клялась?
– В чем клянутся в церкви, когда венчаются: в том и я клялась.
Петухин опять бросается по комнате.
– Клялась! Перед богом! – говорит он, жестикулируя обеими руками. – Нужна богу твоя клятва! Да пойми же ты, глупая, что когда бог-то слышал, как ты клялась, ты, похожая на весенний цветок, клялась какому-то изжившемуся старику, так ведь бог плакал! Пойми, дурочка, плакал бог! Богу жалко тебя было…
Петухин останавливается около Тани, берет ее за руку, глаза его делаются лучистыми и ласковыми.
– Богу жалко тебя было! – продолжал он. – Ведь бог что? Бог счастья всем хочет, добра, – пойми ты это. Разве для зла создавал бы бог людей? Ну? Разве нужны ему наши страданья? Наши муки? Раз ты любишь Гаврюшку, а Гаврюшка любит тебя – значит, эта любовь от бога, значит – она угодна ему. А если там какие-то злые дураки сковали тебя, да в церковь притащили, да привязали на всю жизнь к какому-то, прости господи, хрену, так и нужно подчиняться не богу, а этим дуракам? Милая ты моя! Цветок ты, мой ранний! Да и клятва твоя… Ведь она глупа, эта клятва, и опять-таки людьми придумана, а не богом. Людьми придумана для того, чтобы вот, к примеру сказать, связать то, что само собою не связывается. Вот ты и Гаврюшка, вы любите друг друга, – на кой вам шут какие-то там клятвы? Любовь – она сама клятва! Милая, милая! Люди, братец ты мой, такого на земле нагородили, так занавозили человеческую душу, так жизнь запутали, что бог-то, поди, не рад, что и людей создал. И нужно, деточка моя, людям, у которых есть в душе хоть маленькая искорка, нужно распутывать сетку эту. Вот и ты. Тебя запутали, а ты не подчинись и потихоньку распрастывайся. Бог увидит, что ты ценишь и бережешь душу, которую он тебе дал, и полюбит тебя, и поможет тебе. Ты распростаешься, а там, глядя на тебя, и другой начнет распутываться, там третий, дальше – больше, пятый, десятый, и, еще может быть, сделается на земле прекрасная жизнь. А то: клятва! Не-ет, девушка, бог-то, бог, когда слышал твои клятвы, сказал ангелам, которые ведут запись жизни человеческой: «Слушайте вы, ангелы. Вон на земле, в церкви, клянется раба моя Татьяна. Сама не соображает, в чем клянется. Не принимайте этой клятвы. Не от сердца она, – по неволе! И греха, если она нарушит клятву эту, грехом не считать, и в книгу этого не записывать, и ответа на суде от нее не спрашивать!» Так сказал бог.
Петухин подвел Таню к окну.
– Посмотри вон. Разве эти звезды не людям светят? Разве они не для украшения жизни созданы? Нужно, девка, каждую ночь подолгу смотреть на них, и тогда поймешь, в чем дело. И будешь счастливой. Я вот человек счастливый, прямо так и говорю: я – счастливый. Жизнь я вот насквозь, как хрусталь, вижу и понимаю, что в ней хорошо, что плохо. И живу по-хорошему, и бог любит меня. А сколько счастья он мне посылал, царь ты мой небесный! И оно, счастье-то, близко около человека лежит, вот оно, в тебе самой счастье твое, только гляди на мир своими глазами – и весь разговор в этом. И когда будет наступать старость, вспомнишь свою хорошую, веселую молодость и скажешь: «Вот молодцом жила! Наплевала на всех – и дело с концом!» Да, ей-богу! Чего там?
Таня молчала, губы ее подергивались, а глаза, как две чаши, наполнялись светлой и лучистой думой. Петухин наклонился к ней совсем близко, шептал, и шепот его становился все радостнее и радостнее:
– Любишь? По рукам, значит? Ну, во-от! Как ты потом поблагодаришь меня! Вот, скажешь, пес старый, придворный артист шаха персидского! И умница! И молодец! Будильник тебе подарю… Не хотел до смерти с ним расставаться, а тебе подарю, ей-богу, не вру: подарю… Люблю, чтобы люди хорошо жили! А около тебя-то Гаврюшка будет да еще будильник… Какого тебе еще корабля надо? Живи не тужи!
Таня выдернула от него руку и быстро ушла в спальню… Петухин постоял немного у окна, беспокойно прислушался, и лицо его распустилось в улыбку.
– Плачет… – облегченно прошептал он. – Плачет… Это хорошо… К счастью… Слава тебе, господи!
Растопырив руки, добрался он ощупью до мастерской, нашел там где-то за печкой свое пальтишко, накинул его на плечи и торопливо выбежал во двор.
Ясно и четко освещал месяц всю улицу, по которой вверх побежал Петухин, шурша своими большими, не по ноге, калошами. Черная тень его, то переломившись, то во всю свою неуклюжую длину, прыгала по заборам и стенам уже заснувших домов. Петухин спешил, что-то бормотал и ругал лужицы, которые маленькими зеркальцами блестели на неровностях тротуара.
VII
Счастливый, улыбающийся, надев пальто в рукава, сидел Петухин в саду на скамеечке и курил. Месяц, округлившись, поднялся еще выше и залил светом всё небо, землю, сад, которому так сладко дремалось в эту полную сил и возрождения ночь. Под землей делалась работа, радостная и срочная. Переливалась кровь и бурлила, юная, сильная. Протекала она в деревья, в цветы, в травы, – бесшумно, как по жилам, струилась вверх и рвалась наружу, к свету, к небу…
– Да, братец ты мой! – говорил Петухин, оглядывая сад, видный насквозь. – Вот и весны дождались! Да-а… Вот и зацветешь скоро. Соловьи, брат, к тебе прилетят, песни запоют… Знатно заживем! Шалаш вот под яблоней соорудим… Спать на вольном воздухе будем… Да-а… Знатно!
Чем глубже в ночь, тем становилось все холоднее. Было зябко в пальтишке на рыбьем меху, и Петухин, чтобы согреться, закурил, защищая спичку ладонями, набрал полой рот дыма и затем сразу, клубом, выпустил его с таким расчетом, чтобы согреть себе нос. Порою он начинал как-то особенно хитро смотреть перед собой, щурился, жмурил глаза: что-то плавало в его уме, и это что-то заслуживало насмешки, победной и торжествующей… Один из хищников жизни, хищников маленьких, но жестоких, не рассуждающих, выхватывающих из ее гущи самые сочные и яркие жертвы, терпел теперь кару, и он, Петухин, содействовал этой правде, сделал эту правду торжествующею. Теперь его бог смотрит с неба и простирает над ним благословляющую руку.
Бывало когда-то, что в такие же ночи, ясные и радостные, – только теплые, – бегала к нему в рощу Домна. Трава была высокая и прохладная, небо синее, соловьи не засыпали напролет до самого утра, а звезды, казалось, справляют веселый праздник. И сколько разговоров было за эти ночи, сколько дум! А когда он жил в Орле, в магазине готового платья Совокина с сыном, его любила черноглазая Шура. Та любила песню про Ваньку-ключника… Славная песня!
Петухин зажмурил глаза, потом сразу открыл их, тряхнул головой и замурлыкал тихим, высоким тенорком:
– «В саду ягода малина – во цвету-то вся была…»
Это поет запевала. Только кончит – подхватывает хор:
«А княгиня молодая с князем в тереме жила!»
Хор большой, как это бывает на народных гуляньях, одетый в барские костюмы, заложивший руки в боки, с залихватскими тенорами и с глубокой, как колодезь, октавой. И среди этих песенников – он, Петухин, тоже одетый боярином, молодой, задорный, черту не брат, с лихими усами: вылитый Ванька-ключник. Его кафтан новее всех, знает песню он лучше всех, тенор его особенно выделяется: публика, столпившаяся у эстрады, смотрит на него с восхищеньем и спрашивает, откуда этот молодец взялся. Басам не особенно нравится прохвост Ванька, соблазнивший молодую княгиню, и они очень неохотно поспешают с низов за головорезами-тенорами. У басов больше лежит душа к старому князю, у которого подвалы трещат от золота и заморского вина.
– «Он не даривал княгине ни парчи, ни кумачу», – снова, зажмурив глаза, воображает себя запевалой Петухин, и хор снова удивляется: – «А княгиня к нему льнула, как рубашка ко плечу».
Кончится, бывало, концертное отделение, начинается новый триумф Петухина: бег в мешках.
– Завязывай! – кричит распорядитель Матвей Матвеич, – Хорошенько узлы закручивай, чтобы свободы не было!
А кругом за веревкой люди, ждут, смеются… В палатке сидят судьи, и на красном столе воздвигается приз: будильник с надписью: «Победителю».
«Смейся, смейся! – думает Петухин. – А ты поди, пробежи! Тогда и засмейся».
Он серьезен, к искусству относится с уважением и почтением и думает, что здесь нечего зубоскалить.
Побежали, – падают, отстают… И только один впереди несется в мешке, как без мешка. Нужно уметь, нужно знать, как в тесноте переставлять ноги… Идут разговоры: «Кто это? А вы не знаете? Петухин! Портной Петухин! Одарил же бог! Браво, браво, господин Петухин! Ваше искусство – поразительное… Извольте по заслугам вашим приз получить: будильничек-с. Девять с полтиной в покупке заплачен… Рано будит и две музыкальные песни исполняет».
И сейчас же из толпы высовывается завистливая рожа:
– Портной! Возьми за приз синюю бумагу!
Много уже времени прошло, но и сейчас Петухин не может вспомнить этого без отвращения: за приз? За искусство? Синюю бумагу?
– Тут сотни не нужны, болван ты этакой, а ты с синей бумагой лезешь! – говорит Петухин гордо и презрительно, – Не видал я твоей синей бумаги! Удивил чем… Ты вот заслужи поди, добейся… А то – синяя бумага! Какие вы, братцы, несообразительные!
– Дураки! – и теперь говорит Петухин, открывает глаза и прислушивается: от Варвары-Великомученицы раздается, как вздох, удар колокола, нежного и серебристого…
– Одиннадцать! – с ужасом сосчитал он удары, – Сатана ты старая, анафема! Что же ты думаешь? Ведь вот-вот Гараська явиться должен! Ах ты черт голландский!
И Петухин побежал к дому, стукнул, не глядя, в окно. Никто не отозвался.
«Что за чертовщина?» – подумал он, стукнул погромче, заглянул. По комнате, наполовину освещенной месяцем, прошло что-то черное, высокое. Около него обвилось белое, нежное, – обвилось и расстаться не может…
– Ну, ну, – ворчит недовольно Петухин и, отвернувшись, снова стучит сурово и сердито: надо честь знать да утирать бороду. Ишь, разлимонились!
Хлопнула дверь. На пороге показался высокий, статный парень.
– Ну, Гаврюшенька, как дела-то? – ехидно спросил Петухин и сейчас же опять сделал серьезное лицо. – Прежней дорогой-то идти нельзя, – того и смотри, на хозяина моего напорешься, – а ты вот через сад жарь, а там огородами до самого переезда… Понимё? Ну, вот то-то и оно… Ну-с, айда…
Пошли. Петухин вдруг останавливается и спрашивает:
– Ну, а насчет будущего уговорились?
– Уговорились! – отвечает Гаврюшка.
– Где же? – не может сдержать любопытства Петухин.
– У Варвары…
– То-то, у Варвары… Ну, айда, айда… Живо… Смотри, угощенье не забудь…
Гаврюшка лезет в карман, достает деньги и сует их Петухину. Тот сердится:
– Болван! Что ты мне деньги-то даешь! Что я, сводня, что ли? Ради правды устраиваю я это… А ты деньги! Орясина! Пивом угостишь… И знаешь еще что? Две порции осетровой солянки… Ей-богу! Идет?
– Идет! Идет! – радостно отвечает Гаврюшка и перелезает через забор.
– До свиданья! – кричит он.
– Счастливо! – отвечает Петухин.
Залитая светом, у порога стоит Таня. На лице и радость, и страх.
– Ну, а дальше что же делать? Как быть с мужем? Как ему смотреть в глаза? Ведь вот он сейчас же явится… – тревожно говорит она, – Ну, научи же, Мартыныч!
Петухин закуривает папиросу и защищает спичку ладонями. Глубоко затягивается, думает о чем-то, потом сразу вскидывает глаза на Таню и отвечает:
– Понимаешь, хозяйка… Вот в чем дело-то… Ты пойми. Я свою обязанность исполнил. Чувствуешь? Ну, а теперь уж твое дело. Как хочешь, так и разводи планы. Хочешь с мужем жить, живи! Не хочешь – не живи! Это, брат, теперь твое дело, и никому нет до этого касательства. Как ты думаешь жить – тебе об этом только и знать. Вот тебе мой сказ. Вот завтра у Варвары и поговори об этом с Гаврюшкой. Теперь уж ты к нему. Да. Советы он будет давать…
– Господи! – с тоскою вспомнила Таня, – И причащаться завтра…
– А что ж? – серьезно ответил Петухин. – Теперь ты чиста перед богом. Теперь душа твоя – как хрусталь. По-руганье твое над богом-то окончилось. Теперь причащайся…
Стукнула калитка. Вошел Герасим Егорович с бумажными кульками и какими-то покупками.
– Вот и я… – сказал он, – а ты, Танюша, давно пришла? Вот грушки. Хорошие, сочные. Полтинничек десяток. Правило слушала? Ну, вот-вот. А там, сзади меня, – и Герасим Егорович обратился к Петухину: – Михрютка полз… Пьяно-распьяно! И все «Чудный месяц» поет… Ну и народ!..
Петухин прислушался. В самом деле поет, – звонко, задорно. И Петухин решил, что если бы Михрютке не пьянствовать и себя побольше беречь, то мог бы получиться тенор, на втору совершенно пригодный.
Хозяева ушли в дом. У Варвары опять ударили в колокол: начиналась полночь.
Родители
Восемь часов вечера. На дворе – мороз, идет снег, вот уже пятый день. В столовой купца Ивана Трифоныча Егорова тепло и уютно. Ставни с улицы давно уже закрыты и укреплены болтами; посредине комнаты, на круглом столе шумит самовар, выпуская вверх пар; над столом горит висячая лампа с молочным абажуром и отражается в окнах, стаканах, в кафельной печи… За столом, друг против друга, сидят и пьют чай вприкуску сам хозяин, Иван Трифоныч, маленький старичок, с виноватыми, слезящимися глазами, и гость Михайло Михайлович, тоже купец, его ближайший приятель и кум, – человек, наоборот, огромного роста, заросший весь волосами, в очках, которые в аптекарских магазинах называют «консервами». У печи приютилась жена Ивана Трифоныча, старушка в черном платке, такая же маленькая и сморщенная, как он; сидит согнувшись и вяжет чулок, быстро двигая спицами.
Егоров всю жизнь торговал кожами и готовой обувью, нажил большие деньги, теперь уже бросил торговлю и славится в городе тем, что много заботится о душе и жертвует на дешевые столовые и ночлежные дома. Со всеми он всегда ладил, покупатели любили его за тихий, уступчивый характер, и торговля шла на славу. Михайло Михайлович наоборот: торгует и до сих пор, но ему не везет, и он постоянно переучитывает векселя, ворча, что в России нельзя вести правильной торговли и не прыгать с крыш, то есть не банкротиться. Но зато он славится и уважаем в округе за свою образованность: он выписывает дешевые газеты, спорит со старообрядцами о перстосложении, и даже, когда единственный сын Ивана Трифоныча, Александр, будучи студентом, приезжал домой из Питера, Михайло Михайлыч обстоятельно разъяснял ему, почему слово хлѣб пишется через ѣ. Но самым главным и удивительным его достоинством было то, что имена всех православных святых он знал по дням года; стоило спросить: «А такого-то числа каких преподобных?» – и Михайло Михайлыч, немножко подумав, говорил безошибочно. Однажды архиерей, ездивший по ревизии, узнал об этом, призвал его к себе и, проэкзаменовав по святцам, очень удивился и сказал:
– Ну, память! Для государственнаго мужа это было бы весьма величайшее облегчение.
С тех пор Михайло Михайлович еще больше гордится собой… Если бы в городе была дума, то его непременно избрали бы в головы.
В большом бездетном доме Ивана Трифоныча полнейшая тишина. Освещена только столовая, а остальные комнаты погружены во мрак. Слышно только, как в зале попискивает канарейка да часы иногда отбивают время. И среди этой тишины густой бас Михайла Михайлыча, медленный, рассудительный, кажется толстым канатом, который беспрестанно разворачивается и все тянется, тянется; так что не знаешь, когда ему будет конец…
– Конешно, – говорит он, выбирая ложечкой варенье из стакана, – если посмотреть на твоего сына Александра, а моего крестника, не прилагая особого умственного рассуждения, то, оно конешно… Проживает он в столице Российской Империи, занимается писанием рассказов и прочих светских сочинений, включая сюда и стихосложение, и получает за это деньги. Прекрасно! Это, конешно, гак… С точки зрения материальной, за что бы ты ни получал деньги, – лишь бы получал. И твой сын Александр Иванович, как ты сам неоднократно говорил мне в наших дружеских беседах, зарабатывает в месяц рублей сто восемьдесят – двести…
– А уж это какой месяц, батюшка, – отозвалась старуха, – какой месяц! А то и двести пятьдесят выгоняет.
– А то и двести пятьдесят выгоняет… – подтвердил Иван Трифоныч, – Месяц на месяц не приходится…
– Прекрасно, мать, прекрасно… Пусть будет двести пятьдесят! Деньги, конечно, хорошие, что и говорить! Но все не то, что состоять на государственной службе! Не то! Там ты служишь, и не только что в настоящем, скажем, жалованье получаешь, столовыя, квартирныя, отопление, освещение и все прочее, но и в будущем себе уготовишь: в отставку выйдешь – пенсион тебе по основным учреждениям и законодательствам полагается. Как первое число подошло, отправляйся, сударь мой, в государств венное казначейство, и только труда тебе, что расписаться в получении. Получил, мол, следуемый мне и так далее…,
– Ну-у! – протянула старуха, кланяясь ему. – У нас, батюшка, своих четыреста тысяч в банке лежит: все Сашеньке! Детей у нас нет… А дом-то! Во какой! Умрем – квартирантов пустит – и то пятьсот, а то и больше получать будет…
– Скажем, денжищ у вас пропасть! – соглашается Михайло Михайлович, и по лицу его пробегает легкая тень зависти, но сейчас же сменяется прежним задором: он хитро щурит глаз и пристукивает пальцем по столу, – Ну, а скажи-ка мне, матушка, что, состоя в оных сотрудниках и литераторах разных ежедневных, еженедельных и ежемесячных журналов, можно ли, например, чинов добиться? Можно ли быть удостоенным причисления к чину четырнадцатого класса, губернскаго секретаря, скажем? Ага! Можно ли, состоя в оных литераторах и стихотворцах, быть сопричисленным к ордену, хотя быть святыя Анны третьей степени? Ага! Да ты хоть сорок тысяч рассказов напиши золотыми буквами, а ничего не добьешься. Потому, государыня моя, частная служба. Что конторщик у тебя, бывало, счета писал и ты его могла ругать на все корки, – то и писатель. Даже, мать моя, формы никакой ему не полагается. Да. Поезжай-ка в Москву: там увидишь их тьму-тьмущую! И все смотришь, из дворянишков каких промотавшихся да из поповичей, семинарского звания. Право. Голытьба! Какому-нибудь писцу штатному в казенной палате и кокарда полагается, и золотыя пуговицы… Приди ты к нему в канцелярию, он накричит на тебя, и слова ему супротив не скажешь. Потому чин! Барин! Муж государственный! Персона! А писателю – ничего. Что писатель, что аптекарь – одна честь. Ходи в шляпе, и никаких. Ага? То-то оно и есть!
Михайло Михайлыч отгрыз кусочек сахару и принялся за чай. Было видно, когда он громко тянул с блюдечка, что какие-то новые мысли, новые аргументы рождаются теперь в его мозгу и только ждут, когда хозяин их, наконец, освободит рот от посторонних занятий, чтобы сейчас же вылететь на свободу, – и Михайло Михайлович улыбался им, лукаво щурился, чувствуя, какой эффект они должны сейчас произвести. Не было такого в мире занятия, ремесла, которого бы он не оценивал со своей точки зрения, строго практической, – и поэтому все, например, художники для него были возможны и он соглашался признать их полезными людьми лишь постольку, поскольку они могли писать иконы и вывески; музыканты – играть на свадьбах, управлять хорами и сочинять новые херувимские. На театр он глядел как на баловство, и актеров величал развратниками; а про беллетристику презрительно отзывался: «Романы!»
Допив чай, он перевернул стакан вверх дном, на котором положил оставшийся мокрый кусочек сахару, погладил бороду и, улыбнувшись, начал опять:
– Сашенька-то твой простой человек, нехитрый… Хотя и университет, окончил, высшее, скажем, учебное заведение, которых на всю Россию девять зданий полагается. Весь вот в него, в старика, пошел. Такой же! Воды не помутит. А ты на других писателей посмотри. Вот тебе Толстой граф! Он, матушка моя, сначала до графов дошел, а потом уже и за письмо принялся. На гулянках, так сказать, на досуге, от нечего делать. И пишет! Говорят, умно пишет, замечательно пишет! Все газеты так и трубят. Заграничные люди и то удивляются. Как это, мол, в такой дикой и необразованной стране и такое вдруг, наше вам, писатель! Хорошо-с. Слышу я такие речи, беру повесть одну его сочинения и читаю, конешно. Читаю внимательно, вслух, навострив весь свой мозг. Повесть про хозяина и работника. Ну, думаю, вот сейчас планы разведет, как оно и что. Граф! А повесть угадай о чем написана? – Михайло Михайлыч усмехнулся. – Пишет это он, как мужик лошадь на дворе запрягал, потом они поехали степью; описывает, как мятель поднялась и как хозяин замерз, а работник жив остался. А ехали-то они лес покупать! И все?! Старый человек, а такие повести и рассказы пишет! Ну что тут особенного? Замерз и замерз. Ну, царство тебе небесное! Мало ли народу всякого звания зимой замерзает? Какой в этом особенный сюжет? На то она и зима. Все, значит, и описывай?
– А тут, может, нравоучение молодым людям… – упрямо качнув головой, заметила старуха, – Не ездий, значит, в мятель, погляди, батюшка, сначала на небо да одеждой теплой запасись хорошенько. И к месту, значит, сочинение выходит. Ты в разум возьми!
Михайло Михайлыч досадливо поморщился.
– Ну, скажем, это так… А твой сын, Александр Иванович, такое, мать моя, пишет, что почитаешь и удивишься: неужели этому…
Но тут Михайло Михайлыч внезапно смолк, так как Иван Трифоныч, встревоженный, умоляюще глядел на него и делал из-за самовара знаки, чтобы замолчать. Он смутился, густо покраснел, неловко погладил бороду и заметил совершенно иным тоном:
– Погода-то… разыгрывается… Почты уже другой день нет. В северных странах при таких обстоятельствах костры на улицах зажигают. Проходящий народ идет и греется.
Наступает молчание. Михайло Михайлович стучит ложечкой по блюдцу и не моргая смотрит в темное, точно отлакированное окно, в котором отразилась и лампа, и самовар, и белая дверь. Иван Трифоныч облокотился на стол и задумался. Старуха по-прежнему вяжет чулок и улыбается чему-то далекому-далекому. А на дворе мало-помалу поднимается ветер, и слышно, как он то ставней рванет, то загудит в трубе и со свистом пронесется по крыше. Маленький, сонный городок теперь весь занесен снегом, и кажется, что он, в поисках тепла и уюта, еще больше прижался к земле своими деревянными, покривившимися домиками… Темно, на улицах нет никого… И только кое-где, через отверстие в ставне пробивается робкая полоска света, причудливо отражаясь на высоких сугробах…
Приходит кухарка Марья, босая, с засученными рукавами, убирает остывший самовар, и тень ее тоже отражается в окне… А три человека все сидят, о чем-то думают, и медленно тянется не заполненное ничем время.
Наконец в зале часы степенно, по-купечески, отбивают девять…
– Охо-хо-хо!.. – вздыхает Михайло Михайлыч и потягивается, забрасывая назад руки. – Засиделся я… Идти надо, идти… Ребята небось уже затворили… Сказывают, будто купец незнакомый из Астрахани приехал, фамилие чудное… Не то Боболеев, не то Околеев… Чудное! Д-да… Сегодня у нас восемнадцатое? Восемнадцатое! Завтра, значит… Завтра, значит… – И он, прищурив глаз, о чем-то напряженно задумался, – Завтра, значит, пророка Авдия и мученика Авраама. До рождества еще целый месяц… О-хо-хо-оо!.. Ну, прощай, мать!.. Вяжи чулок хорошенько…
– Прощай, батюшка, прощай! Заходи вечерком…
– Зайду, зайду… И то каждый вечер хожу…
Иван Трифоныч зажег свечу и пошел проводить его по темным комнатам до передней. Там Михайло Михайлович облачился в свою огромную волчью шубу, спрятавшую его всего, и еще для чего-то замотал шарфом шею, и тень его, занявшая всю комнату, беспокойно колыхалась на потолке и на стенах. Иван Трифоныч, стоя перед ним со свечкой в руках, долго мялся и наконец сказал нерешительно, чуть слышно:
– Сколько раз я, Миша, просил тебя! Не говори ты, создателя ради, о чем пишет Сашенька. Ведь она, мать, дура неграмотная. Ведь она помрет, если узнает. Я уже и то всяческими силами стараюсь скрыть от ней. Всяческими силами, братец!
И он выпустил его в дверь. Порыв ветра затушил свечу и обдал старика холодом. И уже из темноты, с порога, раздался бас Михайла Михайлыча, застенчивый, виноватый:
– Все, брат, забываю… Увлекаюсь… Неправильное функционирование памяти и других головных сосудов. Не буду больше.
– Не надо, братец, не надо… Зачем беспокоить ее? Она дура, неграмотная…
Иван Трифоныч запер за ним дверь, потрогал замок, крепок ли, и осторожно, ощупью, воротился в темные, чуть освещенные комнаты… И в зале и в гостиной горят перед образами дорогие, массивные лампады, а из столовой в гостиную, через отворенную дверь падает широкая полоса света, ярко выделяя у порога блестящий кусок паркетного пола…
Делать нечего… И вот каждый вечер, проводив кума, Иван Трифоныч ходит по этим темным, чуть освещенным комнатам и думает… Слышно, как в столовой Марья накрывает ужин и, гремя тарелками, говорит:
– У Петровых опять собака воет. Старик, верно, кончится скоро… Соборовали уже два раза. Мятель!..
Что-то отвечает старуха, и разговор затевается у них длинный, мирный…
А он все ходит, ходит… Большие комнаты, тишина, одиночество, старость, большое состояние – так ненужны, тяжелы для него… Где-то назади, далеко, как пройденная дорога, протянулся длинный и бесцельный трудовой век, дни которого так похожи друг на друга. Где же радость? Где счастье? Почему его не охватывает трепет при мысли, что в банке, как должный и достойный результат этого труда, лежат четыреста тысяч?
– Купцу надо детей иметь, много детей… – вспоминает он слова Михайла Михайлыча. – Потому купец без детей как змей без хвоста.
Старик закрывает глаза, и перед ним, как живой, вырастает Сашенька со своим обычным, грустным и задумчивым лицом. Для него нажиты деньги, но почему он никогда не говорит, не пишет о них? С тех пор как его отправили в университет, он сделался чужим для их дома. Не успевал, бывало, приехать на каникулы, как через неделю его снова тянуло в Питер: глаза делались вялыми, сонными, и он говорил:
– Скучно у вас, папаша, скучно! В Питер надо ехать: там люди, газеты, опера, там жизнь! А здесь… глушь, акцизные чиновники какие-то…
Его собирали, провожали на вокзал, и там, стоя на платформе, он, казалось, понимал полные ласковой любви тоску и грусть стариков и говорил:
– Жалко мне вас, ей-богу! Одни вы! И зачем вы меня учили? Мне бы тогда не было скучно здесь! Жил бы с вами, торговал…
А когда трогался поезд, он, уже веселый, улыбающийся, махал им платком из вагона и кланялся; а они смотрели ему вслед, и в голове Ивана Трифоныча бессмысленно вертелись слова: «Люди, газеты, опера…» И хотелось сказать старухе, что Сашенька для них чужой человек теперь…
Вспоминает старик, как это сознание росло в нем все больше и больше, когда Саша окончил курс и приезжал к ним уже не в студенческой форме, а в штатской, красиво облегавшей его паре. Он возмужал, выросла бородка, усы сделались длинными и красивыми. Взгляд стал еще глубже, серьезнее и как-то грустнее. Все думали, что Сашенька теперь поступит на службу, будет судебным следователем или адвокатом; а он как-то после обеда позвал отца в кабинет и, протягивая ему газету, сказал:








