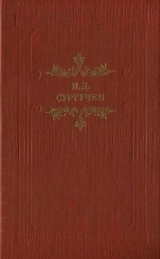
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Они очень хотели нравиться, – эти подданные, влюбленные в свою королеву.
Все столы были заняты, все газовые рожки были зажжены. Было светло, тепло, и не чувствовалось, что на улице опять идет дождь, который принесли заблудившиеся тучи…
…Все разговаривали, все, казалось, были заняты друг другом, но совсем не было обычного трактирного шума. Все курили, но как-то так, что дым не стлался облаками по комнате и не заслонял ее. Чувствовалось, что каждое слово здесь хочет быть нежным и ею услышанным, каждый жест хочет быть изящным и ею замеченным, каждое движение хочет быть милым и только ей одной таинственно понятным. Человек, имевший на себе галстук персидского рисунка, видимо, страдал при виде человека, одевшегося в пиджак с двумя разрезами сзади, и английские перчатки не успокаивали своего обладателя, когда он видел часовую цепь продернутую сквозь верхнюю петлю сиреневого жилета.
Тихо струился разговор по углам. А она стояла у буфета, как у трона, и царствовала, – прекрасная Катерина Корна-ро, создание Тициана.
И, при всей своей бедности, я рублей сто дал бы, чтобы посмотреть, каков ее муж? Как выглядит человек, уехавший в Страсбург за горохом?
И вдруг, я ясно видел, она вздрогнула.
Отворилась уличная дверь, и в комнату вошел молодой человек в черной широкополой шляпе. Сразу стало тихо, как по волшебству, смолкли разговоры. Десятки глаз, горящих то черным, то серым, то зеленым огнем, зло и недружелюбно следили за ним. Все знали его, гордеца, – знали силу его. А он увидел свободное место под картиной, небрежно извиняясь, прошел к нему, небрежно бросил шляпу на соседний диван, снял пальто, как-то особенно, подкладкой вверх, свернул его, привычным движением провел пальцами по волосам, словно желая выпрямить их кольца, – небрежно, свысока, осмотрел притихнувшую залу, и глаза его не сделались более почтительными, когда он увидел царицу, и приветствие, посланное им рукой, не вышло из рамок холодноватой вежливости. Она ответила ему, и в ее молчаливом поклоне было много слов, которые непосвященному так же трудно прочитать, как трудно прочитать то, что написано звездами на небе.
…Мне сразу стало скучно и стыдно за те слова, которые я говорил ей по-русски; какой-то червь влез в мое сердце, и я, сухо поклонившись ей, ушел спать и благословлял бога людей путешествующих: сон, посылаемый им, скор и благодетелен.
III
Утром было такое ощущение, будто я впервые взглянул на божий мир. Предо мною развернулись два государства: одно – по эту сторону гор, с поездами, с вокзалами, с отелями, полное забот о хлебе и горохе, другое – по ту, – и все, что было по ту сторону, казалось недосягаемым и загадочным. И казалось, что именно из той стороны, блаженной и счастливой, пришла сюда она.
Я видел вагоны, прикатившие откуда-то слева, и думал: вот едут люди, неизвестные мне, и у всех у них – одна забота: сколько времени стоит поезд, не дурно бы купить шоколаду, который здесь дешев, и свежих газет. Многие из них еще не разогнали сна, и ночные тени мелькают в нешироко раскрытых глазах.
Пошел вниз – пить кофе.
Метр указал мне на salle á manger, украшенную зеркалами и в которой теперь немца не было.
– Я предпочитаю все-таки буфет, – сказал я.
Метр пожал плечами.
– Как вам угодно, – ответил он и добавил неожиданные, непонятные слова: – Но только вы ошиблись.
Неискренняя улыбка не осветила лица, а сделала его скрытно злобным и недружелюбным. Такие лица были у всех вчерашних посетителей, когда в комнату вошел молодой человек.
– Я? Ошибся? В чем?
Метр спрятал лицо, отвернувшись в сторону.
– Вы ошиблись, – повторил он и ушел.
Мне как-то сразу стали ясными его удивительная гофрированная на груди сорочка, щегольские запонки в виде земляничных ягод, тщательно разглаженные брюки, лакированные ботинки американского образца…
«И этот – верноподданный», – подумал я, и мне казалось, что ему не платят жалованья, что он какой-нибудь знатный человек и пошел в метрдотели только для того, чтобы быть всегда около нее, всегда служить ей и, если будет нужно, – отдать жизнь…
Я отправился в буфетную и сел за вчерашний столик. Хозяйки не было.
«Еще придет», – мелькнула мысль.
Вместо нее за буфетом стояла девушка, читавшая книгу в зеленом переплете. В комнате никого из посетителей не было, и оставались пустыми места, на которых вчера сидели влюбленные люди. Персидский галстук лежал, вероятно, ожидая вечера, в комоде; золотая цепочка – в футляре; пиджак – в гардеробе и английские перчатки, вывернутые наизнанку, – в кармане. Все это были, вероятно, заветные, заколдованные вещи, которые должны были внести в ее душу частицы очарования и которые поэтому другим целям, низменным и житейским, служить не могли.
Показывая на девушку, вчерашний лакей сказал мне:
– Сестра, – но это уже не вызвало никаких чувств, и я со скукой допивал свой кофе.
…Поезд в Зинген уходит в час с минутами. Надо было торопиться, стряхнуть с себя странный сон, убедить себя, что царицы никакой нет, и ехать в Шварцвальд, где есть интересные обычаи и костюмы.
– С каким бы удовольствием пожил здесь еще денек-другой… – заговорил мой любимец.
– Глупо! – ответил его всегдашний и непримиримый враг – Надо быть благоразумным, надо ехать.
– Горы, – соблазнительно мечтал первый, – близость Баден-Бадена, тень Тургенева, несомненно витающая в этих местах…
– Сам же знаешь, что это не то, – стоял на своем мой любимец, – не то, братец мой… Нечего, нечего… Надо идти, менять деньги и собирать свои умывальные принадлежности… Вы, кажется, откупорили сегодня свежий одеколон?
– Коли так, – так. Подчиняюсь. Идем.
Пошел.
О, город с памятником картофелю! После дождя ты со своими двумя кривыми, непараллельными улицами похож на выстиранные брюки, которые сушатся на солнце и еще не совсем высохли.
Вчера еще я заметил вывеску Beichsbank’a[5].
Вхожу.
Обыкновенно с представлением о банке соединяется представление о больших, высоких комнатах, отделанных с показною и очень дорогой простотою, которая всем входящим должна говорить: в этом месте денег много. А здесь в первой от входа комнате было просто окошечко пароходной кассы, и за нею белобрысый человек, взглянувший на меня с удивлением. Мне казалось, что в этом банке едва ли найдется пятьдесят пфеннигов.
– Разменяйте, пожалуйста, мне эти деньги.
Белобрысый малый, как эксперт на суде, долго рассматривал мою бумажку и потом, вернув ее мне обратно, сказал:
– Наш банк не занимается разменом денег.
– Как не занимается?
– Очень просто. Не занимается.
– Чем же занимается ваш банк?
– Всеми кредитными операциями, кроме этой.
– Где же я могу разменять эти деньги?
– Эти деньги – русские деньги.
– Мне кажется, что вы не ошиблись.
– Вы могли бы разменять их в частном банке. Нужно идти так, а потом так. Против королевского почтамта есть частный банк.
Я схватил с прилавка шляпу и бросился к выходу, но малый, улыбаясь, остановил меня словами:
– Я не сказал вам: вы можете разменять. Я сказал: вы могли бы их разменять в том случае, если бы владелец частного банка не уехал бы к своей дочери, родившей вчера, в пять часов дня, мертвую двойню.
– Прекрасно! – ответил я, – Предположим, что владелец частного банка уехал к своей дочери, родившей вчера, в пять часов, мертвую двойню. Но ведь, я думаю, у владельца частного банка есть заместитель, который, в его отсутствие, ведет кредитные операции?
Малому понравилась моя способность точно и определенно выражаться, и он поддержал разговор.
– Вы не ошиблись, – ответил он, – таковой действительно был, но он уже вот восемь месяцев, как умер. Это была его законная жена Амалия, прожившая с ним в супружестве тридцать восемь лет с небольшим. Теперь заместителя у него нет. Вы видите: я один. Я один! – повторил он значительно. – А ведь это Reichsbank, почему же не быть одному в частном банке?
Я чувствовал, что по спине у меня начинают бегать мурашки.
– А других банков здесь нет?
– Нет. Вам придется съездить для размена в Страсбург
– Но позвольте! Ведь у меня на билет до Страсбурга денег нет!
– Вам разменяет железнодорожный кассир.
– Не меняет!
Малый пожал плечами и ответил:
– Тогда вы, действительно, испытаете некоторое затруднительное положение. Я, со своей стороны, ничего не могу вам рекомендовать, и ничем не могу быть полезным.
Пошел я по улице так, потом так, нашел Королевский почтамт, против него – вывеску: «Банк», переправился через дорогу и в самом деле на двери увидел объявление, сделанное от руки, но издали похожее на печатное:
– Geschlossen[6].
…Получилась история – положительно неприятная.
Мимо меня проходили кирпичного цвета немцы с корзинками в руках, – в городе был, верно, базарный день, – многие из них останавливались и читали:
– Geschlossen.
И объясняли мне:
– Вероятно, он уехал в Зинген, к дочери. Она должна вот-вот родить.
«О, Sancta Simplicitas! – Со вздохом подумал я, – Они еще не знают, что дочь в пять часов уже родила мертвую двойню».
Посмотрел налево. На меня с грустью косился человек, смутивший когда-то Европу картофелем.
– Что же делать? – на этот раз заговорил мой оптимист.
– А-а-а-а! – злорадствовал первый, – Что? Поехал в Шварцвальд? Посмотрел странные обычаи? А-а-а! А-а-а!
– Черт же его знал, что это такой дикий город, – робко оправдывался второй.
– Дикий город? – не унимался первый, – А-а-а! Дикий город? Посмотрим, как вы будете изворачиваться в этом диком городе!
– Эх! поймать бы за ухо этого задиралу!
Пошел в гостиницу.
– Счет!
– Изволите ехать?
– Да.
– В Зинген?
– Да.
– В час десять?
– Да.
Через некоторое время, которое мне показалось одним мгновением, принесли счет. В итоге стояло 15 марок и какие-то пфенниги.
Вынимаю российскую красную бумажку.
– Это багажная квитанция?
– Это – русские деньги.
– Ах, это русские деньги?
– Да.
Метр с любопытством рассматривает шелковую хрустящую бумажку, рисунок ее, особенно с оборотной стороны, ему, видимо, нравится. По крайней мере, возвращает он ее мне с удовольствием и почтением.
– Получите, пожалуйста, по счету, – говорю я и опять протягиваю ему десятирублевку.
Лицо метра становится несколько изумленным.
– Виноват, сударь, – нерешительно говорит он мне, здесь в ходу немецкие деньги. Я хочу сказать: германские.
– У меня нет германских. Я хотел разменять, но у владельца банка родила дочь, и он уехал в Зинген.
– Ах, уже родила?
– Да. Родила. Мертвую двойню.
– Мертвую двойню?
– Да.
– Извиняюсь, сударь.
И со счетом и с русскими деньгами метр понесся вниз по лестнице.
Я с облегчением вздохнул, стал смотреть на горы и вдруг почувствовал, что они вовсе мне не нравятся.
– И что в них хорошего? Низенькие, приземистые, как плохой забор. Там, за ними, наверное, пасут коров.
Минут через десять я услышал на лестнице тяжелые шаги. Сердце замерло: так не ходят по лестницам люди, разносящие веселые вести!
– Сударь! Хозяйка просит у вас германских денег. А эти деньги нам неизвестны. Стоимость их тоже неизвестна. При том же курс их…
– Уверяю вас: курс русских денег отличный. Если бы у меня были газеты, я бы вам легко показал это.
Метр учтиво, но не без тайного злорадства, поклонился и развел руками.
– Если бы отель был мой, – говорил он мне, – поверь те, сударь, вы не испытали бы таких затруднений. Но я служу у людей малокультурных и ничем вам полезным быть не могу.
«Положительно, в Оффенбурге никто полезным быть не может», – пронеслась у меня в голове мысль.
– Быть может, вы, – говорю я, – как человек культурный, разменяете мне деньги? Возьмите по рублю за марку
– Сударь! Верьте слову, – и он вынул из жилета оловяные деньги, – вот все, что я имею. Все сбережения я в понедельник отправил своему другу Фрицу, попавшему в беду.
В голосе его и усмешке проскользнули уже явные ноты издевательства.
– Что же мне делать?
О, каким торжеством, каким ярким победным чувством блеснули глаза моего собеседника! Несмотря на двадцатый век, как тонко и неблагородно мстителен может быть человек!
– Вам придется поговорить лично с хозяйкою, – невинным тоном посоветовал мне метр.
– С хозяйкой?
Слова метра показались мне крутым кипятком.
– Да. С хозяйкой.
Я почувствовал, как кровь бросилась мне в лицо, как задрожали руки, как в глазах пошли какие-то круги, – однако призвал на помощь бога людей путешествующих и ответил, насколько мог, спокойно:
– Отлично.
Он наслаждался и мстил за то, что я на один миг позволил себе полюбоваться его святыней!
– Будь дома хозяин, тогда, конечно, можно было бы поговорить с хозяином, – продолжал невинным тоном метр, – но хозяин, к сожалению, уехал.
В Страсбург, – сказал я.
– Да, в Страсбург, – ответил метр.
За горохом! – скрежеща зубами, говорил я.
– Да, за горохом, – спокойно отвечал метр.
Как осужденный, я спускался по лестнице и смотрел на его спину.
«Господи! – говорил кто-то внутри меня. – Не надо бы требовать вчера эти дорогие сигары, французское вино. Ну, какой же дурак пьет на Рейне французское вино?»
Каким милым казался мне теперь оставшийся в стороне Базель! Я готов был посылать ему поцелуи. Проснулся бы я теперь поутру, погулял бы по городу, спокойно, в первой лавочке разменял бы русские деньги и ел бы прекрасный шоколад. Подумать только: лучший сорт – 40 сантимов.
IV
Хозяйка сидела за письменным столом, хмурая и красивая. как темная ночь. Странным казалось, что она здесь, среди этих продолговатых конторских книг, каких-то счетов, квитанций, замысловатых чернильниц и будильников…
Я стоял перед ней, как преступник перед судьей, – преступник-рецидивист.
– С вас, кажется, причитается получить по счету? – проговорил тихий, холодный голос, и на меня, не ведая ни жалости, ни гнева, взглянули два больших, спокойных глаза.
Я долго не отвечал, смотрел в эти глаза и думал: пусть меня посадят в тюрьму, пусть кормят селедкой и не дают пить, но я рад, что вижу эту прекрасную женщину, я рад, что не поехал в Базель!
– Да, сударыня, – скрывая свои мысли, проговорил я, – вам причитается получить с меня…
– Пятнадцать марок и семьдесят пфеннигов, – почтительно дополнил метр. Он так вытянул свои манжеты, что запонки, похожие на землянику, блестели, как пьяные глаза.
– У вас нет немецких денег? – продолжал тихий, холодный голос.
– Нет, сударыня.
– Вы предлагаете деньги русские?
– Да, сударыня.
В коридоре затрещал звонок, и я видел, с каким неудовольствием вышел из конторы метр.
– Вот эти?
– Да.
И опять испытующе взглянули на меня холодные, прекрасные глаза, и опять холодный, низкий голос спросил:
– Но почем мы знаем, например, что они, эти деньги, не фальшивые?
Я взял бумажку, внимательно рассмотрел ее на свет, пошуршал ею, показывая шелковистость ткани, и сказал, вкладывая в свою речь всю силу убеждения, на которую я был способен:
– Уверяю вас, сударыня, деньги не фальшивые.
Она ответила:
– Вы – человек заинтересованный и иного, конечно, сказать не можете.
– Сударыня, – заметил я, охраняя свое достоинство, – это все, что я могу сказать вам по этому поводу. Имейте в виду, что у нас в России нелегко заниматься подделкой кредитных билетов. С какой бы стати, я например, стал рисковать каторжными работами? Посудите сами.
Красавица, Катерина Корнаро, опять повертела в руках красную бумажку, опять пренебрежительно бросила ее на стол, подумала, посмотрела в окно.
Я стоял перед ней, как перед судьей, я видел, как летний свет ясной полосой переливается в ее темных, слегка золотистых волосах; я забыл свое преступление, перестал думать о том, как жестока будет кара, – я смотрел на нее и ласково ощущал милую, шуструю мысль: «А все-таки отлично сделал, что не поехал в Базель».
Вдруг она повернулась ко мне и, как будто затрудняясь слегка, спросила:
– Вы путешествуете по делам или для удовольствия?
– А вы как полагаете, сударыня? – ответил я вопросом на вопрос.
Она замялась, слегка покраснела, и легкий румянец мягко и ласково, как нежгущий огонек, осветил ее лицо, сделал его еще моложе и прелестнее.
– Путешественники, а особенно такие, как вы, – подчеркнула она, взглянувши с легким укором, – покупают всегда много ненужных вещей, которые потом часто теряют по дороге.
– Совершенно верно, сударыня! – подтвердил я, вспоминая туфли из тюленьей кожи, забытые мною в гостинице в Кельне.
Налаживался приятный разговор, который я охотно поддержал бы, рискуя даже пропустить поезд.
– Что купили вы? – деловым тоном спросила она.
– Я?
– Да, вы.
Я чувствовал, что густо и глупо краснею, и не мог сразу вспомнить своих покупок.
Она смотрела на меня с улыбкой, снизу вверх, и, конечно, видела мои затруднения.
– Имейте в виду, – сказала она, – что я возьму лучшую вещь у вас за долг по счету.
Мне стало весело, я вспомнил:
– Сударыня! В Берлине я купил прекраснейший снимок с Мадонны Ботичелли. «Мадонна с лилиями», сударыня…
– Картину, да? – и в глазах ее замелькали тени скуки и разочарования.
– Увы, сударыня! Не картину, только снимок. За саму картину я согласился бы вычеркнуть два года моей жизни, самые лучшие: двадцать восьмой и двадцать девятый. Только она, эта картина, как праведник, и спасает Берлин. Иначе бог давно бы провалил и его и всех немцев сквозь землю.
Я старался говорить как поэт, она ответила:
– Не говорите пустяков: картин я не люблю, и, во-вторых, Берлин – отличный город.
– Сударыня! Вы? Вы? (Она поняла тон моих вопросительных знаков и милостиво и застенчиво улыбнулась.) Вы не любите картин? Вы не любите ночного неба? Вы не любите горного эха? Вас не тянет послушать, как бьются об утесы морские волны?
– Вы опоздаете на поезд, сударь! – с улыбкой проговорила она. – Что вы еще купили? Надеюсь, вы были не в одном Берлине?
– В Кельне я купил одеколону.
– Большую бутылку?
– Нет. Среднюю.
– Ну, это что ж? Это стоит пять марок, а с вас причитается почти шестнадцать.
– У меня есть чудесные сигары…
– Я не курю…
– В Лондоне я купил три летних рубашки.
– Это пустяки.
– Извините, сударыня, не пустяки: рубашки сшиты из шелкового полотна.
– К сожалению, я не ношу мужских рубашек..
– Но у вас есть супруг, сударыня, который, как мне известно, уехал в Страсбург за покупками…
В последнюю секунду я не решился сказать: за горохом.
Пожалуйста, не заботьтесь о моем супруге, – не без раздражения сказала она, – потом, ваши рубашки могут ему и не прийтись…
– Он очень толст? – спросил я не без дерзости.
Она покраснела и уже с явной досадой сказала:
– Еще чем можете похвалиться?
А я втайне хитро подумал: значит, в самом деле толст. Разбух от пива и картофельного салата.
– Позвольте вспомнить, сударыня, – ответил я и, подняв глаза к потолку, начал думать, долго думал, вздохнул и сказал:
– Больше, к сожалению ничего у меня нет. Есть у меня еще флакон чудеснейших английских духов, но их отдать я вам не могу, потому что везу их своей милой.
– У вас есть…
И она запнулась… У меня сперло дыхание. Вдруг то, что сначала сверкало в ее глазах, сразу перелилось в холодный, тяжеловатый, отливающий какой-то странной мутью блеск.
– …английские духи? – окончила она фразу.
– Да. У меня есть английские духи.
Какая-то мысль мелькнула, видимо, под золотыми волосами, но эту мысль сейчас же далеко, куда-то в душу, запрятали, а глаза сделались совсем невинными: ничего, ничего ей и в ум не приходило… Она – женщина солидная, ее отель хорош и известен, разве можно заподозрить ее в дурных желаниях?
– Раз вы везете их своей милой, – натянуто спокойным тоном сказала она, глядя в сторону, – я, конечно, не стану требовать их в уплату. Но, – и опять лукавство сверкнуло в посветлевших глазах, – но мне хотелось бы хоть взглянуть на флакон. Я никогда не видела английских духов…
Я пошел в свою комнату, раскопал дно чемодана, извлек оттуда красный шелковый футляр с напечатанными на нем золотыми буквами и опять предстал пред своей повелительницей. Было ясно, что, когда я уходил из комнаты, она смотрелась в зеркало: был приглажен локон, который раньше выбивался из прически, и около левой брови чуть легла полоска нестертой пудры…
Она осмотрела футляр, вынула флакон, подумала и вдруг сказала:
– Эти духи я согласна взять в уплату за счет.
Я ответил:
– Но, сударыня…
Она быстро спросила:
– Что?
Глаза ее сделались ласковыми, мягкими, словно прошли облака, грозившие молнией.
– Посадите меня, – ответил я, – в тюрьму, кормите селедкой и не давайте пить, но эти духи получит только моя милая.
– Хороша ваша милая? – последовал вопрос, и мне показалось, что грудь ее поднялась выше…
– О! Очень хороша! – сказал я с восторгом и уже приготовился рассказать о своей милой, подумав: почему не рассказать этой женщине, если порою я рассказываю о ней своему стулу? – но замолчал, так как увидел, что события начинают изменяться. Она поднялась со стула и стала у правой стороны стола, – и я близко, почти около себя, видел стройный стан и прекрасную, гибкую, из теплого мрамора выточенную шею. И образ милой в первый раз исчез за какой-то внезапно в глазах мелькнувшей черной стеною…
– Вы часто целовали ее? – Спросила она, и голос ее зазвучал глуше: пропали серебристые ноты, интонации стали ровнее; это показалось мне очень красивым.
И опять стали ясными и близкими воскресшие темные, почти черные глаза, которые я так часто целовал, которые теперь остались там, далеко, в России.
– Да, – ответил я, стараясь не выйти из делового тона, – я часто целую свою милую.
Она вздумала поднять выше оконную штору, для этого ей пришлось задеть меня на мгновенье плечом, и опять зарябило в глазах, и во второй раз милый образ исчез, как в высокой, неожиданно всплеснувшей волне.
– Она любит вас?
– Мне так кажется, сударыня.
– Она часто пишет вам?
– Жаловаться не могу, сударыня.
Она стояла, опершись на подоконник, облитая светом, – прекрасная, расспрашивающая о любви Катерина Корнаро…
Подумала о чем-то, медленно провела рукою по волосам, и от этого неосторожного движения снова отделился и упал на лоб непокорный локон, – и странно: оттого, что он упал на лоб, она вдруг стала похожа на девушку, совсем молодую, еще не невесту.
– У нее мягкие волосы?
Я помедлил с ответом, – не мог оторвать глаз от ее волос; видел летний свет, как золотая кровь в жилах, ясной полосой переливается он в их золоте.
Я ответил:
– Да, сударыня.
– У нее прекрасные глаза?
И, отражаясь черными лучами ресниц, ровно, с улыбкой на дне, смотрели на меня две голубых глубины.
– Да, сударыня.
– У нее красивые руки?
И я видел только ее пальцы, словно они одни только и существовали на свете: как живые браслеты, они обвили флакон с английскими духами… Я знал, что она пробует, как алмаз – на огне, свою силу; я знал, что эти духи нужны, быть может, для того, кто вчера так небрежно поклонился ей, и все-таки радостно дрожащим голосом ответил:
– Да, сударыня.
Она уже понимала, она уже праздновала новую, такую легкую игрушку-победу: вдруг улыбнулась, опять помолчала и тихо, заранее зная ответ, лукаво спросила:
– А какого цвета глаза вашей милой?
Я почувствовал, что еще мгновение, и я стану Иудой. Я почувствовал, что могу сказать только одно. Быстро, вереницей пробежал в уме ряд колебаний и сомнений, упреков и укоров. На душе стало смутно и весело. Было чего-то жаль, и в то же время радость явно колыхалась под сердцем. Каким-то занавесом, густым, непрозрачным начал заслоняться черноокий образ той, которой я покупал в Лондоне духи, – и я соврал:
– Синего, сударыня.
Еще тише, уже ласково и приветливо улыбнувшись, она спросила:
– А ресницы?
Я подумал: «Господи! Какое счастье, что пришлось соврать один только раз» – и опять ответил:
– Черные, сударыня…
И после паузы, снова слегла задохнувшись, спросил ровный, без серебристых нот, тайно торжествующий, голос:
– Так вы не хотите, чтобы я взяла эти духи?
Я помолчал, склонил голову и покорно ответил:
– Хочу, сударыня.
И снова спросил тихий голос:
– А кому вы должны были отдать их?
– Только своей милой, сударыня.
И еще тише и ближе спрашивал участливый голос:
– А кому вы отдали их?
– Своей милой.
И еще тише и ближе спросил участливый голос:
…– А кому вы отдали? – мягко, матерински и ласково и укоряюще спрашивала она, и я вдруг почувствовал, что совершилось что-то серьезное, большое, что есть в тоне этого вопроса какой-то надрыв, страдание, – глубокое, давнее, и когда я, почему-то опустивший глаза, снова поднял их на нее, то увидел: стоит передо мной Катерина Корнаро, прекраснейшее из прекрасных созданий Тициана, – стоит опустошенная душа, кого-то любящая или любившая, – любившая, быть может, мучительно, безответно, страдая… И запали далеко прекрасные глаза, и свет их померк, словно осенние тучи поползли по солнцу, – и даже золотистые полосы, казалось, потускнели и перестали ласкать шелковые косы…
Где действующие лица?
Муж ли, уехавший в Страсбург за горохом?
Этот ли молодец, вчера так небрежно расправлявший пальцами кольца кудрей?
Или еще кто? Живущий здесь, в этом городишке, или, может быть, – в Страсбурге?
Кто же отрекся от нее так скоро и охотно, как я отрекся от своей милой, далекой, далекой, живущей там, на западе Черного моря?
«Кто? Где? Когда? Почему?» – мелькали вопросы…
А она ласковым, мягким движением отдавала мне флакон в красном футляре и говорила:
– Передайте духи вашей милой… Любите, берегите… Чаще целуйте…
– Позвольте! – лепетал я. – А долг? А пятнадцать марок?
– Вы опоздаете на поезд, – вдруг прежним, сухим хозяйским тоном снова начала она.
В контору входил метрдотель, – и живое любопытство было написано на его лице.
· · · · ·
Через двадцать минут я ехал в Зингер, – ехали со мной какие-то люди, читали газеты, ели шоколад… И только тогда, когда я уже приехал в Зингер и носильщик понес мои вещи в другой поезд, – только тогда я вспомнил:
– А где же Черный лес? Где странные обычаи? Неужели же я уже проехал шварцвальдскую железную дорогу – это чудо инженерного искусства?..
А на другой день, переночевав в Милане, я в семь часов утра уже летел на почту переводить деньги в Оффенбург. Миланская почта открывается ровно в десять часов!
Этого указания, к сожалению, нет в путеводителе Филиппова
Еленучча
Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: «песни о любви».
Из М. Горького
I
Сезон уже кончался, – и в отеле занято было только четыре комнаты. На владельца отеля, синьора Манфреда, две вещи действовали угнетающе: во-первых, когда дул сирокко, это проклятое порождение африканских берегов, и, во-вторых, когда в отеле было мало народу.
Каждое утро, встав с зарею, он, как садовник любимое дерево, обходил свой отель. Поищите-ка на острове лучшее место!
«Это не отель, а король!» – думал Манфред и иногда, а особенно после тех дней, в которые иностранцы производили недельные расчеты, говаривал, кланяясь стене, обращенной к морю:
– Доброго утра, ваше величество! Как спали, ваше величество? Ночь была тихая и темная, ваше величество! Хорошо у нас на острове, ваше величество! Понаехали иностранцы, кошельки у них ничего себе, ваше величество! Вся утроба вашего величества полна. А ведь трудно переварить такой завтрак, ваше величество? Семнадцать англичан, тридцать восемь немцев, одиннадцать русских и двадцать четыре американки!
Любил Манфред пошутить с отелем, как с живым существом, как с близким другом, – любил поразговаривать с ним рано поутру, когда солнце, как красный, удивленный, неморгающий глаз, встает из-за синих морских ворот и впервые озирает новый, еще небывалый, только что рождающийся день.
Море – спокойно, утро – прохладно, и окна отеля отливают холодноватой сталью. Все спит, – и еще бы не спать: в этих желудках переваривается хороший обед, и Манфред вспоминает вчерашнее меню: макароны по-неаполитански, спаржа с голландским соусом, филе карамболь, цыплята с салатом, ананасное мороженое и свежая земляника. И кофе, – душистый кофе с Явы, секрет которого, кроме Манфреда, никому не известен в Италии! Придушив все это сигарами, подчас недурными, попробуйте не заснуть!
«А вино? – вдруг вспоминает Манфред. – Вино, наше волшебное белое вино? Кровь земли».
Вьется дымок кухни. Уже проснулся повар, – поджаривает хлеб, нарезанный ломтиками. Это необходимо к утру, это особенно любят немцы.
Ах эти немцы! Все хорошо: аккуратные, платят отлично, вежливые, любят свою родину, выписывают свои газеты, но слишком много пишут открыток… И все пишут, пишут, и карандашами, и чернилами, а когда обедают, пишут в антрактах между блюдами.
«Много немцев на свете!» – думает Манфред.
Шевельнулась дверь на верхнем балконе, высунулась голова, и видно, как закрылись от наслаждения сонные глаза, как нос потянул аромат апельсинных цветов.
«Номер двадцать четвертый. Доктор. Одиннадцать лир, – соображает Манфред, – начался день. Началась суета. Пора жарить кофе».
Уже давно разгорелась жаровня. Расставив ноги, сидит около нее Манфред и помешивает на сковородке жирные, душистые зерна. Все выше и выше поднимается солнце, – все сильнее и сильнее, как на увеличивающемся огне, закипает жизнь отеля.
Снуют камерьеры во фраках, щелкают фотографические аппараты, – это все, и стоя, и сидя, и обнявшись, и чокаясь бокалами, снимаются немцы. Снявшись, собираются на прогулки и слащаво кричат друг другу: ау!
Уже отерли камерьеры первый пот. Ушли, перекликаясь, немцы. Лениво допивают кофе русские, прошатавшиеся где-то всю ночь. Надо готовить первый завтрак. Что на завтрак? Об этом заботится жена, – быстро стареющая Мария. Громким голосом она читает нравоучения повару Катальдо.
…Все эти иностранцы представлялись Манфреду теми молоточками, которые куют счастье для единственной его дочери Еленуччи.
Все они были двух сортов. Первый сорт – это те, у которых много чемоданов: черных, желтых, коричневых. Чемоданы эти – настоящие кожаные, дорогие, тяжелые: их трудно нести на голове, в них наложено много вещей. Эти люди платят за пансион по одиннадцати лир, платят охотно, не торгуясь, и окна их комнат всегда выходят на море, в ту сторону, с которой из-за синих ворот на заре выходит солнце. Жены этих людей отлично играют на пианино, – и вечера, когда играют на пианино, очень любит старик. Между женщинами бывают иногда прекрасные, – но кто их сравнит с той?
Вечерами, когда так сладко кружится голова, что кажется, остров плывет, лезет Манфред в свою кладовку, – так он называет память.
Конечно, в отеле бывают прекрасные женщины, но куда им до нее?
…Откуда-то… давно, из прекрасной земли, приехала она одна, поселилась в отеле: глаза ее были грустны, как струны, которых не касается рука. Этого было достаточно, чтобы вскрикнуло молодое сердце. Мария всегда была чудесной и верной женой, но не особенно хорошо, когда красны руки женщины, когда от волос попахивает пережаренным маслом и когда вместо разговоров о любви она читает нравоучения повару Катальдо: надо признаться, что беда уж не так велика, если немцы съедят не совсем тщательно промытый салат.








