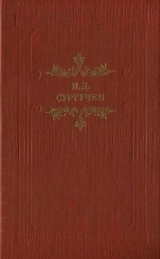
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Ясно было, что сталкивались два миросозерцания, выросшие на одной и той же почве: жалкого, мозолистого существования, с одной стороны, и запросов души, ищущей смысла и правды жизни, – с другой.
– Д-да, – после паузы протянул шахтер, и непонятно было, что он хотел подтвердить. Слова парня будто навели его на какие-то соображения, которые он упускал раньше.
– А я, брат, тебе вот что скажу, – продолжал спокойно паренек, и голос его зазвучал глубоко, задушевно, словно он тронул в сердце самую нежную, самую любимую свою струну, – жил однажды святой. Пустынь его была тихая и далекая. Никто к нему не ходил, и никого он не знал. Человек был он простой, читать не умел. Ни псалтыри, ни святцев. И молитв никаких не знал. «Отче наш», «Богородицу» даже не знал. Знал только, что есть где-то бог, – вот и все. И только и молитвы у него было, что твердит, бывало, как день, как ночь: «Господи, я – твой, ты – мой». И ничего больше. Ничего! «Я – твой, ты – мой». И вот, братец ты мой, когда умер он, на могиле у него выросло деревцо…
Голос паренька дрогнул от захватившего его волнения.
– Выросло деревцо… Ветвистое такое… Всю могилу закрыло… И на каждом листке было написано: «Я – твой, ты – мой». На каждом листке!
Сверкнувшая снова зарница осветила его лицо, блеснув в крупной, жемчужной слезе, и совсем не в тон проворчавшему вдали грому была снисходительная, себе на уме, улыбка бородача.
Протяжно и хрипло засвистел паровоз, дрогнули внизу, умеряя ход, вагоны: вдали, на завороте, блеснула огоньками станция.
IV
– Что случилось?
– Что случилось! Бабу раздавили – вот что случилось. Ах ты елки-палки! Опять опоздаем в Тулу.
…– Раз с тобой желает говорить пассажир первого класса, ты должен почтительно удовлетворить его любопытству.
– Бабу раздавило-с, ваше превосходительство.
– Чем раздавило-то?
– Нашим поездом-с… Переехали-с…
– Ну-с, и что же, переехали?
– Докладываю же вам: бабу-с… Неизвестную-с… Звание вон пошли ее выяснять… Так что кончина ей, значит, такая от господа бога положена.
– Sancta simplicitas![3] Разве от господа бога такая кончина полагается? От господа бога – кончина мирная, безмятежная, и на Страшном судилище Христове ответа просим.
– Так точно, ваше превосходительство!
– То-то вот и оно! А ты: «от господа бога»… Ну, ступай!
– И надолго задержимся?
– В-вероятно…
– А где же она?
– А вон за водокачкой…
– Вот тебе и фунт изюму!
– Да, вот вам и фунт изюму…
Маленькая, захудалая станция. Около двери, под навесом, колокол. Тут же фонарь с разбросанными по стене лучами теней. Гулко звучащий асфальт платформы. Как осенние листья под ветром – встревоженные лица. Неспокойное, не желающее уснуть небо. Чья-то квартира с тюлевыми занавесями на окнах, слабо освещенная внутри.
Жена начальника станции, оказывается.
– Какой? Этой станции?
– Этой. Слышите крик? Это сам начальник кричит. Бросил на землю свою красную фуражку и кричит.
– Закричишь. Простите, что вмешиваюсь в разговор. Восемь лет служу на этой дороге, всегда сопровождаем вот этот поезд: номер осьмой-с. Знаю ее прекрасно-с. Красавица. Восьмой номер в этих местах всегда вечером идет, – ну, вот она и выйдет на платформу… Да-с… закутается платочком и смотрит.
– Брюнетка или блондинка?
– А сам он красивый?
– Краси-ивый! Усы как у императора Вильгельма.
– Теперь небось растрепались?
– Ну, конечно, растрепались… Растреплешься.
– Все это так, я понимаю. А меня вот мороз по коже подирает. Все-таки и я проехал по ее телу… И я душил ее… И я был ее палачом…
– Философия, Володя, ей-богу философия! Вечно ты лак наводишь… Ну, при чем здесь я, ты, третий, десятый! Плюнь! Брось мысли! Пойдем нарзану выпьем!
– Здесь, господин, нарзану не будет-с… Станция без буфета-с.
– Не нравится мне эта степь, черт ее дери! Не для людей она. Вы посмотрите-ка на эту даль, на эти тополя, которые исчезли там где-то, в темноте…
– Все равно! Не умерла сегодня, через двадцать лет умерла бы… Vita brevis. Ars longa[4].
– Ну однако, сеньоре кондукторе, скоро в путь соблаговолим?
– Не могу знать-с. Не от нас зависит-с… Еще перенос тела будет.
– То есть как это так: перенос тела?
Очень просто: надо перенести тело.
– Куда перенести-то?
– В квартеру-с… Вот ихняя квартера-с. При вокзале-с.
– А так нельзя? Немножко тело от рельс подвинуть, а поезд пустить…
– Не могу знать. Может быть, и возможно. Вы пошли бы дали совет…
– Нда-а… Совет… Получается Ляпкин-Тяпкин.
…– Н-ну, брат! Теперь, брат! Знай наших, поминай голландских! Целый век случая ждал! Теперь ни в какую игру проигрыша нет. Конец! Забрался это я в кучку – в народ, значит. И нагнулся прямо к ней, к покойнице. Бытто платок поправить хочу, а сам это рукою шарь, шарь: где кровь, ищу. И вымазал пальцы. Видишь: во-о! Кровь, брат. Настоящее. Теперь ни в какую игру промазать не могу. Потому руки в кровь самоубийцы помазал. От хоро-ошаго старика слышал примету! Хоро-оший старик был. Не хуже Софрона. Еще, пожалуй, почище. Пра-аво… Слышь, Сень? Не теряй, братень, случая. Слышь? Не теряй, говорю тебе я, случая! Добра желаючи говорю…
…Маленькая, захудалая станция. Около двери, под навесом, колокол. Тут же фонйрь, разбрасывающий, как паутину, длинные тени. Гулко звучащий асфальт. Уже проясняющиеся лица.
Только небо по-прежнему неспокойно: как глаза, вспыхивают зарницы.
Квартира с тюлевыми занавесями на окнах слабо освещена изнутри: с платформы все-таки виден фикус, туалетное зеркало, картина и прочее.
Соседка
Посвящается В. С. Миролюбову
I
Скверно жить рядом с бывшим артистом императорских театров. Проснешься утром, выпьешь чаю, хочешь позаняться, – как вдруг за стеной громом загремит Марсель из «Гугенотов».
– «Не дрогнет, не дрогнет наваррца рука-а! И ро-од и род твой сотрет нечестивый!..»
– Проснулся, леший! – подает реплику Дарьюшка, подметающая коридор. – Начался день! Вот человек таскается целый век: и бога не боится, и людей не стыдится…
До слуха чуткого доходит Дарьюшкино роптанье, и я слышу вопрошающий стон бывшего артиста:
– Что такое? Бог-га не боюсь? Л-людей не стыжусь? «Х-ха-ха-ха! Сатана тот правит бал!» Бога я боюсь, но людей действительно не стыжусь: плевать мне на них в высокой степени! «На з-земле весь род людской чтит один кумир священный!» Почему я, артист (он выговаривает: агтист), должен стыдиться этих животных с ненормально развитой мозговой деятельностью? Что мне они? Пиф-паф!
– Вот мармалад навязался на нашу голову грешную! – сокрушается Дарьюшка. – И когда же его унесет, лешего, прости, господи, мое великое души согрешенье!
– Им самовара не подавать! – слышится тоненький, демонстративно громкий голос хозяйки Анны Сергеевны, дамы пухлой, постоянно зябнущей. Она уже сочинила на певца прошение и читала его мне и другому жильцу, Акиму Исакычу. Прошение было убедительное: денег артист Сверницын не платит, день и ночь рычит, как лютый зверь, затевает неудобные вопросы и грозит перестрелять всю квартиру из поганого ружья.
– Им господин мировой слово Скажет! – ехидничает хозяйка во тьме коридорной.
– Г-гаспадин мировой!сию же минуту принимает дискуссионный вызов артист. – Запугала меня г-гаспадином мировым. Не видывал я таковых! Мне особы третьего класса на Невском первые шапку ломят, – помнят! А то: мировой! Что такое мировой? Кэс-кэсэ?
Слышно, как артист обулся и совершает первое хождение по комнате.
– Самовар! Нужен мне твой самовар, как собаке пятая нога! – бормочет он. – В Рязани я запел песню отца из «Лакмэ», а мировой и нюни пустил. «Уведите, говорит, этого человека отсюда! Никакой вины в нем нет!» Да-а… А пока вот мы сейчас хрупнем…
– За в-ваше здоровье, милый студэнт! – и артист стучит ко мне в стену. – Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Люблю студэнтов: это не люди, а сундуки с деньгами…
II
Артиста выдворили. У мирового он сознался, что перестрелять всех из поганого ружья действительно грозился, но только в шуточной форме, – что же касается мужичьих слов, о которых хозяйка дала добавочное показание, то:
– Этого не бывало! Вот вам студэнт императорского университета, личность в нравственном Отношении самая безукоризненная, может подтвердить! – И артист сделал в мою сторону бросающий жест: – Я на казенных сценах певал, в лучших ансамблях, – рецензии обо мне имеют тридцать четыре фунта чистого веса, – и я себе этого позволить не могу…
После суда, не дожидаясь полиции, артист собрался, нанес мне довольно продолжительный визит и отбыл на Николаевский вокзал, сделав хозяйке уверенье, что деньги вышлет сейчас же по приезде в город Псков, где у него брат ворочает миллионными делами.
Через час я уже писал зеленый билет о том, что сдается комната, в первом этаже, квартира № 2, два окна на улицу, цена по соглашению. К вечеру уже комната была сдана, – явление это, так быстро совершившееся, было приписано моей легкой руке, – а сегодня переехала новая жилица.
– Молодая и красивая! – вчера же, сейчас после найма, поставила меня в известность Дарьюшка. – Такая блондёночка… Глаза синие, а волоса – вот сюда, набок. Познакомишься, – меньше скучать будешь. Меньше изводить бумаги будешь. А то вот восемнадцать лет уже живу по хозяевам, уж волос седой стал, а еще не видывала, чтобы живой человек на бумаге столько писал. Бывали всякие народы: и на гитаре играли, и в карту сбивались, – а ты уж мозгою больно работаешь. Молодому человеку это не особенно подходит. Вред может быть. Да, вред, – и ты смеяться-то особенно не смейся, а человека, уж немолодого, послушать иногда не мешает. Всегда польза будет.
Сегодня, – вероятно, по случаю переезда новой жилицы, – она оставила меня в покое: я безмятежно лежу в своей постели, хотя уже скоро десять, и слышу, как новоприбывшая блондинка посвящается в курс нашей квартиры.
– Жильцов у нас, – говорит Дарьюшка, – по-благородному: только трое. Вы вот будете – раз! В той комнате, где дворник корзинкой зацепился, Аким Исакыч живет, человек хороший, трудящий, – по вечерам со службы приходит, чай пьет и на цитре играет. Рядом с вами, здесь вот, – и Дарьюшка понизила, все-таки, голос, – студент живет. Все бумагу пишет и выкидывать не велит. Ничего парень, в себе такой, иконостас смазливый, – но дрыхнуть здоров – прямо редкость, страсти господни! Вот уже десять, а его никакой пулемет не возьмет.
– А вы знаете что? – И я в первый раз услышал новый, совершенно неизвестный мне голос, – красивый, низкий, альт. – А картину вон ту снимите. Я не хочу ее.
– Картину? Ту? – изумилась Дарьюшка. – Это вот что парень разговаривает с девкой?
– Да, да…
– Зачем же? – взволновалась Дарьюшка. – Такую хорошую картину? И краски много, и рама золотая, и под стеклом. Стекло протереть можно…
– Не нравится она мне! – видимо улыбаясь волнению Дарьюшки, настаивала новая жилица…
– Это дело другое, – раз не нравится. Картина приличная. Студенту в комнату повесим. Они, студенты, народ аховой губернии. Икон им не вешай, а картин с девками сколько угодно лепи.
Судя по интонациям голоса, по манере говорить, человек поселился интеллигентный. «Г» произносит как французское «g», хотя «о» сливается с «а»…
Кто она и что она?
Мне думается, что она, с таким голосом, должна любить лирические стихи, музыку Грига, изящную литературу. Люди, которые обладают такой манерой говорить, бывают особенные, с сказывающейся породой, – к ним тянет, хочется им подражать, дотянуть до их уровня.
– Вы провинциалка будете? – с некоторым высокомерием спрашивает Дарьюшка.
– Провинциалка.
– В Петербург первый раз приехавши?
– Да, в первый раз.
– А откедова, позвольте полюбопытствовать, приехали?
– Из Крыма.
– Из Кры-ыма! – с почтением протягивает Дарьюшка. – Хорошая сторонка.
По комнате, в которой еще живут шагания пьющего пиво артиста, раздаются женские изящные шаги, слышится шуршание юбки. Стена, разделяющая мою комнату от соседней, тонка, и я слышу за ней каждое движение. Вот выдвигают ящик комода, перестилают его бумагой. Вот шлепают Дарьюшкины туфли…
Я слушаю застенные разговоры, шаги, шелест бумаги, ощущаю что-то новое, мягкое, влившееся в нашу квартиру, и начинаю, по своему обыкновению, гадать, что всякое может случиться, когда черт шутит, это новое, неизвестно откуда пришедшее, неизвестно что содержащее, может влиться в мою жизнь, может сделаться для меня близким и родным. В самом деле, как странно развертывается человеческая жизнь: десять минут назад не подозревавшая о моем существовании, она знает уже, что я – студент, пишу бумагу и выкидывать не велю, что иконостас у меня смазливый и что когда я сплю, то и пулеметы меня взять не могут. Какая-то новгородская баба, болтливая Дарьюшка, уже отравила нас первыми каплями сближения. Я родился на Волге, она – в Крыму. Даже думать не могли мы, что в Петербурге где-то, на Васильевском острове, есть крыша, под которой мы сойдемся, и до самой смерти, а кто знает? может, и после смерти будем помнить друг друга, а может быть, будем проклинать… А может, даже и не познакомимся, не увидимся: завтра же она узнает, что в комнате есть мыши, и съедет на другую квартиру. Теперь же мне ясно то только, что за этой тонкой деревянной стеной, оклеенной полинявшими обоями, поселился человек, присутствие которого я буду постоянно ощущать, который заинтересовал меня, который почти потянул меня к себе. Если она останется здесь жить, то непременно создадутся какие-нибудь отношения. И что дадут они, что привнесут они в мою только что начинающую определяться жизнь? Встреча с девушкой, у которой белокурые волосы и синие глаза, не проходит бесследно…
Уже половина двенадцатого. На небе – холодное, почти осеннее солнце. Скоро пойдет снег, осыплются деревья, повянет уже и теперь дряхлая трава. Из Ладожского озера потянется лед, будет лениво трещать и большими, плохо разрубленными кусками – толкаться по застывающей реке.
– Так снимать картину? – предостерегающе спрашивает Дарьюшка.
– Снимайте!
– Снимем. Студенту повесим. Они – народ таковский. Намедни, в субботу, говорю ему: «Ты бы ко всенощной сходил, лоб перекрестил бы…» А он мне такую пулю отлил, что на том свете обязательно его, дурака, за язык повесят…
– А вдруг он слышит? – тревожным шепотом, – вероятно улыбаясь и кивая в мою сторону головой, – спрашивает соседка.
Мне очень понравился этот детски лукавый, наивный тон вопроса, который, не зная акустики стены, хотели скрыть, – и я затаил дыхание, чтобы не упустить разговора о себе.
– Фу-у! Делов куча! – пренебрежительно отозвалась Дарьюшка. – И пусть слушает. Я ему и в глаза скажу!
И, проходя по коридору, она стучит мне в дверь.
– Вставай, кормилец! Люди уж отобедали! Ох, и здоров же дрыхнуть! Как ты хлеб зарабатывать будешь? Ой-ой-ёй-ёй.
III
Вот уже второй день я сижу дома и слушаю, как живет какой-то чужой, незнакомый, но почему-то заинтересовавший меня человек. Часов около трех она куда-то уходила, – вероятно обедать, – я побежал к окну и выждал, когда она проходила мимо меня.
Действительно красивая девушка. Белое выразительное лицо. Синие глаза встретились с моим взглядом. В этот момент она надевала перчатку на левую руку, разглаживая пальцы… Я открыл окно, еще не замазанное на осень, – и смотрел ей вслед, покамест она завернула за угол.
– Обернись! – гипнотизировал я ее. – Посмотри!
Не обернулась и не посмотрела.
А когда я пришел домой, в шесть часов вечера, она была уже у себя. Дарьюшка подала ей самовар и рассказывала интересные вещи про ее предшественника актера.
– Ох, и надоел же, жеребец проклятый! Поверишь, милая барышня, жизни не рада была… Как утром встанет– и пойдет! Дарья в пивную! Дарья за колбасой! Дарья в монополию!
В передней звякнул звонок. Я уже привык к «своим» звонкам. Знаю звонок почтальона, Акима Исаковича и теперь уверен, что пришел чужой человек, не наш.
Дарьюшка шмыгнула по коридору, и через минуту уже слышно было, как она очень охотно кому-то докладывала:
– Дома, дома! Пожалуйте! Вот так прямо по коридору, следующая дверь.
Кто-то бухает тяжелыми каблуками и стучит ко мне.
– Не туда, не туда! – кричит Дарьюшка. – Следующая дверь! Белая которая!
– Виноват! – басит пришедший. – Не туда попал…
– Сюда, сюда! – послышалась отворяемая дверь и голос соседки: – Это вы?
– Мы, мы! – снисходительно ответствует бас. – Собственной своей персоной! Здорово булы!
– Здравствуйте, здравствуйте, Аким Викторович! – говорит соседка; приветливость так и брызжет из ее тона. – Получили мою открытку?
– Всенепременно! Сегодня в ранний утренний час! И сегодня же прямо к вам…
– Я вас ждала. Ну, седайте! Куда вы? В угол? По-прежнему любите диваны? Ах, вы этакий… Шляпу давайте сюда. Все та же, Гарибальди? Как она постарела!
– Еще бы! – с гордостью ответствует бас. – И в жар, и зной, как это поется в «Руслане». Где эта шляпа не была? Какого неба она не видала! И на Волге, и на Кавказе, и в Финляндии… Какие дожди ее не мочили! Какое солнце не грело! Оттого она так сморщилась, оттого на ней так много рыжих пятен…
Васу присущ пафос – качество, довольно распространенное среди людей, говорящих басами. Трагики – всегда басы.
– Ну, вот мы и устроим ее, вездесущую, сюда вот, на лобное место, – говорит соседка, и приятельство, самое откровенное, не таящееся, чувствуется в ее тоне. – Ну-с, что нового? Извольте вводить меня в курс дела. Рассказывайте. Как братия? Нет, ей-богу! – и она засмеялась. – Не могу насмотреться на вас; все тот же: волосы – копной, сапоги – бутылками… Бородишша еще длинней стала.
– Бородишша! Оно конешно! Растет! – весело повторил пришедший. – Я ведь вообще из породы неменяющихся… Чего там? Я постоянство обожаю, потому человек я есть положительный, добросовестный. Линию свою аккуратно гну… Да-с. А вы вот изменились. Да. Возмужали, похорошели… И очень напрасно…
– То есть как это так? – возмутилась, шутя, соседка.
– А очень просто! – в том же, искусственно-народном тоне ответил пришедший, – Что возмужали-то – это, конечно, ничего… Всякому живому существу, как вот и моей бородишше, этой самой, рост от господа бога полагается. А вот что похорошели – это напрасно. Совсем напрасно! Ну, на кой вам ляд, прости пресвятая богородица, такие вот глаза? Ну? Ведь это что такое? Безобразие! Синие, какие-то меняющиеся… Смотрите вы вот на меня и, кажется, душу мою высасываете этими глазищами… Ей-богу, не вру! Потом волосы эти самые? Почему они такие густые? Почему они так красиво лежат? Потом, простите, губы… Ей-богу, – не нравитесь вы мне… Чувственные губы! Год всего не видал я вас, помню, что была такая милая, славная гимназисточка, похожая на ласточку, а теперь вот… Перемена!..
– Беда какая! – с шутливым ужасом сказала соседка, всплескивая, вероятно, руками…
– А вы думаете – не беда?.. Это такое осложнение, которое требует обстоятельного учета, – говорил пришедший, и из его тона балагурство уже исчезало, – ведь это-то, и глаза, и губы, и волосы, – это, матушка моя, – земля и к земле гнет. А земля, кроме как о себе, больше ни о чем не думает и в свою очередь к жизни гнет. Земля страсть как жизнь любит!.. Ну, а сейчас на земле такая жизнь, которую любить, ей богу, не за что! Жизнь будет хороша, – но только будет… А пока она – серая и нудная, и такие краски, синие, розовые и золотистые, какие я имел удовольствие констатировать, на вашем облике, – лишние на ней, на земле-то… Сейчас в жизни-то – осень, сплошная, гнилая осень, – земле-то… Сейчас в жизни-то – осень, сплошная, гнилая осень, – ну, а когда осень-то, в такую сплошную и гнилую, видишь весну, – тогда как-то на душе неловко и грустно становится, и думаешь: «Уйди ты, создателя ради, не искушай! Не соблазняй!»
– Не искушай, не соблазняй! – трагически повторила соседка и засмеялась. – Не буду, не буду! Наше место свято! Ну, а чаем вас искусить можно? Таким душистым, вкусным чаем? И булками, – вы не шутите: по три копейки штука, сдобные и мягкие… Право. И масло вот, – вы только понюхайте, как оно пахнет. Правда, и маслу не надо быть такому в наши серые и нудные дни?
– Логически рассуждая, – не надо… Вообще, никаких красок и изящных линий не должно быть теперь на земле. Должна быть – дума о той прекрасной и изящной жизни, которая только со временем вспыхнет на земле…
– Но ведь мы-то ее не увидим?
– Какие пустяки! Как это не увидим? Ну, пусть даже и не увидим… Мы ее учувствуем… А ведь это все равно!
…Она рада ему, – это несомненно. И радость эта идет от сердца, от всего существа. Это, чувствуется, радость такая, которая действительно просветляет лицо, делает глаза лучистыми и глубокими. Но кто он?
«Они» – для меня эти люди – таинственные «они» – вспоминают, вероятно, что к квартире есть и другие жильцы, – и понижают тон разговора… Но «они» не знают еще, не приспособились к акустике деревянной перегородки, разделяющей нас, – и понижение их тона ничуть не отражается на моей слуховой восприимчивости… Может быть, мне не нужно бы быть столь «восприимчивым»? Но почему? Ведь я не подслушиваю, я слушаю, – невольно слушаю. Мне сейчас ничего делать не хочется, а валяюсь на своей кровати, а за стеной разговаривают два неизвестных мне человека… И один из них, уже вышеупомянутый бас, стараясь быть более скромным в распределении своих голосовых данных, докладывает своей собеседнице, которая занимается, судя по льющемуся кипятку, оборудованием чайного стола:
– Как получил вашу открытку, – прямо к вам…
– А я вчера бросила ее поздно, часов в одиннадцать… Боялась – не дойдет…
– Пошта в Питере исправная… – говорит постепенно понижающийся бас.
…У них, видимо, предстоит большой разговор, – и они, как всегда это бывает в подобных случаях, откладывают его до того момента, когда улягутся первые впечатления встречи, – а до тех пор говорят о ерундовых мелочах, о погоде, о том, как ездилось, как прошло лето…
В квартире тишина, которую я люблю в эти тихие предвечерние часы… Скоро восемь, вот-вот придет Аким Исакыч, будет долго раздеваться в своей комнате, кашлять, потом спросит самовар, и когда он закипит и оживет, этот дорогой и близкий друг всех одиноких, тогда до меня долетят звуки цитры, – Аким Исакыч любит играть нежные вещи, как-то: серенады Брага, Шуберта… Играет и думает, вероятно, о любви, которая ему только снится… Аким Исакыч, когда мы по вечерам встречаемся в коридоре, останавливает меня и всегда говорит:
– Ах, если бы приснился нежный сон! Какое это было бы счастье!.. Вы знаете, что. я сегодня делал, чем был занят? Ой, боже мой! Я корректировал бланки частного ломбарда, затем объявление о новейших запахах духов косметической лаборатории и сорок семь страниц закона божия…
Аким Исакыч будет играть серенаду Брага, а ко мне в мою темную, так хорошо усыпляющую комнату, как к поэту, прилетят мои мечты, мои сны, до которых старому еврею так же далеко, как небу от земли. Скорее же приходи, друг Аким! Полно тебе сидеть в твоей вонючей типографии… Настало время опять всколыхнуть воздух звуками, под которые когда-то тоже, быть может, мечтал Франц Шуберт…
– А рядом с вами кто-нибудь есть? Живет? – тихонько спрашивает бас.
– Есть, – так же тихо отвечает девушка, – студент, кажется, какой-то…
Это, значит, указание на мою особу…
– А с того боку? – продолжает осведомляться любопытный бас.
А с того боку? – стенка уже каменная, другая квартира. Хотя, если, например, шумят или играют на рояле, то слышно…
– Это плевать! – таинственно оценивает бас…
Голоса разговаривающих делаются все тише, уходят куда-то далеко, уменьшаются… Я почему-то начинаю испытывать неизвестно откуда залезающую в душу тревогу, какое-то беспокойство… Мне почему-то кажется, например, что я должен слышать их разговор, я должен ближе узнать ее, – но почему? Какое мне дело? И тем не менее я потихоньку подхожу к стене, стою, как вор, и отчаянно боюсь, что вот отворится моя дверь, войдет с чайными приборами Дарьюшка и захватит меня как подслушивающего бездельника… «Ну и черт с ней, и пусть захватывает!» – рождается в голове тупая мысль, – и я осторожненько устраиваюсь у стенки, оклеенной синенькими, чем-то пропитанными обоями…
– Приехал на днях Вася, – слышу я баса, – письмо привез… Илюшку в Самару услали…
– В Самару? – удивленно переспрашивает соседка. – А Женя?
– Женька скисся. Нюнит чего-то, ищет смысла жизни, Гартмана читает… На бильярде играет…
Пришедший говорит еще тише, этим же тоном отвечает ему хозяйка, – и из всего последующего разговора я слышу только одну ее фразу:
– Чего ж вы чай-то забыли?
Бас выразил, вероятно, свое согласие и начал звучно и хрупко кусать сахар…
Я убрался с своего предательского поста.
IV
За стеной тишина, но тишина – не немая: в ней говорят занятно, содержательно, не замечая, как летят часы… Я лежу на своем ложе, поскрипываю, ворочаясь, пружинами матраца, что-то насвистываю… На улицу, как паук, спустилась ночь, и глупые люди уже протестуют против нее – ведь такой на самом-то деле красавицы! – газовыми и электрическими фонарями, – смешными выродками дня. У меня темно и хорошо.
Вдруг, вижу, просовывается из коридора Дарьюшка, и вместе с нею жалует ко мне расширяющаяся полоса желтого коридорного света.
– Вам в лавочку не надо? – спрашивает новгородское сокровище.
Свет мне кажется ослепительным, и я хмурю глаза… Думаю, что мне надо, и наконец вспоминаю:
– Надо… Бумаги мне на гривенник надо… Такой, знаешь, белой, без полосок…
Дарьюшка, бесформенная, вся какая-то серо-сплошная, приближается ко мне за гривенником и, нащупывая, протягивает руку…
– Дарьюшка! – шепчу я. – Нагнись поближе!..
У Дарьюшки, должно быть, мелькает опасение, уж не облобызать ли я ее хочу… И мне смешно делается.
– Дарьюшка! Милая! – снова шепчу я. – Кто это там сидит… Там…
– Рядом-то?
– Милая! Тише… Говори шепотком… Да, рядом…
– Шут его знает! – хрипит Дарьюшка, дыша чем-то старушечьим мне в лицо. – Какой-то малюсенький… вот такой ростом… В рубашке, без калош… Наследил, оглашенный, в коридоре…
– А что они делают? – смущаю я Дарьюшку вопросом.
– Самовар вносила, – сидели друг против друга и разговаривали. Теперь чай пьют с булкам.
– Дарьюшка! Милая! Тише! Сколько раз я тебе говорил: не с булкам, а с булками. Ну, да это пустяки! Дарьюшка! Милая! А что он… гость… красивый?
– Кто? он-то?
– Да, он-то…
Дарьюшка фыркает в темноте и дышит мне в лицо…
– Красота неописанная! – шепчет она. – Малюсенький, сам во, а сапоги во! С печки прыгни – прямо в голенище влезешь! А волосищи! Стог! Разве этакой девке такого нужно?
Для меня ясно, что Дарьюшка снабжена даром читать человеческие мысли. Это меня радует, и я даю разговору иное направление.
– Ну, а я пойду? – спрашиваю.
– Уж ты! – искусственно сердито говорит Дарьюшка и выпрямляется. – Бумаги-то, говоришь, чистой, без линеек? – громко спрашивает она и снова, наклоняясь, шепчет – Ты-то подойдешь! Убей меня бог!
И толкает меня кулаком в бок.
…Ушла Дарьюшка, и я остался радостный, успокоенный. Не знаю почему, но она тянет меня, – белокурая, синеокая. Какие странные слова: белокурая, синеокая… Точно в старинном дневнике. Я иду к зеркалу, беру в правую руку лампу и высоко поднимаю ее над головой. На меня из глубины гладкого холодного стекла смотрит молодое лицо с лукаво и довольно ухмыляющимися глазами, и мне приятно.
«Сапожищи, голенищи», вспоминаю я Дарьюшку. То, что она мне сказала, возбуждает меня, хочется начать сейчас же с малюсеньким поединок из-за нее.
Прекрасно. Вы сидите там, у нее, господин малюсенький? Вы укоряете ее за голубые глаза, белокурые волосы? Прекрасно… Она вас теперь любит?
Я ставлю лампу на стол, два раза пробегаю из угла в угол, ерошу себе волосы, и у меня создается в уме целая картина. Там за стеной сидишь ты. Я знал тебя с детства. Я любил тебя. Тебе, первой и единственной, я пел свои песни. Везде я видел только тебя. И росы, и зори, и звезды, – все это было только для тебя. А теперь вот пришел этот бас, такой же сильный и грубый, как и его голос, и ты не устояла против его животной мощи, и синие глаза твои льют теперь свои лучи на него, на его выпуклый лоб, на его дерзкие глаза, на возбуждающие красные губы. Ты забыла меня, поэта. Я смею только думать о тебе, целовать следы твоих ног, и стоном вырывается у меня фраза Чайковского:
– Забыть так скоро! Боже мой! Все счастье жизни прожитой!..
Как у тебя должно забиться сердце! Ты не знала, не могла даже подозревать, что я здесь, рядом, подслушиваю ваши разговоры, мучаюсь… Ты не знала! Так пусть же эта песня, которую ты когда-то так любила, – пусть она будет твоим укором, твоею мукою, твоим страданием!
Скрестив руки, как для молитвы, я обращаюсь лицом туда, где сидит она, и пою, и звуки идут легко и свободно:
Забыть, как полная луна
На нас глядела из окна…
Как колыхалась тихо штора…
Забыть так скоро!..
Забыть так скоро…
Ха-ха… А что ты теперь чувствуешь, неверная, забывшая клятвы? Да, да… Ведь все это было, все было… Мы сидели с тобой в комнате, залитой лунным светом… Было отворено окно в задремавший сад, и колыхалась тихо штора… И ты шептала мне слова вечной любви…
А теперь… Но что с тобой? Малюсенький! Вы не удивляйтесь и не расспрашивайте, почему у нее теперь на глазах слезы, почему она сразу опустилась и обессилела, как подстреленная птица, почему ее глаза смотрят вдаль, почему в них витают незнакомые вам тени, почему она не слышит вас, ваших нежных и участливых вопросов. Вы берете ее за руку, умоляете ее ответить вам, но рука ее – безвольная, ничего не чувствует, мертва.
– Забыть так скоро! Так скоро!.. Я желаю только об одном: нет виолончели, которая великолепно сопровождает в аккомпанементе эту часть романса.
Она услышала меня, вспомнила, и… я знаю, что теперь делается в ее душе… Знаю, знаю…
…Оборачиваюсь и – о удивление! – на пороге и, быть может, уже давно, стоит милая Анна Сергеевна… Вероятно, видела все мои жесты, движения… У нее флюс и щека повязана черным… Смотрит на меня и восхищенно удивляется.
– Шаляпин! Буквально Шаляпин! – говорит она. – Такой прекрасный голос! Такое дрожание! И вы до сих пор ни разу не пели, имея такой голос! Такое дрожание! Но только еще нужен аккомпаниман… Да, да, аккомпаниман… На пьянино или на гитаре.
Слово «аккомпаниман» приводит меня в бешенство своей слащавостью и носовым произношением, все что-то внутри меня порвалось, я с бешенством швыряю стулья и двигаю свой единственный стол так, что все звенит на нем, а Анна Сергеевна стоит и как ни в чем не бывало рассказывает об одном своем знакомом, который божественно пел «Ночи безумные» с «аккомпаниман» на гитаре, и она тогда плакала, и сердце ее разрывалось на части…
Не только что соседи, но и на улице, вероятно был слышен рассказ Анны Сергеевны.
Хрен старый!
V
Знакомство произошло так.
Я стоял посреди ее комнаты и говорил:








