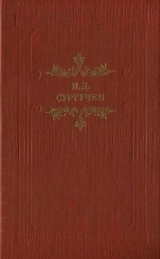
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Седельников жил на юге, в маленьком заштатном городке, где у него была сестра, был свой домик, доставшийся от отца, где он когда-то, приезжая из училища, был первым кавалером и покорителем сердец и где теперь по вечерам, особенно зимним, была такая длинная, особенная, молчаливая скука.
Подниматься по лесенке вагона было трудно; деревянная нога плохо сгибалась, – нужно было подтолкнуть ее рукой и в то же время ухватиться за перильца, а перильца были железные, холодные, настывшие.
Седельников, чтобы предупредить смех носильщика, сказал:
– Ножка-то, брат, не своя. Лесом подарена. Мою ножку посадить в землю, – яблоки вырасти могут. А ту-то, кожаную, мамашину, японцы с кашей съели, – подай им бог побольше здоровья!..
А носильщик, улыбаясь, помогал и говорил:
– Это еще – не горе, а полфунта. Других-то япоши в сырую землю отправили.
Седельников взобрался на площадку, ответил ему в тон: «Вот тебе и полфунта!» – и дал ему вместо тридцати полтину: такой хороший был мужик этот носильщик; такие светлые глаза были у него, так они ясно смотрели, – синие с черными крапинками.
Было холодно, но уже чувствовалась весна: четко яснела даль; начинался март. На платформе резко легли тени, и видно было, как темная полоса хочет срезать полосу света, как тень грядущего вечера пожирает свет дня. Идет человек по платформе, белый и свежий; вошел в тень – и сразу постарел лет на пять. Вышел на свет – и опять прежний, и опять на щеках проступает румянец.
«А я – все в тени!» – подумал Седельников: и вдруг по-старому сжалось сердце и вспомнилось, как ушла от него Фрося, два года жившая с ним как жена; как пропали поглощенные какой-то тенью связи с товарищами; как все больше и больше оставался один; и только в снах еще видел светлое утро мая и бывал в хороших компаниях. Только во сне карманы бывали набиты золотом; только во сне кипело в стакане вино; только во сне улыбалась ему прекрасная дама, которую Фрося, стоя на коленях, одевала в бархатное платье.
А наяву – искусственная нога. Он дал ей имя Маруся. А ту, запасную, что была в ящике, звал неласково – Аленой, а свой пенсион в 86 рублей – Егор Егорычем, и когда первого числа шел на площадь к присутственным местам, в казначейство, то говорил:
– Пойду за Егор Егорычем.
Обступали его знакомые мальчишки; показывали ему на небо, еще не вечернее, и спрашивали:
– Барин! Ведь народился молодой месяц. Куда девался старый?
Седельникову почему-то очень нравилось слово «народился». Он долго в уме повторял его и потом говорил, смеясь:
– Куда девался старый? Эх, вы, дураки! И чему вас учат в школе? Старый на звезды покрошили.
Мальчишки смеялись, рассказывали родителям и скоро, неизвестно по каким основаниям, в городке прошел слух, что японцы повредили штабс-капитана. Ничего не понимали ни мальчишки, ни город, который совершенно справедливо выделили за штат.
И вместо счастья, вместо интересной и веселой жизни, о которой мечтал еще с корпуса, на долю выпал этот тихий городок, тихий звон к вечерням, тихие и скучные жители. Девушки его не замечают, не смеются, когда проходят мимо, – все знают и смотрят на деревянную ногу. Нога унесла все: с тех пор как ее отрезали, стал толстеть, лысеть, носить пенсне, и даже усы почему-то сделались рыжими. И бриться он стал не так часто: раз в неделю, по субботам, часа за два до всенощной.
Вагон наполнялся пассажирами.
«Кого-то бог пошлет мне в попутчики?» – думал Седельников и разглядывал соседей: какой-то иконописный старик в поддевке, с ним толстая старуха в бархатной шубе и платке. Стоят в проходе у окна, разговаривают и мешают носильщикам.
«Нумерок второй будет там-с!» – послышался разливной говорок в другом конце вагона. За носильщиком шел высокий человек, лет тридцати двух, в шубе с пушистым воротником, в желтых перчатках, и прищуренными глазами взглядывал в те купе, мимо которых проходил.
Седельников смотрел на него и думал:
«Господи! Почему всегда так ласковы носильщики!»
Это была первая дума, – показная, наружная. А внутри, под ней, как под слоем, уже шевелилась вторая, – тайная, глубоко скрытая, еле для самого себя заметная:
«Не хромает. Красивый. Бритый. Глаза прищуренные».
– Вот здесь, – повернувшись к своему барину, лебезил носильщик.
– Ну, что ж? Клади, – ответил пришедший, начал медленно снимать с правой руки перчатку, взглянул на Седельникова, догадался, видимо, что это попутчик, и ласковым голосом, в противоположность прищуренным глазам, спросил:
– Далеко изволите ехать?
«Это он надеется, что освобожу нижнее место», – сообразил Седельников, сразу загорелся неприязненным чувством и ответил, стараясь походить на богатого барина, холодным тоном: «Да. Не близко». Отвернулся к окну и, довольный собой, стал разглядывать, как в промежутке меж рельсов мужик на голове тащит какое-то ведро: похоже, будто несет сахарное мороженое.
Не в голове, а, казалось, где-то далеко, в душе, под сердцем, уже была вторая дума:
«Усмехнулся. Пренебрегает. Подумаешь! Шушера иерихонская. Увидит, что хромой, еще усмехнется. Узнает, что нога деревянная, – еще усмехнется. Лягу спать, – подумает: почему не снимает сапог? Догадается. Усмехнется. Шушера!»
Носильщик уложил чемоданы и побежал за другими вещами.
«Как баба, – думал Седельников, – семьдесят семь мест с собой таскает. Ты бы еще письменный стол захватил…»
И вдруг среди шума, толкотни, суетливых, неспокойных, мелко-тревожных разговоров послышался женский голос:
– Ты здесь?
С радостным лицом, со светлыми, широко открытыми глазами, с поднятой на лоб вуалеткой, с большими длинными стеблями белых роз в руке шла по коридору женщина. Она спешила, она боялась опоздать, – и разрумянились зарей ее упругие щеки, и горели глаза, – видимо, бегала по всем вагонам, искала бритого, слегка запыхалась, – жарка была шуба, – и от этого, должно быть, была красивее, чем всегда, и ярче, чем всегда, и радостнее, и приветливее, чем всегда, расширялись ее глаза и горело в них, не потухая, не уменьшаясь и не усиливаясь, что-то редкое, хорошее, всем видное и понятное, ибо даже старик иконописный, который всем мешал, вдруг перестал разговаривать со своей старухой и смотрел вслед той, что шла, поспешая, с белыми розами в руке.
Седельников взглянул, все понял и подумал:
«Еще одна дура в бархатной шубе».
И вдруг стало досадно: зачем это подумал? Кажется, не нужно было этого думать.
– Ты здесь?
– Здесь.
Седельников оглянулся, – тот, бритый, уже снял шубу. Был он теперь в статном, хорошо выглаженном костюме, в воротничке с отложными концами. Не успел Седельников разглядеть только одного: какого цвета у него галстук. И когда он снова видел мужика с сахарным мороженым, то мучительно, неотвязно, как будто в этом была какая-то разгадка, вертелось одно желание – узнать: какого цвета галстук?
«И на что это нужно? – тревожно удерживал он себя. – На кой черт? Ну, буду смотреть в окно, – заставлял он себя, – вот идет мужик, несет сахарное мороженое. Мужик, дай сахарного мороженого! В чайный стакан, на гривенник! Клади с верхом!»
А где-то под сердцем, как обезьяна, вертелась одна мысль:
«Ну какого цвета галстук? Может быть, благодаря галстуку он так красив? Может, в галстуке – весь секрет? Может, за галстук любит его женщина эта?»
– А я вот тебе принесла розы, – слышался из купе разговор, и в тоне этой фразы ясно Седельникову одно желание: «Похвали меня за эти розы, приласкай, взгляни так, чтобы была видна и твоя любовь».
И отвечает он коротко, но за короткими словами этими слышится другое, им двоим и их глазам только понятное, – договаривают радостные глаза:
«Спасибо, милая».
Поцелуй. Что он целует? Руку или губы?
– Спасибо, милая.
«Шифрованные телеграммы».
Он тронут. Он еще раз целует. Что? Руку или щеку? Так хочется оглянуться, – хоть на сотую долю секунды.
«Ах, черт возьми! – думает Седельников, и от досады чуть не выступают слезы на глазах. – Да какое же мне дело? Ну и пусть целует ей губы, руки, глаза… Может быть, и цена-то этой женщине – десять целковых. Что мне? Экой дурак я стал! От одиночества, что ли? Да ведь стоит захотеть… Эй, мужик! Дай сахарного мороженого! Что за дурацкий мужик болтается здесь под окном с ведром на голове? Заявить бы начальнику станции, чтобы хорошенько взмылил его, осла этакого! По путям посторонним лицам ходить строго воспрещается».
Взглянул Седельников на часы: двадцать минут шестого. Часы идут на пять минут вперед: значит, по-настоящему – четверть пятого. До отхода поезда – еще семь минут.
«Мало, мало вам осталось, дружки сердечные!» – думает Седельников, на сердце делается легче, и он напевает мотив, – веселый мотив, прыгающий на высоких нотах.
А там, за спиной, – опять поцелуй.
«Черт возьми! – И снова негодование вселяется в сердце Седельникова: – Это вам поезд, – вагон второго класса, а не дом свиданий! Целоваться можете в меблированных комнатах!»
А за спиной говорят:
– Милый ты, мой милый! Только одна дума о тебе и есть! Ну, пиши же чаще! Ну, не забывай! Ну, дай слово!
Седельников думает:'
«Он напишет! Жди! Держи карман! Как приедет, так сейчас же за горничной ухаживать начнет. Едет-то, должно быть, в Ростов. Знаем мы ростовских».
А за спиной говорят:
– Поставь розы в воду. Возьми у проводника стакан.
Говорит почти шепотом, но ведь все же слышно, глупая женщина!
– Я, – говорит почти шепотом, – заколдовала розы. Розы чудотворные. Я с ними молилась. Понимаешь? За тебя, за любовь мою молилась…
Говорит почти шепотом:
– Розы будут сниться тебе. Я хочу, чтобы они снились тебе!..
Все говорит почти шепотом, как будто о ворованном, но ведь все же слышно, глупая женщина, – слышно так, будто молотом стучишь ты по железной стене, – и Седельников орет вдруг:
– Пр-роводник, чер-рт бы тебя драл, скотина этакая! Закрывай дверь, если идешь! Не май месяц!
В ответ послышалось:
– Извините, ваше благородие!
– Ызвините, ваше благородие, – басом передразнил его Седельников и добавил: – Дурак голландский!
Добавил и подумал: «Почему голландский?» Смешно.
За спиной замолчали. Остолбенели? Язык отнялся?
И вдруг – два звонка. Слава тебе, господи! Как петух в полночь. Исчезай, нечистая сила!
А нечистая сила вцепилась в грешного человека и шепчет, – но ведь все же слышно!
– Ну, люби же! – шепчет. – Ну, не забывай же! Ну, прощай же. Ну, до свидания же. Ну, мой милый. Ну, мой единственный!..
«Дешево у тебя стоит слово. Ну, – думает Седельников и сейчас же поправляется: – Даже и не слово, а приставка. Этимологию начал забывать».
А нечистая сила, слегка зацепив Седельникова за руку, уже перешла на площадку, – и опять дверь не затворена, опять дует в бок холодным колючим ветром, опять иконописный старик морщится и прикрывает лысину ладонью.
«Это нарочно, – решает Седельников и холодеет от злости. – Ага! Нарочно? Ну, постой!»
– Черт возьми совсем! – демонстративно громко говорит он, – Тут швейцаров за вами нет! – с досадливой силой захлопывает им вслед массивную желтую, обитую железом дверь.
Там засмеялись? О, конечно, засмеялись! Когда человека выкидывают на лестницу, то ему, конечно, остается одно – смеяться.
Седельников презрительно смотрит в окно. Отворить бы его? Нельзя. Туго заклеено. Зимнее положение: вагоны еще отапливаются.
А даль синеет. Скоро ночь. Скоро зажгутся огни. Люди начнут думать уже о завтрашнем дне. Скоро придет вечер, слуга ночи. Он под ноги расстилает ей ковер звездный. Сегодня вечер будет святой. Хорошо тому, у кого мир в душе. Плохо умирающим.
Третий звонок. В окно отлично видно, как она сходит на платформу. Остановилась и глаз не сводит с площадки. Что-то говорит, но разве через зимние рамы услышишь? Только губы шевелятся: как в кинематографе. Улыбка вдруг делается неестественной, как-то в сторону кривятся красные губы, из левого глаза показывается давно уже там родившаяся слеза.
«Плачешь? Плачь, Маргарита!» – думает Седельников, а кто-то там, в глубине, как незваный гость, как татарин, взял и прошептал:
– А сколько бы ты дал за одну такую слезу?
Седельников бледнеет. Что-то внутри так сильно крикнуло, что эта мысль, как сразу и очень испуганная птица, вспорхнула, унеслась ввысь, скрылась из глаз, – и дай бог, чтобы навсегда, чтобы навсегда! И бог с ней! И бог с ней!
И Седельников плотно сжимает ладонями оба уха, словно боится: вот подойдет опять кто-то и шепнет такое, от чего снова крикнет сердце…
Поезд тронулся. Ненужным стало все то, что осталось слева. А она все-таки хочет быть нужной: она идет вслед за площадкой, все что-то говорит, все куда-то, в одну точку, смотрит заплывающими глазами. Ах, спотыкаешься! Ах, ударишься о трубу! Ну, уходи же! Ну, зачем он тебе? Есть люди и покрасивее его! Чем он так мил? Ведь ты же все равно останешься слева!
А около водокачки стоит, раскорячив ноги, мужик, и нет уж на его голове сахарного мороженого.
Исчезает понемногу все. Исчезла и она: мелькнула в последний раз бархатная шубка и протянутая с прощальным приветом рука. Тянутся вдоль рельсов какие-то красные дома, одноэтажные, двухэтажные – скучные, как строки канцелярской бумаги.
Отворилась желтая дверь. Седельников прильнул к толстому и холодному стеклу. Седельников знает, что это – он; на площадке холодно. Пошел в купе, – сидит, неслышный.
Проходит пять минут. Проходит десять минут.
Седельников оглядывается. Почему же, в самом деле, ему и не оглянуться? Ведь у него есть место, нумер первый, у него есть багаж. Может быть, в багаже у него есть вещи тысячные?
Седельников оглядывается и видит: сидит на диване человек, наклонил голову и о чем-то думает, и кажется, даже, что его губы что-то нашептывают.
«Не опоздал ли, мой друг, думать?» – мысленно спрашивает у него Седельников и снова смотрит: галстук у него черный, с красными полосками. Жилет серый. Жакетка темно-синяя.
«Шепчешь? – думает Седельников, – Ну, пошепчи, пошепчи».
Хочется ему думать, что сегодня же барыня и розы свои забудет, и слова свои забудет, и слезы свои забудет и сегодня же позвонит в телефон, нумер которого записан на тайном листке.
«Эх, друг!» – вздыхает Седельников, и хочется ему ударить этого человека по плечу и рассказать ему, что такое любовь, повеселить его душу каким-нибудь словом, залихватским, веселым, выбранным из песни.
А человек поднимает глаза, взглядывает на Седельникова, и выражение лица у него такое, будто хочется припомнить: где он видел этого штабс-капитана, серенького, хроменького, с рыженькими усиками? Где он видел это кривосидящее пенсне? Эту фуражку с помятыми полями, с потускневшим, выпуклым по обрезу козырьком?
Смотрит он на Седельникова, а у самого в душе – счастье: счастье в глазах, счастье в улыбке, счастье в углах губ, – и даже, кажется, в прядях волнистых, откинутых назад волос струится счастье.
Седельников опять отворачивается, и снова лоб его ощущает приятное, холодное, толстое стекло. За стеклом – ночь, все шире и шире дышит она в полях. Как ведьма, – она сожрала весь свет весеннего дня. Как ведьма, из злой старухи она превратится в красавицу, у которой корона на голове.
Приходит из вагона-ресторана лакей с бумажкой в руке. Седельников видит его белый, словно из бумаги сделанный и плотно приглаженный галстук, видит в его петлице четыре жестяные цифры: 1844.
– Обедать изволите? – спрашивает лакей.
– Нет, – глядя в сторону, отвечает Седельников, и ему стыдно за то, что он не может израсходовать два рубля на обед. Придется есть сыр, копченую колбасу. В корзиночке имеются еще три апельсина, коробка фиников и филипиовские калачи.
– Обедать изволите? – снова, повернувшись к Седельникову спиной, спрашивает лакей.
– Да, – отвечает сосед, – да.
И когда тот через десять минут, забрав газеты, уходит в вагон-ресторан, Седельников, хромая, идет в купе и садится на свое место, у окошечка. Побаливала нога: натрудил ее за день.
На столе лежали розы, – прекрасные, белые розы! Что такое розы, лежащие на вагонном столе? Или их отняли от груди матери? Или на то они и рождаются, чтобы быть свидетелями любви? Хорошо ли, что подкосил их нож садовника, плохо ли?
Седельников встает и, не наступая на больную ногу, закрывает дверь купе, защелкивает замок, защелкивает вверху предохранитель и опять садится на свое место. Теперь никто не войдет. Теперь он – хозяин этой мягкой клетки.
Седельников сделает то, что хочет. Седельников забирает в руки длинные стебли, – все, все! Седельников осторожно, благоговейно, – как священник – чашу, в которой уже свершилось чудо, – поднимает их, наклоняет к ним лицо свое и чувствует, как струится из них аромат, белый, чуть ощущаемый аромат: дыхание полюбившей.
И ясно: ни роз своих она не забудет. Ни слов своих она не забудет. Ни слез своих она не забудет. И нет у нее никаких тайных записей.
Струится аромат: дыхание полюбившей. Осторожно, как крылья бабочки, обрывает Седельников по нескольку лепестков с каждого цветка и кладет их в свою записную книжку, между страницами, на которых записано: кому должен, сколько должен; в которых написано, как делать муравьиный спирт, полезный при ревматизме; в которых записан адрес Фроси, по которому писал, но не получал ответа; в которых записано много вещей, – нужных и ненужных. Кладет потом розы на прежнее место, открывает дверь, выходит в коридор. Кстати, идет контроль, – надо предъявить билеты.
Темно. Скоро, должно быть, зажгут электричество.
Поезд подкатывает к станции, замедляет ход, но не останавливается. На станции горят керосиновые фонари, на платформе, в ряд, как магометане на молитве, стоят семь молчаливых мужиков в бараньих шапках. Вот 61.1 всем им на головы дать сахарное мороженое!
Темно. В воздух как будто накачивают темноту, – все больше и больше. Звезды смотрят и словно ждут: что будет сегодня на земле хорошего?
– Ваш билет, пожалуйста. И плацкарточку. Ваш нуме-рок первый-с? Проводник, отметьте: нумер первый-с. До Ростова. В Ростове – пересадочка.
Все – ласковые люди. Как хорошо!
Сон
I
Зима в том году была странная, неровная. На крещенье, на водосвятии, дамы стояли под зонтами: так было тепло. А уже в ночь на тридцатое выпал снег и начались морозы. Через несколько дней по улицам города, по направлению к пивным заводам, потянулись возы с большими, продолговатыми глыбами льда. Лед был похож на очень толстые, плохо промытые увеличительные стекла.
В конце января почтальон подал Крынину письмо. Почерк на адресе показывал, что письмо это могло прийти только из Петербурга. Между тем на обороте конверта, на самой середине, с небрежным наклоном вправо, была наклеена красненькая марка: это говорило о том, что письмо пришло по городской почте.
Тогда родились странные, смутные предчувствия. Кры-нин долго не хотел распечатывать конверт; потом нерешительно оторвал от него, с узкой стороны, неровную полоску, развернул хрупкий, сухо шелестящий листок. «Ты изумишься, когда прочтешь эти строки, – так было написано в начале, – но, друг мой, то ли бывает на свете? Да, верь глазам своим. Я не в Петербурге, а здесь, в твоем любимом городе. Живу в гостинице «Европа», которую ты, наверное, знаешь. По крайней мере, тебя тут знают, – я спрашивала. Жду тебя целый день».
Далеко, внизу письма, стояла размашистая буква «Н», похожая на «И».
Было холодно, хотя весна в том городе начиналась обыкновенно со второй половины февраля. Прошлой ночью выпало много снега, и потому кругом все было бело и чисто.
В семь часов вечера Крынин поднимался в гору и думал о том, зачем она приехала сюда, за две тысячи верст? Он ясно представлял себе ее петербургскую квартиру, коллекцию оружия в кабинете мужа, стильные высокие комнаты, на вечерах по пятницам много народу. Теперь – конец сезона, последние балы, итальянская опера, а она едет сюда, в глушь.
Осенью она вызывала его в Петербург, и там каждый вечер приезжала к нему в меблированные комнаты. Прислуга почтительно и молча смотрела на богатую таинственную даму. Но все это: и приезд, и любовь казались капризом; который скоро пройдет. Ей нравится его прошлое, рано поседевшие на правом виске волосы – вот и все. Когда он уезжал из Петербурга, она опоздала на вокзал: приехала уже после первого звонка. Тогда стало ясно, что, действительно, все было капризом: щеки у нее горели от возбуждения, но казалось, что оно было вызвано не его отъездом, а чем-то другим. Чем? Об этом не хотелось думать. Было все равно. С этим же поездом уезжали какие-то офицеры; гуляя по платформе, они заметили ее. Это, видимо, ей понравилось. После третьего звонка она поцеловала его и дала ему несколько стеблей высоких, белых, очень душистых цветов, название которых он забыл. Когда в Москве на другой день, утром, он переезжал на Курский вокзал, то злобно бросил цветы, еще прекрасные, на снег.
«Но зачем ты теперь здесь? Так неожиданно? Что случилось?»– думал Крынин, поднимаясь в верхнюю часть города.
Со времени приезда из Петербурга он прожил здесь несколько месяцев, успокоился, понял, что и ревность к офицерам, и злость, с которою были брошены цветы на снег – все это тонкий налет на душе, который исчез бесследно и теперь не вливает в жизнь былого беспокойства и страдания. И это ощущение сливалось с городом. На улицах было тихо; ушли со своих углов газетчики. Тени фонарей ложились бледноватыми, неуверенными пятнами. Скоро должна была прийти безмолвная, как тоскующая душа, ночь.
В театре назначен был спектакль: у подъезда на длинной, изогнутой проволоке горел круглый фонарь; около входа с программами в руках озябшие продавцы.
II
Когда Крынин подходил к юнкерскому училищу, сзади него захрустели спешные, легкие шаги. Он обернулся и увидел, что идет Наташа. Была она в той же длинной каракулевой кофточке, которую носила в Петербурге. Наташа торопилась, смотрела себе под ноги; видимо озябла; прошла бы мимо, не заметив Крынина.
Была она другая, – не та, которую он знал в гостиной, в длинных, дорогих платьях. Теперь она скорее походила на курсистку последних семестров, одевшуюся в богатый наряд.
Когда она прошла мимо него вперед, шага на три, он окликнул:
– Наташа! – и от этого коротенького слова что-то, казалось, дрогнуло в воздухе.
Она резко остановилась, первое мгновение как будто не верила себе, что видит его, – как будто все это был сон; вздрогнула. Медленно, неровными шагами подошла, протянула руку. Улыбнулась так, как улыбаются в первый раз после тяжелой утраты, и тихим, чуть дрогнувшим голосом сказала:
– Ну, здравствуй. А я так спешила домой. Ходила получить телеграмму до востребования. Боялась, что ты в это время придешь, не застанешь меня дома и уйдешь. Хотя, конечно, можно было и на извозчике. Я говорю, что на телеграф можно было поехать на извозчике. Тогда скорее. Не догадалась.
Наташа коротко, отрывисто засмеялась. И после смеха, после слов о телеграмме, после этих отрывистых, как-то странно прерывающихся движений голоса Крынину сразу стало видно в ней что-то новое. Мелькнула мысль, что искры, которые он когда-то подмечал в ее голосе, глазах, теперь из отдельных ярких точек срослись в одно целое и сделались значительными, похожими на новую, красивую душу. Те лукавые, переливающиеся блестки глаз, так раздражавшие его на вокзале, исчезли. Из глаз ее, широко открытых, теперь лились на него волны сложного и мучительного чувства.
– Не ожидал? – спросила она.
– Не ожидал, – ответил Крынин.
– Почему же ты вчера не приходил? Я ждала тебя целый вечер. И думала, что ты просто не хочешь прийти ко мне.
– Я только сегодня получил письмо. Здесь городские письма приходят на другой день. Почему ты не послала из гостиницы мальчика? Непременно нужно было по почте?
Она пытливо взглянула на него, убедилась, что он не сердится, а шутит, и сказала:
– А я так боялась, что ты не придешь.
Он ближе наклонился к ней; мягко улыбнулись его глаза.
– Теперь я понимаю, что нужно было бы предупредить тебя о приезде телеграммой. Ты бы встретил меня на вокзале. Помог бы мне разобраться. А то такая путаница. Гостиница плохая, холодная… – торопливо, думая о чем-то другом, говорила Наташа.
Они стояли на улице, совсем потемневшей. Наташа отвернулась, словно застыдившись того, что вскрылось у нее на душе.
– Ну что ж? – спросил Крынин. – Идем к тебе?
– Идем, – сказала она, – подожди только немного. Я хочу посмотреть на эту улицу. Какая она широкая, красивая! Спускается вниз. А вон вдали огоньки.
– Это уж село, – ответил Крынин, – девять верст от города.
– А это что такое? – спросила она, показывая на большой, вверху освещенный дом, около которого они стояли.
– Это? Юнкерское училище.
Крынин смотрел на стоящую перед ним женщину, улыбающуюся, задумчивую. Свет плохого керосинового фонаря изменил ее черты: колеблющиеся, перебегающие тени делали ее то знакомой, то незнакомой. Казалось, что из какой-то темноты вырос перед ним неизвестный человек, и он почему-то ведет с ним разговоры об юнкерском училище и о селе, которое стоит от города за девять верст.
Мимо изредка проходили люди, стараясь разглядеть их темные, неясные очертания; некоторые узнавали Крынина и кланялись. Все больше и больше налегала на город ночь.
После молчания Наташа как-то неожиданно, лукаво взглянула на него и сказала:
– Ты не изменился: то же пальто, та же шапка, то же лицо.
– Да, все то же, – ответил Крынин и показал рукой кругом: – А вот и то, чего у нас с тобой никогда не было: потемневший провинциальный город, пивная «Германия», керосиновые фонари. А вон инспектор народных училищ в шубе прошел.
То напряженное настроение, которое охватило их с первых же слов, не прошло: было тяжело и тоскливо. Наташа понимала это, и на лице у нее Иногда появлялось страдание.
– Знаешь что? – сказала она. – Пойдем мы с тобой в театр. Не хочу я идти в номер. Там холодно, свечи горят тускло. Пойдем в театр. Хорошо? Первый здесь вечер в театре? Хорошо? – И она заглядывала ему в глаза.
Крынин посмотрел на часы.
– Но еще только четверть восьмого, – сказал он.
– Ничего, идем. Посидим, подождем! – ответила Наташа.
Пошли. Около театра было пусто; только шипел фонарь, да уныло стоял у двери городовой в башлыке, и казалось, представление не состоится.
III
Кассирша была одета в шубу и пила чай. Она долго перелистывала книгу, длинными почерневшими ножницами отрезала два зеленых, продолговатых билета с неразборчивыми штемпелями на обороте и подала их Крынину.
Места были на балконе, – так хотела Наташа: пришлось идти по лестницам, мимо сырых, некрашеных стен.
До начала спектакля было еще далеко. В театре, в разных углах, горело только четыре лампочки, и потому темнота неосвещенных мест особенно выделялась. Придя со света, можно было разглядеть на ложе кусочек бордовой занавески, светлое пятно на полированном стуле. Кругом – тихо и пусто; голоса и шаги Крынина и Наташи звучали громко, рождая где-то над головами неспокойное эхо.
Чтобы разыскать места, Крынину пришлось зажигать спички. Сели, одни, на скамью: немного боком к сцене. Пахло пылью, керосином, залежавшимся сукном. За занавесом разговаривало два мужских голоса. Где-то далеко стучали молотком.
Видно было, как в оркестре, похожем в темноте на канаву, отворилась дверь, вошел музыкант и положил на стул скрипичный футляр.
– Странно! – сказал Крынин. – Ты приехала сюда, за две тысячи верст, так неожиданно; у тебя что-то случилось, тяжелое и важное: лицо твое – грустное, улыбка – больная и беспокойная, но ты молчишь. Зачем-то долго стояли на улице, зачем-то пошли в театр, сидим в темной, пустой зале, звучат чьи-то чужие голоса, а ты молчишь. Я хочу знать, что случилось, я хочу знать, почему ты так неожиданно, не предупредивши, приехала сюда?
Она ничего не ответила и, казалось, нс слышала вопроса. Интересовалась только театром: глаза привыкли к темноте, и, наклонившись через барьер, она разглядывала ложи и удивлялась, – какие они маленькие. В партере насчитала только одиннадцать рядов. На занавесе был нарисован дворец с мраморными колоннами, гордо плавающие лебеди высокие фиолетовые кипарисы и, по углам, бородатые маски. Это ее занимало: она говорила, что лебеди похожи на моржей, и смеялась, закидывая голову.
– Это прекрасно, что мы пошли в театр. Я рада, что увидела настоящий провинциальный театр, – говорила она с подчеркнутым оживлением, – Наши места почти в центре, отлично будет видно. А что идет сегодня? А мы и не знаем? У нас даже и афишки нет? Вот молодцы-ы!
Крынину стало больно оттого, что рядом с ним сидит страдающий человек и этим детским, подчеркнутым оживлением старается спрятать, не показать своей души. Как спросить? Как подойти к этой душе?
– И то прекрасно, – говорила она, – что мы сидим в этой темной зале, неуютной, пустой. Я не знаю, – почему, но это прекрасно. Я уверена, что до самой смерти не забуду мгновений, в которые я вижу вот эти ложи, этот странно освещенный занавес, этот футляр, который лежит на стуле, эти темные, пустые места. Лицо твое кажется далеким и чужим. А душа твоя – близка, как родная. Душа твоя, – зашептала она, – теплая и чуткая. Ты стараешься не показать этого, но я вижу. Ты не любишь меня. Да, да, не любишь. Я это почувствовала ясно, когда ты только еще окликнул меня. Нет, нет, не говори, не говори. Ничего не нужно говорить. Все равно: что бы там ни было, я люблю тебя. И счастлива с тобой. И готова тебя безумно благодарить. За что, – не знаю.
Время шло; понемногу загорались другие огни, становилось светлее; понемногу собирались зрители, чаще хлопали дверью внизу. В оркестре над пюпитрами засветились зеленые абажуры. Какой-то очень, до самой шеи, лысый человек раскрывал рукописные ноты, сначала разглядывая их на свет.
Наташу интересовало все: кто вошел в ложу, как фамилия первого скрипача, хороша ли в театре труппа, нет ли в ней знакомых имен? Потом она задумалась и стала прежней, – такой, как была на улице. То на лбу появлялись тонкие складки, то в углах губ рождалась радостная, чуть заметная улыбка.
Около четверти девятого шумно заиграл оркестр, причем, особенно был слышен тромбон, ровными нажимающими звуками монотонно отбивавший два звука. Тяжело и неровно, как-то боком, потянулся вверх занавес: сморщились лебеди и мраморные колонны.
На сцене была бедная комната с тремя дверями. Очень высокий господин с длинной, квадратно стриженной бородой ходил так, что дрожали декорации. Господин часто выглядывал в окно и возмущался, хлопая себя по бедрам:
– Нет, черт возьми, это становится невыносимым, – повторял он громкое, чуть придушенное шипение суфлера. – Уж не убит ли мой племянник? Скоро пять часов вечера. Вот на башне святой Аглаи бьют часы. Раз, два, три… Ах, боже мой! Как в этой комнате мало мебели. Да, господин Беренс, вы неважно устроились в Лондоне. Ваш дядюшка, приехавший наградить вас молодой женкой и большим наследством, не одобряет вашего поведения. Не одобряет-с. Да-с…








