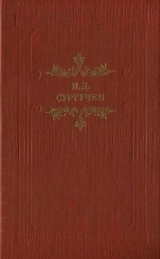
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
Как долго тянется обед! Как скучны, недвижны полосы света, падающего из окон в сад. Выходит так, что столовая, соседка сада, дразнит его:
– А у меня светло. А у тебя темно.
А сад зажмурился и будто не слышит. Хитрый.
Еленучча издалека заглядывает в окно.
Пасквалино уносит уже пустой салатник. Слава богу! Теперь скоро съедят фрукты. Он не пьет кофе, – тогда время пролетит скоро. Сколь о раз она говорила ему:
– Разве можно так долго сидеть за столом! Почему так долго?
Каждую черешню он аккуратно опускает в стакан с водой. В голове его сейчас – только думы о ней, об Еленучче. Он закурит скоро свои чудесные папироски, – привез их из Турции.
Вот он, наконец, встал.
Еленучча быстро, как ящерица, скользнула в самый темный уголок сада. Он уже знает, что она – там и, проходя по дорожке, улыбается: это видно в полосах света. Среди темной зелени белеет ее платье. Он подходит, берет ее руки и близко, близко смотрит в глаза.
– Ты взял бы меня с собой в Россию? – спрашивает Еленучча.
– Я не вернусь в Россию, – говорит русский.
– Как? Ты не вернешься в Россию?
– Не вернусь.
– Ты не любишь Россию?
– О, нет, милая девочка! Я люблю Россию.
– Но почему же ты не вернешься?
– Не вернусь.
– Что ты говоришь?!
– Правду говорю.
– Бедненький ты! Отвратительная Россия!
– Россия? О нет! Россия – прекрасна. Россия – прекраснейшая из стран.
– Она прекраснее Италии?
– Прекраснее.
– Чем она прекраснее?
– Это трудно сказать сразу.
– Но когда-нибудь скажешь?
– Скажу.
В саду вспыхивает электрический свет.
Обед кончился. Сейчас. все выйдут из комнат. Как мимолетно время!
…Утром Еленучча достает географию, старую растрепанную книгу, которую она так не любила в школе, и находит, почти в самом конце, отдел: Russia. Читает, и сжимается сердце:
– Как ехать в такую страну? Как можно жить там?
Он врет, что эта страна – прекраснее Италии. Чем она прекраснее? Просто он хочет наговорить ей, глупой девчонке, много соблазнительных слов, чтобы потом поскорее и полегче увезти ее на корабле.
Она бежит в читальню и там, под нотами, находит карту, два раза порванную в середине.
– Вот она: Russia.
Тут живут его мать и сестры. Она будет любить их. Она – богата. У ней хватит денег на все. И отель, и отцовские деньги – ее. Она богата. Хорошо быть богатой.
И опять ждет Еленучча: как томителен день! Как далек вечер!
Скоро ли засияет золото моря? Много денег и у луны. Чья она невеста? Чья она дочь? Сколько у нее лент! Как красивы ее волосы. Кто ухаживает за ней на небе? Кто ее целует? Солнце? И если Еленучча – луна, маленькая луна острова, то солнце…
– О, мое милое солнышко!
Звезды – девушки. Сколько на небе девушек! Где же их милые? Или луна – мать? Может быть, она строгая и ворчливая женщина? Может быть, она не позволяет звездам, своим дочерям, заглядываться на кавалеров?
А может быть, звезды – бриллианты бога?
У короля есть прекрасные картины: в Венеции, во Флоренции, в Риме, в Неаполе. Король разрешает показывать их всем. Все могут смотреть Тициана, Корреджио, Тинторетто, Джорджоне: сколько о них рассказывал отец! Когда ему грустно, он бросает все и едет во Флоренцию смотреть тициановскую Магдалину. Он плачет, когда рассказывает, как нарисованы ее волосы.
Так, может быть, и бог? У короля – картины, у бога – корона. На что ему ночью корона? И он говорит кому-нибудь из ангелов:
– На землю идет ночь. Покажи людям бриллианты моей короны. Пусть смотрят всю ночь. К утру собери.
Если ангел любит людей и не ленив, – он покажет, он рассыплет перед людьми все бриллианты. Их так много, что даже на небе тесновато. Тогда люди говорят:
– Какая прекрасная ночь!
Иногда ангел не особенно любит людей – тогда он покажет не все бриллианты.
А иногда и сам бог разгневается. Иногда люди очень много нагрешат за день – и скажет:
– Ангел! Не показывай в эту ночь этим дуракам мою корону!
Тогда по небу ползут тучи. Тогда небо темно. Тогда воет ветер.
…Но как томителен, когда в первый раз полюбишь, летний день! Как далек вечер!
VI
Вот и оно, утро, чудесное, прохладное.
Нужно поблагодарить бога за сны. Снами человеческими заведуют на небе два ангела: один – белый, любящий людей. Другой – темный, не любящий людей. Первый – показывает человеку: дворцы, моря, все страны, прекрасных юношей, цветы, поднимает человека на воздух и несет его над землей; поит его удивительными винами и кормит удивительными фруктами; говорит о любви. Человек проснется и думает:
«Как коротка ночь! Сегодня сны были прекрасные. Спасибо тебе, нянька-ночь! Как ты хороша!»
…Сидит Еленучча и читает книгу. Прекрасно пишет поэт о любви. Что такое поэты? Ангелы, посланные богом на землю, как в ссылку, в наказание. Поди-ка поживи среди людей: нелегкое дело!
Пришел отец с пристани.
«Всегда он какой-то особенный, когда приходит с пристани», – думает Еленучча.
В это время он особенно мягок, и его обо всем можно просить, и он, что обещает, все сделает: купит новую шляпу, даст денег на ленты, обещает свести в кинематограф.
Он красив в этом сюртуке и бархатном жилете. Кудри его причесаны на один бок и, мягкие, шелковистые, колышутся, лишь дохнет ветер. Старик строен и высок, и еще хорошо блестят его взволнованные глаза.
Еленучча смотрит па него и улыбается:
– Ты чего смеешься? – спрашивает он, устало присаживаясь к ней, на красный диван.
Пристань – далеко: шел пешком, чтобы насладиться своими думами.
– Я не смеюсь, – улыбаясь, отвечает Еленучча.
– Коли не смеешься, то чему ты улыбаешься? – говорит отец.
Как усталы его глаза!
– Улыбаюсь я от радости, что ты у меня красивый.
– Красивый?
– Красивый. Согласись сам: приятно иметь красивого отца.
– Приятно? – и отец делает непонимающее лицо, – Почему приятно?
– Я не знаю, почему, – отвечает Еленучча. – Быть может, потому, что люди могут сказать: у красивого отца – красивая дочь.
– Ах, вон оно что? Ты говоришь так, будто ты большая Да, может быть, ты и в самом деле большая? – спрашивает Манфред слегка взволнованно. – А ну-ка привстань! – Бегает тут девчонка Еленучча, всем мешает, во все дела впутывается. А может быть, девчонка уже растаяла и получилось что-нибудь другое?
Еленучча не встает – ей стыдно. Она прижимается к Отцу и тихонько говорит:
– Видишь мои волосы? Это твои волосы. Они так же вьются, как и у тебя. А когда я смотрю в твои глаза, то вижу себя, как в зеркале.
Старик усмехается, лукаво смотрит и обнимает дочь, как самую любимую.
– Уже коробочка с хитростью открылась, – говорит он, – уже начинается в тебе женщина. У тебя есть ленты красные и синие. Вероятно, уже понадобились зеленые? Ты стояла перед зеркалом и решила, что будет неплохо, если около черных бровей будет болтаться зеленая тряпочка? Или постой, постой, я начинаю думать другое. Быть может, сегодня в кинематографе идет хорошая картина?
– На афише написано: «Любовь матери», – отвечает Еленучча.
– Тебе, значит, хочется посмотреть «Любовь матери»?
– Хочется, конечно, – отвечает Еленучча, – но я вовсе не для этого говорю. Просто ты красивый. Ты мне нравишься. Мне кажется: живи ты в Риме, тебя бы взяли охранять короля.
Старик прислоняет голову к спинке дивана, глаза его закрыты; лицо – усталое, и думы, сладкие и любимые, текут, видимо, в его мозгу. Стоит около него светлый ангел. Сидит он так долго, потом медленно идет к себе и через полчаса– неузнаваем. На нем – старая серая жакетка, старые туфли, глаза как будто стали не такими большими, воротник не повязан галстуком и голос – неприятный и дребезжащий.
– Опять вино в чулан отнесли? – кричит он то направо, то налево. – Опять хлеб засох? Опять этот старый черт не принес молока? Опять забыли немцу из двадцать третьего номера счет написать? Что это такое, а? Черт бы вас всех подрал, а? Закрывать отель, что ли? а?
И ходит он кругом, и швыряет со стола книги, и не подвертывайся в это время к нему под руку важный Пасквалино.
Подошел к отцу темный ангел.
Еленучче делается скучно, и она скоренько убегает в сад.
…Есть ли еще на земле где-нибудь такая скука: когда милый ушел и нет его уже давно, – часа четыре?
Вяло пошла в свою комнату.
Ах, как все надоело! Этот туалет, эта маленькая, такая чистенькая кровать, этот гардероб. Она открывает его, – там висит все белое. Вот платье первого причастия, вот другое: в нем она провожала в путешествие новобрачную Катанью.
А в нижнем ящике? Стой! И Еленучча радостно открывает его. Там – куклы. Как могла она забыть их, своих друзей? Как они все это время плакали без воздуха, без света, голодные, никем не приласканные. Вот – Мария в красном платье и в туфельках, – они немного ей широки. Вот Энрико. О! Энрико красавец, с черными усами, будущий берсальер.
Прежде Энрико был простым мальчишкой, который на пристани приставал к иностранцам, становился на руки и просил сольди. Теперь Энрико вырос, он влюблен в Марию или, быть может, в Анну? – он, видимо, кокетничает с ней, важно в темноте крутит ус…
– Но почему же ты сейчас не смотришь на Анну? – спрашивает Еленучча, – Почему ты теперь на меня вылупился? Разве я лучше Анны? А? Посмотри, какая Анна? Ну, посмотри же, глупый! Тебя скоро отдадут в солдаты. Ты будешь бравый берсальер. Ого? Ну-ка? Как ты будешь ходить? Анна! Смотри, как ходит твой берсальер. Смотри, как он отдает честь генералу…
Еленучча ставит на пол обе куклы и, придерживая их за спины, придвигает друг к другу, а сама напевает марш и пристукивает в такт каблучками. Ох, идет бравый солдат Энрико, влюбленный в Анну! Трепещите, женские сердца! Ох, берсальер идет…»
– А ты, Мария, плачешь? – спрашивает Еленучча, бросая влюбленных. – Ты плачешь? – И Еленучча прижи мает ее к сердцу. – Ты ревнуешь? Тебе изменил Энрико? О, моя хорошая! Он вернется к тебе. Ему скоро надоест эта глупая Анна. Я сошью тебе новое платье, я куплю тебе новые туфельки, ты будешь хорошенькая, – куда же Анне до тебя? И снова полюбит тебя Энрико, и женится на тебе, и увезет тебя на корабле далеко, и там ты будешь счастлива, и там ты будешь молиться за меня какому-нибудь святому, чтобы он помог мне. Я тоже несчастна, Мария! Я люблю этого русского, а он меня не любит. Вот я тоже плачу. Он куда-то ушел – и вот уже пятый час, как его нет, как я его не вижу. Это пытка. Это несчастье. Пойдем с тобой завтра, Мария, на кладбище и там на чьей-нибудь могиле завяжем ленточки. И пройдет паша любовь. Это средство испытанное. И ты забудешь своего Энрико, а я – своего русского.
Стукнула железная калитка, – входная: знакомые шаги застучали по плитам. Куклы как попало летят в ящик, и Еленучча не видит, что берсальеру прищемило руку, а обе его дамы упали ничком, уткнулись носиками в одеяло, молчат, ничего не видят и не отвечают на стоны своего возлюбленного.
Еленучча выбежала в вестибюль. По лестнице поднимается русский, видит ее, снимает шляпу, кланяется.
Еленучча сердито отворачивается, не отвечая ему, а сама радостно думает:
«Гулял. Устал. Теперь дома будет целый вечер. Пойдем к морю. Весь вечер мой. Хорошо, что я рассердилась».
И она бежит в свою комнату и нашивает па рубашечку синие ленты: красные надоели.
VII
Было утро. Он там, наверху уже встал: балконная дверь, что выходит на море, отворена. Умывается, должно быть. Ужасно много он тратит воды, – горничные жалуются: три кувшина каждый день. А кувшины – огромные.
Утро ясное, такое широкое: кажется, что остров стал больше. Небо далеко, солнце распоряжается всем миром, и нет совсем ветра, этой воздушной змеи.
Входит в садовую калитку женщина в желтой юбке. На всем острове в желтой юбке ходит только Розалия, та самая, которая служит там где-то, у русских, на дальних виллах. Розалия идет в отель. В руках у нее письмо. Подошла ближе. Волосы у нее толстые, как черные нитки. Осторожно спрашивает Еленуччу:
– У вас тут живет русский? Высокий такой?
Еленучча молчит; ей почему-то неприятно. Смотрит она на тонкий, шелковистый конверт, который та как-то странно бережно вертит в своих заскорузлых руках.
Розалия, удивленная, опять повторяет свою фразу:
– У вас тут живет русский? Высокий такой?
Неприятна эта женщина, хитры ее глаза и слишком ярка желтая, плохо выглаженная юбка.
Замерло сердце Еленуччи. Зловещими показались эти жесткие, корявые пальцы.
– Живет, да, – собрав силы, ответила Еленучча, – а вам на что?
Как хитры глаза Розалии. Вероятно, ей хорошо заплатили за труды!
– Письмо ему, – говорит она, показывает на конверт и вдруг спрашивает: – а ты чего, маленькая, побледнела?
Отвечает Еленучча.
– А разве ты не чувствуешь, какая жара? Постой-ка на ней – и ты побледнеешь.
– Утро сегодня прохладное, – возражает хитрая Розалия.
Еленучча не хочет больше разговаривать с этой бабой, которая не говорит, а как-то выпускает слова: осторожно, таинственно. Слова ее ползут, как змеи в траве.
Еленучча протягивает руку и говорит:
– Давайте, я передам письмо. Он еще не приходил вниз. Он еще спит.
Розалия неприятным, хищным движением прячет письмо за спину и отвечает испуганным шопотом:
– Нет, нет. Не могу отдать.
– Почему? – взволнованно спрашивает Еленучча.
– Письмо секретное… – отвечает Розалия, и вдруг глаза ее сделались еще более пронзительными и острыми, указывающими прямо в сердце. – Письмо от синьоры, – словно по секрету, сообщает она.
– От синьоры? – сразу упавшим голосом спрашивает Еленучча.
Господи! Почему об ее любви первою не узнала мать? Почему об ее любви первым не узнал отец? Почему об ее любви первою узнает эта неопрятная, хитрая женщина? За что такое наказание? Разве Еленучча не носила лилий Мадонне? Разве она не молилась там, у моря, богу?
– Да, – отвечает Розалия, все понимающая, хитрая, насмешливая, – письмо от синьоры. Да, – еще раз говорит, наслаждаясь, Розалия, – письмо от русской синьоры. Он каждый вечер бывает у нас… Синьора богата и живет одна…
Розалия наклоняется и, огромный секрет, сообщает шепотом:
– Мне кажется, – говорит Розалия, – он любит синьору.
– Любит?
Розалия деловито, словно ничего не замечая, со спокойными глазами, повторяет:
– Очень, по-моему, любит. Синьора прекрасна. Волосы ее золотисты и глаза – светлы. Кроме того она превосходно играет на рояле. Рыбак Габриэле и тот – большой знаток! – говорил не раз: превосходно. А он слыхивал настоящих маэстро.
Еленучча отвечает гордо и спокойно.
– Если письмо секретное, – поди и передай сама. Он, кажется, умывается. Пойдем провожу. – Сказала и легко побежала по лестнице вверх. Розалия, колыхая обвисшею грудью, шагая через две ступеньки, еле поспевала за ней, а на верхней площадке совсем запыхалась и не могла перевести духа.
Еленучча подбежала к его двери и, не жалея пальцев, начала стучать и боялась: вот рассмеется, вот заплачет.
– Войдите, – раздался за дверью знакомый, теперь слегка удивленный голос. Она слышит, но все стучит, все стучит и не может остановиться: и то хочется рассмеяться, то странно близки к смеху слезы.
– Войдите! – еще громче говорит он.
Она стучит.
– Господи боже! – говорит он и, подняв воротник жакетки, еще не совсем умытый, слегка приотворяет дверь, видит Еленуччу и спрашивает удивленно: – Это вы?
– Я! – сухим сдавленным голосом отвечает она и показывает в сторону Розалии, теперь почтительной и смиренной – Вам письмо.
– Мне? Письмо?
Свежее, любимое и теперь такое чужое лицо перестает улыбаться.
– Да, вам письмо, – с показной радостью отвечает Еленучча – от русской синьоры. От прекрасной русской синьоры с золотистыми волосами вам секретное письмо.
Еленучча говорит спокойным голосом. Глаза ее смотрят презрительно. Губы улыбаются презрительно. Она делается повелительною. Как принцесса, предводительствующая войсками, она командует:
– Передайте письмо! – говорит она Розалии. – Вот этот синьор, которому прислано секретное письмо.
Еленучча повернулась и спокойно пошла по лестнице.
– Еленучча! – крикнул русский.
Еленучча не оглянулась.
– Еленучча! – крикнул русский громче.
Еленучча не спеша сходила по ступенькам и не оглянулась.
VIII
– Ты ничего не ешь, Еленучча! – сказала мать за завтраком, подвигая к ней глубокую чашку с любимыми ягодами.
– Не хочется, – ответила Еленучча и даже не взглянула на ягоды.
Все было противно: и хлеб, аккуратно, горкой, разложенный ка тарелки, и рыба, политая красным соусом. Только полстакана вина выпила Еленучча, – от него стало жарко, в голове поднялась какая-то муть, в теле почувствовалась усталость.
Нс дождалась Еленучча конца завтрака, сказала, что болит голова, и вышла в сад; но и там было все противно: деревья показались Еленучче низкими, земля – сырою и липко неприятною, вода в фонтане – грязною. Попугай увидел ее и стал кричать дико, надоедливо, хлопал крыльями, перескакивая с ветки на ветку, – и в первый раз захотелось ударить его, чтобы замолчал. Противны были и эти ряды окон отеля, и балконы, к решеткам которых старые немки привязывают для просушки свои зубные щетки. И солнце жжет так сильно, и на небе нет ни облачка, – куда, спросит, разошлись? – и голова кружится, а самое главное: так болит душа, так болит душа.
На том углу третьего этажа, что к морю, – его балкон. Но разве она теперь взглянет туда? Лучше умереть, чем поднять голову в ту сторону. Он теперь пишет ответ русской синьоре, он сочиняет нежное письмо, – зачем же мешать? Он напишет ей своими русскими буквами: «milaja» – и она поймет значение этого слова.
Как болит душа!
«Умереть бы, – думает Еленучча, – умереть. Хорошо теперь было бы лежать в земле: темно, никого не видно, никого нет. Тихо, покойно. Душа будет в раю, потому что на ней греха нет. Есть только одно мучение: любовь. Пойти к морю, и конец. Море всегда манит к себе людей. Море как змея: когда на душе горе, не нужно заглядывать ей в глаза, – не будет сил сдвинуться с места. И из людей только пожалеет мама да поплачет отец. Они так ее любят. Будут беречь на память ее ленточки, ее кофточки».
И Еленучча, одинокая, потихоньку спускается к тихо шумящему морю. Остаются позади просторные аллеи, торчат по пути кактусы, из щелей скал выглядывают глаза цветов.
«Это мальчишки, – думает Еленучча про синие цветы, – а это девчонки, розовенькие. А это вот я, царская дочь! – вдруг громко говорит она и срывает фиолетовый цветок, самый красивый, отливающий на солнце, как риза священника. – Это я. Это я выросла».
И говорит она цветку:
– Вот я тебя сорвала, и ты умер. Так умру и я. Сейчас вот иду на смерть. Вместе умрем. Ведь вот ты умер, и тебе теперь не больно? Солнышко не жжет? Ветер не бьет? Ящерицы не обижают? Так надо и мне. Хочешь со мной? Вместе? Обоим будет хорошо.
Еленучча прикладывает фиолетовый цветок к уху и старается расслышать согласие… Вот и море. Далеко, на самом припеке, сидят и жарятся иностранцы, натянувши на самые уши свои пробковые шлемы. Сидит на террассе длинноволосый, противный немец, который зимой и летом ходит босой и которого никто не любит.
А в другом месте, далеко от них, за огромным камнем слышен плеск и визг; это купаются все свои, все знакомый народ, – Мария, Маргарита, Джильда, когда-то подруги по школе, теперь вот уже невесты. Каждая из них уже влюблена, страдает, пишет тайные письма, – и все на почтовые марки занимают деньги друг у друга. Увидели Еленуччу, издали кричат, рады:
– Еленучча! Еленучча пришла!
Еленуччу любят подруги, и эти восторженные крики она принимает как должное: она – маленькая, красотою, как короной, венчанная королева острова.
Идет к ним. Как синее солнце, светит море. Глазам больно. И фиолетовый цветок близко прижался к телу: как обезьяна, думает Еленучча, и ей почему-то становится весело.
– Елену! – кричат ей, оглушительно выкрикивая «у», и все слышнее визгливые голоса, шлепанье рук по воде. – Иди скорее за камень и к нам.
Про этот камень говорят, что он – голова какого-то бога, сброшенного за безобразия на землю: теперь он как ширма.
Навстречу Еленучче выползает лучшая и самая верная подруга Мария: выходит из синей воды, а сама вся белая, как двухдневное отстоявшееся молоко. И волосы у нее такие густые и мягкие: блестят на солнце, как через золото, – и переливаются в них скользя серебряные, капризные полоски света. Так и бегут кругом, как ртуть, потому что в Марию ни с того ни с сего вселился бес радости и она шаром катается по горячему песку.
– Телеграфисты в подзорную трубу смотрят! – резонно говорит Еленучча.
Там, на верху противоположной горы, станция беспроволочного телеграфа. Бездельники телеграфисты, которым далеко оттуда сходить в город, сидят и от скуки целыми днями наводят трубы на дома, на сады, на аллеи, по которым ходят влюбленные, – и все знают, все секреты, все измены, все поцелуи.
– Ну и пусть! – задорно отвечает Мария, – И пусть! Экая важность! Ну и пусть смотрят!
Мария встает и важно-красивая идет по песку, словно желая, чтобы весь мир взглянул на нее в подзорную трубу.
– Пусть хоть посмотрят, – задорно говорит она и смеется.
Солнце, вода, радостные глаза подруг, – все это согревает заболевшую душу, и Еленучча чувствует, что не все потеряно, что если Мария считает себя красивой, то она, Еленучча, еще поспорит с русской синьорой.
Медленно, тоненькими пальчиками расстегивает пуговицы, падает белая рубашка на теплый песок, и небрежно отталкивает она в сторону свои белые туфли. Теплым ветром обдало всю, стало стыдно, замолчали подруги, и невольно, закрывая грудь руками, тихо и радостно засмеялась Еленучча.
Как царевна, отыскивающая Моисея, хочет ступить в воду Еленучча. Подуло с моря свежестью, и тело стало матовым, словно было вылеплено из размягченной слоновой кости. Еленучча чувствует на себе взгляды подруг и, кокетничая под этими взглядами, пальчиками ног касается только самого краешка моря: холодно, и сама собой нога отдергивается назад.
– Холодно! – говорит Еленучча и делает на груди руки крестом, точно защищаясь.
– Смелее, Елену! – кричат в нетерпении девочки.
И видно, и чувствует это Еленучча: они хотят, чтобы она скорее вошла в воду. Есть у них тайная боль, что она красивее всех, – и Еленучча желает еще продлить этот момент и опять, чуть отступя, осторожно касается воды пальчиками уже другой ноги.
А кто-то из подруг, не зная, к чему придраться, говорит тоном фальшивого соболезнования:
– Ах, Еленучча, как подвязки натерли тебе ногу! На теле – как два красных обруча. Это некрасиво, Еленучча!
– Ах, некрасиво? – И Еленучча, словно желая наказать обидчиц, прямо, как в пропасть, па смерть, с прервавшимся дыханием, бросается в воду, чувствует, как что-то жадное, холодное, словно лед, и враждебное – сразу и цепко схватило ее в свои лапы, как пропадает сознание, как перестает биться сердце, как трудно вздохнуть, – и все это брызжет, лезет в рот, в нос, в уши, и невозможно что-нибудь теперь поделать, – и сами собою взмахивают и разбивают воду быстрые, загребающие руки, не чувствуя силы, отдаваясь на волю судьбы.
Волосы, волосы замочила Еленучча! – слышит она подруг.
И тогда только она чувствует, что нога ее может коснуться дна, а дно мягкое, как тесто, – приятно стать на него, приятно очнуться от холода, увидеть на горе – маленький городок, на небе – солнце.
– Еленучча! Не выставляй на солнце мокрого лица! Нехорошо! – кричат подруги.
Эти девочки завистливо влюблены в нее. Даже на Марию, кажется, нельзя положиться. Некому рассказать, что делается на душе.
– Экая важность! – далеко запрятывая свои мысли, отвечает Еленучча. – Дома вымоем еще раз.
Она знает, что хороши ее волосы, что темным, широко расплывающимся покрывалом текут они теперь по воде, и это красиво: белое тело, темные волосы и синяя вода.
Бурная радость рождается в душе, и, порывисто дыша, закрыв глаза, Еленучча снова бьет ладонями воду и, переворачиваясь, плывет в просторе, где более крупные волны, и далеко слышен ее хрупкий, рассыпчатый смех.
Может быть, кто-нибудь видит с горы?
И, как стая дельфинов, плывут за ней подруги, и смеются, и кричат какие-то только им одним понятные девические слова.
Потемневшими, сухими глазами посматривают на них с дальних лодок суровые рыбаки, и плохо держатся в их руках тяжелые сети, и не клеится обычный веселый разговор: потускнели и кажутся длинными слова.
– Мария! За мной! – кричит Еленучча, – Не отстань, милая!
– Я здесь, Елену! – отвечает, запыхавшись, Мария. – Но разве за тобой уплывешь?
– Елену! – предупреждает какая-то трусиха. – Осторожнее! Не уходи далеко! Вчера здесь видели акулу.
– А, пусть! – беззаботно отвечает Еленучча: волосы совсем вымокли, и теперь она – совсем девочка, совсем школьница, – и далеко куда-то отошла печаль, такая великая с утра.
IX
Пошла домой гладко причесанная, с усилившимся румянцем. Навстречу идут иностранцы: целая толпа мужчин и женщин, с фотографическими аппаратами, в низко опущенных шляпах, вместо жилетов – широкие пояса. Увидели ее – замолчали, как но команде, и потом, вслед, сразу же заговорили, и в тоне их голосов, в тоне их голосов, в тоне их слов, непонятных и смешных, слышались восторженные ноты.
Еленучча внутренно улыбается, и явная, слава богу, пришедшая снова радость колышется в сердце: пусть видят, как она хороша. У поворота дороги, идущей террасами в гору, остановилась, как будто для того, чтобы еще раз взглянуть вниз на море, и усмехнулась: стоят как вкопанные, иностранцы и смотрят на нее. Один, высокий, и молодой, и красивый, с стройными ногами навел бинокль. Если ласково и призывно взглянуть на него – пойдет ли он к ней? Встревожится ли? Конечно, пойдет. С иностранцами остановились их женщины: жены и дочери. У них смущенные, молчаливые улыбки.
«Куда вам до меня, несчастные?» – думает Еленучча.
А подруги, окружающие ее, как свита, говорят:
– Смотри, Елену, нас снимать хотят.
В самом деле один из иностранцев осторожно, боясь спугнуть, стал направлять в их сторону раздвижной аппарат. О чем-то сразу там, внизу, заговорили.
Еленучча повернулась, поправила упавший, не высохший, похожий на шелковистую веревочку локон и пошла в гору, дальше. Прошла еще один поворот и опять на площадке остановилась. Взглянула: иностранцы все еще там, на старом месте. Она взглянула на них, улыбнулась и приветливо махнула им рукой, прощаясь. И этот жест разбил там молчание: замахали шляпами, обнажились то лысые, то волосатыс головы: и слышен был оттуда непонятный и неясный разговор.
Фотограф умоляюще сложил руки и знаком просил Еленуччу не трогаться с места.
– Пойдем, Елену, – страдая, сказала Мария, – стоит ли, чтобы всякая ерунда снимала нас?
– Пусть, – ответила Еленучча и крикнула: – снимай, уж если так хочется.
И сказала подругам, как старшая своим ученицам:
– Приедет к себе в Англию, привезет снимок, и все будут спрашивать: где это вы сняли этих девушек? Вы их снимали, спросят, после купанья? Видны еще следы воды на волосах.
Еленучча думает:
«Какой хороший вопрос: где живет эта девушка?»
Иностранец внизу спешит, расходует все свои пленки, щелкает и волнуется, как бы не ушли.
А Еленучча думает:
«Я уже девушка. Я – девушка».
И говорит, вслушиваясь в слово, будто оно – незнакомое:
– Девушка. Девушка.
У фотографа в одном аппарате заряды, видимо, кончились. С левого бока он достает другой, с двумя стеклами, как большой биноколь, и опять наводит, и все суетятся, все показывают, как снимать, все вмешиваются в работу, дают советы, а фотограф сердится, краснеет и ругается.
Это хорошо, весело, смешно – и Еленучча смеется, а там внизу пользуются случаем и все наводят стеклышки, которые похожи на темные глаза.
Как весело! Подруги умирают от зависти. Жаль, что нет здесь другой Анны, дочери Скалити: та Анна хвалится, что она – самая красивая девушка на острове.
Еленучча говорит потихоньку, – так, чтобы не слышали подруги:
– Нет! – Я самая красивая девушка на острове.
И вдруг чужой, незнакомый голос отвечает где-то там, в глубине сердца:
«Не хвались, как глупая Анна. Русская синьора покрасивее тебя».
Сжалось сердце, и противным показались все эти волнующиеся внизу форестьеры.
Как сжалось сердце! Как ему больно!
И накатываются на глаза слезы, и медленно уходит Еленучча опять в гору и уже не останавливается на новом повороте, чтобы посмотреть вниз.
Разошлись подруги по домам. Осталась она одна.
Тяжелы ноги. Мешают руки. Уйти бы и лечь куда-нибудь в траву. Где высокая трава? Высокая трава там, у фаральонов. Еленучча сворачивает с прямой дороги, с трудом идет по тропинке: шуршат скатывающиеся камни. Никого нет. Города не видно за горой.
И ложится Еленучча в густую и прохладную траву. Закидывает руки за голову. Выпачкается платье? Будет ругать мама? Пусть!
«Я красива?» – думает Еленучча и чувствует, как глаза ее застилаются слезами и это мешает смотреть в небо. Она потихоньку, рукавом, вытирает их и глядит прямо в небо, которое, как шелковая занавеска в алтаре, скрывает от людей бога.
Еленучча говорит богу:
– Зачем ты дал мне красоту, если ее никто не любит? Эти англичане с фотографией? Но зачем они мне? Зачем?
…Облака – беспокойный народ: им все нужно; они, плавая, озирают всю землю, все земные порядки, всех людей, – видно ли им с высоты, как плачет от горя самая красивая на острове девушка?
X
А ночью не спится. Как томительно долга и скучна ночь! Простыни то и дело сбиваются, и лежать на них неудобно и жарко.
На широкой постели, чуть освещенная из коридора падающим светом, спит мать. Маленькая, седенькая, она спит, как ребенок, – положивши кулачок под голову. Устала за день. Из соседней комнаты слышно легкое похрапывание отца.
Необычно в темноте светит зеркало. Через окно падают на пол странные, неспокойно, как в тесной клетке, ползающие лучи луны.
Под луною спит остров. Хорошо теперь идти вниз к морю. Зачем ночью свет? Днем он нужен для дела, – а ночью? Может быть, теперь поют сирены? Луна расщедрилась и сыплет серебро в воду без счету. Серебро волшебное: возьмешь в руку, – растает. Только колдуны, знающие особые слова, тут могут забирать его горстью в кошелек и потом расплачиваться где угодно.
А сна нет. На часах только два.
«Что же делать?» – с тоскою подумала Еленучча, немного еще полежала, потом спрыгнула с кровати, пробежала в соседнюю комнату, повернула выключатель. Вспыхнул свет, проснулось все, – и кресла, и стулья, и этажерки стояли как ни в чем не бывало, словно и не приходила на землю ночь.
В углу – зеркало, большое и широкое. Горит в нем отраженный огонь с матовыми очертаниями, видна глубина комнаты, странная, немного не похожая.
«Стыдно так долго смотреть на самое себя», – думает Еленучча, и глаз оторвать не хочется.
Вот стоит девушка. Где тот милый, который придет к ней и скажет: «Как прекрасны твои глаза и алы твои губы, как густы твои волосы, как кругла и тепла твоя грудь. Я люблю тебя», – где тот милый, который скажет эти слова?
– Ты придешь? – дразнит себя Еленучча, – Откуда? Здесь, на острове, никого нет. Откуда ты придешь? Я хочу, чтобы глаза твои были светлыми, волосы – волнистыми, руки – сильными. Чтобы ты мог взять меня на руки и поднять высоко. Чтобы на груди твоей, если припасть к ней щекою, было бы тепло и чуть слышно, как бьется твое сердце.








