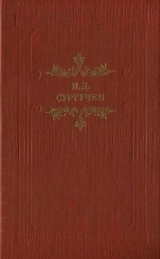
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
И актер делал вид, что он очень недоволен.
Приходила хозяйка в чепце; приносил почтальон письмо.
Дядюшка, сев верхом на стул так, что публике были видны подошвы его сапог, рассказывал, что у него в Шотландии есть прекрасная ферма и образцовое молочное хозяйство. Почтальон оказался похожим на одного доброго малого, которого у них в Шотландии вздернули на березу за хорошие дела.
Кончилось действие – и опять, одним боком, спустился занавес. Раздались аплодисменты. С галереи высунулся какой-то человек в шубе, далеко выставил хлопающие ладони и с азартом кричал:
– Фунтиссимо!
Стало скучно.
– Уйдем? – спросила Наташа.
Молча поднялись.
И опять потянулись лестницы, небритые капельдинеры, курящие мужчины, дамы с необыкновенными прическами и поясами.
Вышли на улицу.
Театральный фонарь освещал дорогу с блестящими санными следами, противоположный тротуар, золотые буквы вывески писчебумажного магазина. На телефонных столбах гудели проволоки. От проволок на снег ложились тени, похожие на нотные строки.,
Тихий город заснул.
IV
В номере Наташа долго не могла зажечь свечи. Было видно, как у нее дрожали руки и огонь не приставал к черному, нагоревшему фитилю.
– Ты не снимай шубы, – сказала она. – Здесь очень холодно. Хотя печку сегодня топили два раза. Я вчера ждала тебя. Прислушивалась целый вечер, не услышу ли в коридоре твоих шагов. Этот коридор – такой гулкий. Ты заметил, что когда идешь, то гнутся доски?
На столе, к стенке, лежал чай в неловко разорванной свинцовой бумажке, какой-то сверток с напечатанным адресом, начатый лимон.
Крынин сел на диван, не сняв пальто. Было, правда, холодновато и почти темно. Наташа стояла, прислонившись к печке. Чуть белело лицо ее; был виден шарф, которым она закутала плечи.
– Ну вот, ты у меня в гостях, – после молчания сказала она. – Ты не рад, что я приехала. Когда ты последний раз был в Петербурге, то мне казалось, что ты так любишь меня. Когда ты был на вокзале, то казался таким печальным, так задумчивы были твои глаза. И я думала: это потому, что он расстается со мной.
Крынин не сразу и тихо ответил:
– Я рад, что ты приехала. Я рад. Но я вижу, что не все благополучно, а ты не хочешь сказать, скрываешь. Бот я и мучаюсь, жду – и на душе у меня, правда, нехорошо.
Наташа улыбнулась.
– Ты милый и чуткий, – прибавила она, и я скажу тебе все, что случилось.
Она еще помолчала, потом, поправив шаль, улыбнувшись, нерешительно, словно в чем-то застенчиво признаваясь, сказала:
– Случилось вот что. Во вторник пришел муж, подал мне синий билет и плацкарту и сказал: «Ты любишь его. Я вижу. Поезжай к нему». Слезы лились у него из глаз, а когда я брала билеты, то руки дрожали от счастья. Вот и все. Я и поехала. В том же поезде, с которым уезжал и ты. В шесть тридцать. Меня провожал муж, целовал мои руки, плакал и повторял: «Ты едешь. Ты едешь». – Она снова помолчала и чуть слышно добавила: – Я и поехала, потому что и в самом деле люблю тебя.
Было тихо. Где-то глухо, но четко дребезжал звонок; в коридоре раздавались чьи-то шаги, и можно было догадаться, что доски пола, действительно, гнулись.
– Помнишь, перед отъездом я подарила тебе цветы, – опять начала говорить Наташа. – Они были белые. Когда я поняла почему-то, что тебе нужны были белые цветы, то сразу стало ясно, что я люблю тебя. И на вокзале тогда я была полна этого опьянения и счастья. Мне казалось, что ты всю ночь не будешь спать: эти белые цветы не дадут тебе спать. Я поехала с вокзала в ресторан; было рано, посетителей – никого, но кругом – ярко, светло, – такие высокие, красивые потолки. Я сидела одна, и лакеи удивлялись: женщина – одна. Дали мне кофе. Я смотрела на себя в зеркало напротив и смеялась от счастья. И любила тебя. А ты ехал в поезде и был далеко.
Наташа подошла к нему, опустилась на колени, положила голову на его руки.
И почему-то не было ничего удивительного в том, что мерцает свеча и прыгают неуклюжие тени, что в номере холодно, что на коленях, теплой щекою прижавшись к руке, стоит перед ним прекрасная женщина, которой когда-то, в зимний день, белые цветы подсказали, что она любит.
– Тогда тебе нужно уйти из этой гостиницы, – после долгого молчания сказал Крынин. – Ты останешься здесь, в этом городе. Я найду тебе квартиру.
Наташа, не поднимая головы с его колен, отрицательно покачала головой.
– Но почему же? – спросил Крынин.
– Ни, ни, ни! – ответила она, и можно было догадаться, что вопрос Крынина дает ей радость и счастье, – Я проживу здесь три дня и уеду.
– Куда?
– В Крым, к сестре.
Она подняла голову, и светлая, как пригретая солнцем, смотрела на него. В глазах ее струились какие-то мечты, думы.
– Я поеду в Крым, к сестре, – медленно, словно рассказывая любимую сказку, говорила она. – Там горы, там сады, там море. Там зеленеет трава. Там фиалки. Там – большой дом, покой. Душа моя нальется жизнью, как чаша. Будет одиночество. Будет хорошо.
– Но почему ты не хочешь остаться здесь, со мной? – спрашивал Крынин.
Наташа тихонько, по-детски засмеялась, опять прильнула к его коленям, и снова послышалось глухое:
Ни, ни, ни! Я ни за что не останусь здесь. «Ни за какие деньги», как говорит муж.
Сказала, и замолкла, и опять ушла думою далеко. И нельзя было понять, – куда: в прошлое или будущее.
– Я скоро буду безобразна, – таинственно, полушепотом прибавила она. – У меня вот тут, на лбу, появятся коричневые пятна. А ты и так ведь не любишь меня. А тогда и совсем с глаз прогонишь.
– Ты беременна?
Она не ответила. Напряженное дыханье теплом касалось его колен.
И только после долгого молчания сказала:
– И, знаешь: то, что ты не любишь меня, это мне как-то все равно теперь. Да, мой дорогой, да. Только не люби другой женщины. Да? Не будешь любить другую женщину?
И она ползала на коленях и засматривала ему в глаза.
…Было слышно, как в коридоре, в телефонной будке, кто-то кричал звонким ярославским говорком:
– Нет, нет. Нет, нет. Я – человек строгих правилов и позволить вам этого номера не могу. И как вы там планы не разводите, а пятьсот рубликов – не фунт изюму. Это вам не нотариус Володя Мышигинский. Почему? Вы спрашиваете – почему? А потому-с, что – потому всегда оканчивается на «у». Да-с, вот и все-с. Приятных сновидений-с.
V
Три дня, которые Наташа провела в городе, прошли как-то странно. Ночью выпадало много снега, морозы стояли градусов по двенадцати.
Когда начинало смеркаться, Наташа и Крынин шли бродить по широким улицам, из которых так хорошо было видно небо. Городской сад, в который теперь никто не ходил, был завален снегом, и только на главных аллеях протоптали узкую, глубокую тропинку, похожую на белую канаву. Вечером в городе и внизу, на вокзале, зажигались матовые электрические огни, а здесь, между деревьями, было темно, и зимние птицы крепко спали в гнездах. Крынин брал иногда карманный фонарь и наводил туда свет: птицы просыпались, и начиналась суматоха.
Было очень хорошо, что Наташа не начинала разговоров о любви и не требовала никаких уверений. Хорошо было разговаривать с ней об искусстве, о небе, о Петербурге, который отсюда, за две тысячи верст, казался ярким и недоступным.
– Теперь там едут в театр, – говорила Наташа, когда на колокольне медленно и неровно било восемь часов. – Я люблю это время. Едут, пожимаются от мороза; около театра мальчишки бегут за санями, пристают с программами.
– Здешнее время отстает почти на час, – отвечал Крынин. – Теперь в Петербурге кончается первое действие.
– А здесь такая тишина. Так красивы те огни!
Крынин видел, что перед ним – больная, надорвавшаяся
душа, что нужно бы сказать ей много нежного и ласкового; но в то же время было ясно, что если заговорит он, то это будет правда со словами жесткими и холодными, которую так же нельзя говорить, как во вьюжную зимнюю ночь – из дома бесприютного, одинокого человека.
– Скажи, пожалуйста, – говорила Наташа, пристально вглядываясь в даль: – Почему люди страдают перед смертью? Почему последние часы человеческие должны быть запачканы кровью? Почему бы смерти не быть последним, самым радостным благословением жизни? Благословением земли и жизни?
– Зачем ты мне говоришь об этом? – спросил Крынин.
Наташа тихо и серьезно ответила:
– Потому что чую ее за спиной. Да, милый, я умру. Это для меня ясней ясного.
У Крынина сжалось сердце.
– Полно, Наташа! – перебил он ее.
– Нет, нет, милый, правда! – терпеливо сказала она и схватила его за руку, будто боялась, что он начнет возражать ей. – Это – правда. Оттого я и не огорчаюсь, что ты не любишь меня. Мне важно только то, что я люблю тебя, Это странно, быть может, но это так. И я хотела бы, чтобы не оставался в живых он… твой. Пусть он умрет вместе со мною. На земле ему будет холодно.
– Полно, Наташа! – снова и робко говорил Крынин.
– Нет, милый, так, так. Все будет так, как я говорю.
Становилось холоднее, и, чтобы согреться, они начинали ходить но саду, спускались к пруду и, набирая в калоши снега, смеясь и падая, скользили по льду. Как-то незаметно, по-детски, изменялось настроение, – все тяжелое и нудное куда-то уходило.
Медленно, переходя по краям неба в густо-фиолетовые тона, протекал зимний вечер.
Когда сад закрывался, они, озябшие, в припадке ребяческого шаловливого задора, бежали греться на почту. Там в это время бывало уже темно: освещались только телеграф и продажа марок. За другими закрытыми окнами шла суетня: разговаривая и сердясь, шлепая чем-то тяжелым по полу, чиновники запаковывали мешки с корреспонденцией для почтового поезда, который уходил на север в десять часов четырнадцать минут.
Было уютно сидеть в углу темной, теплой залы, прислушиваться к шуму, смотреть, как сторож кладет в печь белые, тяжелые поленья. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на две фигуры, сидевшие на подоконнике. У тех, кто сдавал телеграммы, были сумрачные, озабоченные лица.
Бывали мгновения, когда становилось особенно ясно, что Наташа верит в чудо, ждет от него слов любви. Тогда он смотрел в ее темные, надеющиеся глаза, брал ее руки и не мог ничего сказать: забывал те слова, которые могли бы убедить Наташу, что близость и поцелуи не нужны, что в их отношениях стеною стоит холодная, бесцветная правда, что не нужно ни писем, ни упреков, ни ожиданий, что он не любит ее и только по каким-то странным, неуяснимым движениям души не в силах не отвечать на ее поцелуи, не улыбаться ее глазам, когда в них, как у звезд в морозный вечер, переливают и дрожат испуганные слезы.
А когда эти слова где-то в мозгу, далеко, рождались и приближались к сознанию, когда смысл их мелькал уже, вероятно, в его глазах, – тогда Наташа, как-то странно, Словно предчувствуя беду, пугалась, хватала его за руку, крепко сжимала ее и говорила:
– Не нужно, ничего не нужно. Милый, ничего не нужно. Я люблю тебя. Да, да.
VI
На вокзале перед отъездом Наташа не могла преодолеть волнения: гуляя с Крыниным по платформе, она то неожиданно останавливалась, то переставала говорить, то глядела в темноту и, казалось, что-то припоминала. А темнота там за пакгаузами, была огромная, безглазая, озлобленная на станцию и ее огни. Когда дошли до паровоза, Наташа долго и пристально глядела на огненную массу, клокотавшую внизу. Налево было темно: в туманных, вечерних очертаниях виднелись какие-то постройки, – то высокие, то низкие.
– Все – сон, – сказала Наташа, – И этот огонь – сон, и ты – сон. И ты – мой самый любимый сон. И вот этот клок волос, – седых старых волос, – тоже сон. Кажется мне, что я за него полюбила тебя и все в тебе.
На платформе, но обыкновению, суетилось много народу: барыни, купцы, попы. Носильщики возили багаж, и заледеневшие колеса тележки скрипели и визжали.
Когда ударил второй звонок и нужно было идти к вагону, Наташа торопливо, волнуясь, сказала:
– Ты мне пришли, обязательно пришли вид с горы, собор, потом фонтан, потом еще что? Что-то хотела еще… Ах, дай бог памяти… Не помню. Попаду ли я еще когда-нибудь сюда? Мне очень понравился твой город. Очень! Я помню, что ты любишь его и Петербург. Ты говорил. В нем хорошо жить. Бульвар прекрасный, летом, вероятно, тенистый, уютный.
Она смотрела на высокий, чуть заледеневший фонарь и, улыбаясь, припоминала. Было совсем ясно, что она не сказала того, зачем приехала, не сказала того, о чем думала все эти дни. И опять повезет она, как ярмо, это невысказанное, невыразимо тяжелое и тоскливое, что изменяет глаза, улыбку и даже ту радугу, сквозь которую струятся слезы человеческие. И в самый последний момент, когда уже решила все сказать, она заговорила об открытках.
Еще позвонили три раза.
Наташа вздрогнула, помутившимся взглядом скользнула по лицу Крынина, сделала порывистый шаг вперед, Остановилась и, сразу, в одно мгновение все, видимо, решив, уже спокойно пошла в вагон. На ступеньках чуть поскользнулась. Стала у двери на площадке. Молча, освещенная, глядела на Крынина.
Медленно тронулся поезд.
Крынин не заметил, как он пошел за ним, держась за ручку вагона, сбивая с ног каких-то людей, махавших носовыми платками. Он все ждал, хотел услышать то, что нужно и должно было услышать.
Кондуктор с фонарем в руках кричал ему:
– Барин! Так нельзя! так нельзя!
И было смешно это «нельзя».
А она наклонилась к нему и – счастливая, все быстрей и быстрей ускользающая, радостная оттого, что он еще с ней, – громко говорила те слова, которые он слышал во все эти три дня:
– Ты мой. Я смотрю тебе в лицо. Вижу тебя. Вижу твою душу.
Кончилась платформа, Крынин соскочил по двум каким-то ступенькам и уже бежал по насыпи. Поезд начинал спешить, чаще стучали колеса. Крынин немного отстал и видел только огромные, напряженно расширявшиеся глаза, видел руку в натянутой черной перчатке и, когда все скрылось, когда поезд пошел полным ходом, то показалось, что где-то, покрыв грохот железа, послышался звонкий, рыдающий крик.
VIII
Прошло три года.
В том же городе, на главной аллее общественного сада, сидит Крынин. Весна. Двадцать шестое апреля. Каштаны, прежде всех радующиеся солнцу, уже распустились и вверху, очень высоко, сплели полукруглую душистую крышу. Каштаны эти – очень стары, посажены еще князем Барятинским.
Уже вечереет. Часов около семи, совершенно неожиданно, налетел западный ветерок, притащил с собою, вероятно с Черного моря, компанию неуклюжих, неповоротливых туч, похожих на постаревшие облака, и теперь изредка капают теплые, крупные крапины дождя: кто надел новые соломенные шляпы, тем нужно поскорее открывать зонты и спешить домой.
По распоряжению городской управы весенний сезон начинается с первого мая, и поэтому двадцать шестого апреля сад еще не убран, еще очень красив, освещен на главной аллее только одним ацетиленовым фонарем. Фонарь, как непрошеный гость, висит между каштанами, фальшиво освещает их изумрудную зелень и делает мертвенно-синеватыми лица гуляющих чиновников и барышень.
Сад – большой, спускается под гору. Внизу есть пруд, над которым сплетаются липы. Недалеко от главной аллеи бывают, обыкновенно, разбиты ковровые цветники; но так как еще рано, только двадцать шестое апреля, то вместо клумб лежат груды черной, влажной, еще не беременной земли. Благодаря неверному освещению в цветниках кажется темно, как в могиле.
Крынину не мешает крикливая толпа. Он думает о том, что за ним всегда внимательно следит злое начало жизни. С упоением он вертит им, как игрушкой, кружит по белому свету и только па редкие мгновения оставляет его в покое. Эти мгновения наступают тогда, когда он приезжает в свой город. Тогда он как будто просыпается после тяжелого, кошмарного сна и видит свою старую любимую комнату с маленьким письменным столом, на котором стоит портрет Аксакова. Рядом с его комнатой – зал. Там, в углу, большая божница с семейными купеческими иконами. Есть среди них и его святитель: строгий старик с запавшими глазами и высоким коричневым лбом.
Когда Крынин обедает, за ним тоскливыми глазами следит старуха, которая тридцать лет тому назад родила его. Когда он гуляет по залу, она в соседней комнате слушает его шаги.
Город – невелик и тих; похож он на меблированные комнаты, в которых все знают друг друга. Самое лучшее и дорогое в нем: это каштановый сад.
…К Крынину на скамью подсаживаются гимназисты и начинают говорить о том, что завтра, на письменном экзамене, дадут, пожалуй, такую тему: «Значение культуры в истории народов».
Крынин невольно слушает эти разговоры, и ему делаемся скучно. Он поднимается, идет в цветники, и, когда, как в храм, вступает в их темноту, когда слышит запах свежей, взрытой земли, видит синее небо, немного звезд и густые тучи на западе, – тогда далеким, волнующим воспоминанием рождается образ женщины, с которою в недолгие три дня он гулял здесь по упругим, скрипевшим сугробам: зимние вечера начинались рано, часа в четыре, было холодно, и в гнездах спали озябшие птицы.
Где-то далеко, у бабушки, растет ее и его сын. Она, как и предчувствовала, умерла от родов. Перед смертью пересматривала, как колоду карт, открытки, присланные Кры-ниным, и просила написать ему. Сестра ее исполнила просьбу и послала ему письмо, в котором очень коротко сообщила ему о смерти и о том, что похороны были в прекрасный день.
Крынин идет теперь и шепчет:
– Похороны были в прекрасный день…
И эти короткие слова, как вспоминавшийся мотив, не хотят оставить его. Вспоминается, как после той зимы, в марте, приехал в этот же город ее муж, плакал и говорил, что Крынин отнял от него жену. И рассказал, как он, узнав о ее любви к Крынину, о беременности, прогнал тогда ее из дома. Она приехала в этот город одинокая, без крова… И тогда стало ясно, что она хотела и не могла сказать…
С тех пор ушло три зимы.
Ацетиленовый фонарь шипит, – слышно даже здесь, в цветниках, – и, благодаря его резкому синеватому свету освещенные аллеи кажутся далекими и красивыми.
Крынин потихоньку, как в чащу, идет в темноту и чувствует, что на руку ложится, как печать, теплая, тяжелая капля дождя.
– Дождь пошел на запад, к морю, – кто-то мечтательно говорит в темноте.
Крынин от неожиданности вздрагивает и разглядывает на низкой скамье какие-то силуэты.
– Да, дождь пошел на запад, к морю, – так же мечтательно, медленно повторяет женский голос. И в голосе этом слышится вся полнота первого земного счастья.
Крынин потихоньку идет дальше. Что-то заволакивает глаза. Он останавливается, долго смотрит на небо – и кажется ему, что там, вверху, на синем фоне светлыми буквами сделана надпись на неведомом языке. И только тогда, когда человечество прочтет эти звездные слова, – тогда счастье придет на землю.
Опять доносится до него тихий разговор. Он вспоминает о дожде и видит, что тучи действительно уплывают на запад: к морю.
Смерть
Золотые дни «бабьего лета», казалось, установились надолго.
Солнце на синем, пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет, и в тени лежит иней. Воздух синь чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина – черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов в парке и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим, зеркально-гладким, и в нем отражается белая пристань, с лодкой, лебедями и статуями. В садах фрукты уже сняты, листья опали, и здесь, после лета, как-то нелепо пусто.
В такие дни, от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думаешь о бывшем и будущем. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах – искать незамеченные яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг журавлей.
Ипполиту Ипполитовичу – сто лет без года и трех месяцев с днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В шестидесятых годах, уже под пятьдесят, вместе с государем Александром, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.
Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно заметить, что когда-то он был велик очень, кряжист и широкоплеч. Большое лицо его все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп – лыс. Глаза его выцвели и белы. А руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими.
В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой барской семьи. В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном письменный стол, заваленный старинными нужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок. Стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской. В виде дракона камин. Полы из паркета карельской березы. Стекла в окнах без гардин, закругленные вверху и с частым переплетом рам выцвели, позеленели, и по ним разбегается радуга.
В окна идут холодные, бодрящие лучи осеннего солнца и бодро ложатся на стол, на часть дивана и на пол
Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует.
Он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми, выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и застланном медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если, и ночью, и днем, окликнуть его: «Ипполит Ипполитович!» он всегда через полминуты откликнется:
– Так?!
У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия у него отупели.
Ночью шумят мыши. В большом колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы. Старик не слышит.
Утром в семь часов приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своею цветистостью и ядреным здоровьем.
Она говорит спокойно:
– Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.
И Ипполит Ипполитович отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса:
– Так?!
Васена моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчит. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидяще.
В окно идет золотое, бодрое солнце, блестит в белых волосах старика.
– Сынок ваш приехал, Илья Ипполитович, – говорит Васена.
– Так?!
Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет, и из трех его сыновей в живых остался один Илья. Илья – художник. Ему – сорок пять.
Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы – ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь уже тоже почти – старика. Вспоминается, что когда-то, давно, этот образ был нужен и дорог, а потом утерялся и теперь – безразличен.
И лишь по инерции старик переспрашивает:
– Приехал, говоришь?
– Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни.
– Так?! Меня приехал перед смертью посмотреть, – говорит старик.
Васена деловито откликается:
– Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы…
И старик и Васена спокойны.
Молчат.
Старик откидывается к стенке дивана и дремлет.
– Ипполит Ипполитович, вам надоть гулять идти.
– Так?!
Воздух «бабьего лета» синь и крепок… Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучовой фуражке, надвинутой глубоко на лоб, и черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.
Иногда старик замирает на несколько часов. И из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и застеклевшими, почти не дыша.
Тогда гонят лошадей за врачом, и врач впрыскивает камфару и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом.
Старик отходит медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач сосредоточенно и важно говорит:
– Если бы еще одна минута, была бы смерть.
Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:
– Так уж боялись, так уж боялись… Совсем, думали, умерли уж… Да, ведь, и то, годочки ваши не такие, чтобы…
Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда вдруг нелепо немного, весь сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется:
– Хгы! хгы! – смеется он и хитро добавляет: – Умру, говоришь? Хгы! хгы!
Илья Ипполитович, сын, ходит по пустым комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло здесь. Твердая тишина, черствящая, застыла в доме.
Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы на висках его уже серебрятся, а лицо брито. У него серые большие и уставшие глаза.
У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце потому, что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окончательно.
Но ходит он в то же время – от угла до угла – бодро очень.
Отец и сын встречаются у террасы.
– Здравствуй, отец, – говорит бодро сын, нарочно беззаботно улыбаясь.
Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет наверх и подставляет щеку для поцелуя. От щеки его пахнет воском.
– Так?! – говорит старик.
Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.
– Давно не виделись, отец! Как живешь?
Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:
– Так?!
Васена отвечает за старика:
– Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся, – говорит она речитативом.
Илья Ипполитович тайком бросает укоризненный и испуганный взгляд Васене и громко говорит:
– Пустяки, отец! Ты еще сто лет проживешь! Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..
Они садятся на мраморную ступень террасы.
И молчат.
Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать.
– А я все картины пишу… За границу собираюсь… – говорит он.
Старик слушает, смотрит невидяще и бессмысленно и вдруг спрашивает:
– Это ты приехал меня посмотреть?.. Умру скоро…
Илья Ипполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:
– Что ты это, отец, как ты это?!
Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты, лицо утеряло всякое выражение.
Он дремлет.
Светит солнце, небо сине, а в далях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь – смерть. И не останется ничего. Ничего!
И это – ничего – Илье Ипполитовичу кажется чрезмерно ужасным, лежащим по ту сторону человеческого сознания. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек – умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего тогда жить развиваться, работать, когда концом будет – ничто?..
Сознает это отец? Или он верит в бога? – до боли хотелось узнать это от отца, ибо в его, отцовских ста годах чуялась какая-то большая мудрость, и еще потому, что он был – отец.
Если бы отец сейчас все время кричал безумно и бился бы головою о стену, Илья Ипполитович понял бы и оправдал.
Где-то, далеко-далеко в пустынной синеве кричат журавли:
– Курлы, курлы-ы, – несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу.
Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитовича бледно.
Устало и бессильно сложены губы.
Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?
Ипполит Ипполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и куриные котлеты. Потом Васена его проводит в кабинет. Старик ложится на диван и дремлет.
К нему приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито бодр, но в глазах, уже усталых, тоскование. А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках чуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.
Он сидит у ног отца.
Отец долго ищет его глазами и говорит, будто граммофонная пластинка спетого баса:
– Так?!
– Давно не виделись мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь как-никак, отец, а дороже тебя нет ведь у меня никого, отец! Как живешь, отец? – говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.
Старик глядит невидящими глазами; кажется, не слушает; и вдруг, жмурясь хитро, растягивая губы и открывая пустые челюсти, смеется и говорит:
– Хгы! хгы!.. Умру скоро! Хгы! хгы!
Но Илья уж не теряется так, как первый раз, у террасы, и только быстро как-то, чрезмерно тихо, почти шепотом, спрашивает:
– А разве не боишься?
– Нет! Хгы! Хгы!..
– В бога веришь?
– Нет! Хгы!
И отец и сын – молчат долго.
Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:
– Вот, когда человек спать хочет… дороже всего сон… так и умереть захочешь… понимаешь? Когда устанешь…
Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро:
– Хгы! Хгы! Понимаешь?!
Илья смотрит в хитрое лицо отца, смотрит долго широко раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх.
А старик уже дремлет.
День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах – синий дымок и шарят тени. За стенами мороз.
Ипполит Ипполитович лежит на своем диване, заложив правую руку за голову, с полузакрытыми глазами.
Он ни о чем не думает. И нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего.
Где-то близко пробегает и шлепается крыса. Старик не слышит.
Шалая осенняя муха садится около глаза. Старик не мигает.
От пальцев ног, в голени, в бедра, в живот, к груди, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.
Уже вечер. И в комнате уже черно. А туман на фоне окон кажется густым и страшноватым.
Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стеклянно-тусклыми глазами. И лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.
Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой.
– Ипполит Ипполитович, кушать надо, – говорит она. Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного:
– Так?!
Скачут, взмыливая лошадей, за врачом.
Врач выслушивает; подносит к губам зеркало. Потом сосредоточенно и важно говорит:
– Умер.
В комнате Ипполита Ипполитовича толпятся люди.
Илья Ипполитович целует тело отца и плачет. И сугубо сильна в нем жалость к отцу и себе, и сугубо непонятно – почему здесь люди, почему здесь он? Почему, для чего все это? Почему все не исчезло со смертью отца? Как другие могут стоять и шептаться, когда ведь и они тоже умрут? Почему не бьются они так же, как он, судорожно целующий сейчас, заливающий слезами отца.








