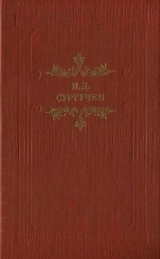
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)
Когда губернатор вышел из дому, его, вытянувшись и сделав непроницаемое, строгое лицо, ожидал у крыльца Крыжин. Вытянулись и все чины, бывшие с ним.
Было тепло; расцвело, словно после болезни, солнце: от деревьев на стену дома, по окнам легли серые тени, и в соборе опять в тот же средний колокол звонили ровными ударами; и чувствовалось, как этот звон идет с высоты вниз и плывет в город, в долины, в поля, в степь.
– Что это все звонят? – спросил, стоя на пороге, губернатор.
Крыжин, не отнимая руки от козырька, мягко наклонился и ответил:
– Литургия идет, ваше пр-во! Поют в церкви «Достойно и праведно есть поклонятися отцу и сыну и святому духу». Поэтому и звон. Чтобы всякий слышавший в доме ли, в поле ли, положил на себя крестное знамение, потому что достойно есть.
– Так, – задумчиво сказал губернатор, – достойно есть…
Вероятно, оттого, что в доме лежал убитый полицмейстер, Крыжин настроился на религиозный лад и, все так же наклонившись, мягко говорил:
– И показывает еще сей звон, что приближается момент, когда на престол божий сойдет благодать духа святого, и вино превратится в кровь человеческую, а хлеб – в тело…
Губернатор посмотрел на него. В глазах Крыжина была теплота, мягкость; смотрели они необычайно; нельзя было предположить, что его интересуют церковные вопросы.
Вдруг губернатор спросил:
– А кто убил полицмейстера?
– Нездешний человек, – ответил Крыжин, снова превращаясь в службиста, – приезжий… Личность еще не выяснена…
– Он скрылся?
Лицо Крыжина сначала выразило душевную обиду, а потом – радостное сияние.
– Никак нет, ваше пр-во, – гордо ответил он, – как можно – «скрылся». Разве может такой человек от нас скрыться? Как же! Никто не скрылся. И сидит человек тот, арестованный, у нас в полиции… Пойду вот сейчас, опрос сниму…
– В полиции? – изумился губернатор. – Там? – в показал пальцем.
– Точно так! Там, – радостно подтвердил Крыжин и, не отнимая руку от козырька, изящно поклонился и шаркнул левою ногой…
Губернатор немного подумал и потом сказал:
– Я хочу его видеть…
Не отнимая руки от козырька, Крыжин опять изящно и покорно поклонился. Пошли через ворота в полицию.
В передней сидел Пыпов, мрачный, толстый. Увидя губернатора, вытянулся…
– Привести его туда! – сказал ему Крыжин и указал глазами наверх.
Пыпов протяжно крякнул, – очевидно понял, кого нужно привести.
Пошли по лестнице. Крыжин шел сзади губернатора и боялся, как бы в кабинете не оказалось чего-нибудь лишнего; папиросы, рассыпанного табаку на бумагах, ненужных книг, пыли. Визит губернатора был неожиданным, и Крыжин ругал себя, что накликал его сам.
«Найдет что-нибудь и разнесет», – беспокойно вертелось в голове.
Вошли в кабинет.
Сейчас же по канцелярии и в сыскном отделении разнеслась весть, что пришел губернатор. Задвигали стульями, забегали по лестнице, быстрыми голосами заговорили. Губернатор стал у окна и смотрел на двор. Было видно, как из полицмейстерского дома, с заднего хода, выкатили ванну – ту самую, в которой обмывали покойника, и заперли ее в сарай, – заперли и подергали замок: держит ли. И показалось странною такая заботливость.
– Скоро ли? – спросил губернатор.
Крыжин бросился к двери и крикнул;
– Поди скажи, чтобы скорей!
– Чего скорее? – спросил невидимый бас.
Крыжин в досаде вылетел в коридор, и слышно было, как сам побежал по лестнице вниз. Скоро он вернулся, смущенный чем-то, видимо, подавленный, и пробормотал, не глядя губернатору в глаза, стараясь быть небрежным:
– Сейчас приведут. Умыться ему дают.
– Умыться? – удивленно спросил губернатор. – Почему – умыться? Разве он спал?
Крыжин, сразу как-то осунувшийся, побледневший, медленно ответил:
– Кровь у него на лице. Сам ли он, или Пыпов… Городовой у нас есть такой. Зверем иногда бывает.
Губернатор подошел к столу, чтобы поближе разглядеть Крыжина.
– Его били? – после паузы спросил он.
– Не могу знать, ваше пр-во, – смущенно глядя в пол, отвечал Крыжин, – но кажется…
Крыжин был взволнован: у него подергивался левый глаз, и пальцы рук дрожали…
В комнате были серые, выбитые полы, виднелись в дереве сучья, и краска сохранилась только под шкафами. Шкафы были дешевенькие, заваленные бумагами, крест-накрест перевязанными в кипы, и шел от них запах особенный, канцелярский. Почему-то почувствовалось, что в летние дни здесь должно быть особенно знойно и жарко, и тогда Крыжин сидит, расстегнув, вероятно, мундир.
– Это вы приказали бить? – тихо спросил губернатор, поворачиваясь к Крыжину.
Тот словно ожидал этого вопроса: задрожал весь, побледнел и, видимо, еле удержался на ногах. Можно было из его бормотанья разобрать только несколько слов.
– Нет. Никак нет. Только отдал приказание арестовать. А Пыпов говорит, что за начальство должен постоять. Оправдать душу, перед богом невинную, загубленную.
На лестнице послышались тяжелые шаги, – будто шло человек восемь. Отворилась дверь, и в комнату вошел высокий неизвестный человек. Голова его вся была обвязана нечистым, где-то, видимо, наскоро взятым полотенцем, – оставался не закрытым только левый глаз, смотревший через синюю вздувшуюся опухоль, как через щелку. Человек был одет в длинный модный пиджак со складками назади, – теперь рукав, оторванный вверху у плеча, показывал рубашку, в боку был вырван кусок сукна и висел шершавой изнанкой наружу.
Некоторое время друг друга молча рассматривали.
– Вас избили здесь? – спросил губернатор.
– Здесь, – ответил человек.
Вырвалась казенная фраза:
– Виновные понесут наказание, – сказал губернатор и сконфузился, поводил пальцем по пыльному переплету какой-то лежавшей на столе книги и добавил: – Прежде всего вот помощник полицмейстера выйдет в отставку и будет предан суду. И так далее. Крыжин! Уйдите из комнаты.
Крыжин, как лунатик, протянул руки вперед, медленно пошел из комнаты и не затворил за собой двери. И только минуты две спустя кто-то притворил их.
– Меня избил городовой, – глухо говорил человек, – я ничего с ним поделать не мог. И когда он уходил, то сказал, что теперь у меня отбито все внутри и жить мне осталось всего шесть месяцев.
– Шесть месяцев, – машинально повторил губернатор.
Он чувствовал, что что-то нужно делать: не то закричать каким-нибудь длинным, протяжным голосом, не то топать ногами, не то опрокинуть шкаф с бумагами… Что-то широкое и большое поднималось внутри, и не было ему выхода.
– Я не знаю, что делать, – тихо сказал он, опускаясь на стул, – не знаю. Не могу дать себе отчета.
– А я, – сказал высокий человек, – знаю, что это правда. Я это чувствую.
– Что это? – спросил губернатор, поднимая голову.
– А вот то, что мне конец через шесть месяцев. Это чувствуется вот здесь, везде, – и он провел по груди ладонью и продолжал: – Я прошу вас об одном. Отпустите меня. Даю вам честное слово, что я не убегу от суда. Останусь здесь. А теперь отпустите.
– Вы будете отпущены, – сказал губернатор, долго думал и, наконец, нерешительно спросил: – только скажите, пожалуйста, за что вы убили полицмейстера?
Высокий человек вздернул плечами.
– Странный вопрос, – сказал он, и запухшая щелка глаза немного блеснула и расширилась, – я не убивал никого. Я не разбойник. Я дрался на дуэли. Он сам вызвал меня и мог меня убить так же, как я – его. Неужели вы таких простых вещей не понимаете? – раздраженно спросил он.
Губернатор чувствовал себя смятым, разбитым, знал, что сейчас скажет ненужную вещь, и все-таки сказал:
– А почему у вас дуэль была?
Высокий человек сначала, видимо, хотел сказать все сразу, но потом остановился, в голове у него протекли быстрые думы, и он вымолвил:
– Очень просто. Я люблю его жену, и она любит меня. А его не любила. Совершился поединок, божий суд, если хотите. И бог решил: пусть она принадлежит тому, кого любит. Если хотите.
– Откуда вы? – с напряжением спрашивал губернатор.
– Мне кажется, это неважно! – ответил высокий человек.
– Я вас не знаю, – говорил губернатор.
– И я вас не знаю, – послышался глухой ответ, – я знаю, что от меня отняли мир, мою любовь, – по какому праву? Кто посмел?
Опять долго молчали, стоя друг перед другом.
– Вы убили его. Теперь убили вас. А она? – словно сам с собою говорил губернатор. – Когда он умирал, она целовала ему руку.
– Ложь! – тихо сказал высокий человек.
Губернатор внимательно посмотрел на него и добавил:
– Право, я не лгу. Целовала.
Высокий человек отвернулся в сторону и ответил, видимо, своим мыслям:
– Все равно, – и вдруг добавил: – Простите, мне трудно стоять на ногах. – Пошел к печке и сел там на стул с плетеным кружком. Губернатор по-прежнему остался у стола.
– Вы вот что, – сказал наконец он, – около крыльца стоит мой извозчик, – садитесь и поезжайте.
Высокий человек поднялся и спросил;
– А меня пропустят здесь? – и показал рукой на дверь.
– Не беспокойтесь, – ответил губернатор, сам проводил его до лестницы, нагнулся в пролет и крикнул:
– Не задерживать!
Скоро в комнату явились Крыжин и Пыпов, У Пыпова губернатор спросил:
– Правда, ты его убил?
– Правда, – ответил Пыпов.
– Отбил внутренности?
– Отбил.
– Кто ж тебе позволил?
– Сам себе позволил. Без всяких позволениев. Ссылайте в Сибирь, вот и все! – тупо отвечал Пыпов.
А когда он, грузный и широкий, ушел, Крыжин вдруг стал на колени, протянул к губернатору, как к богу, руки и просил:
– Ради творца всевышняго… Ради святой его крови… Умоляю вас ангелами небесными… Крест поцелую! Присягу похоронную приму! Ваше превосходительство! Ваше Превосходительство!
И когда губернатор, не ответив ему, пошел по лестнице, Крыжин полз за ним на коленях и кричал вниз:
– Ваше превосходительство!
Кудрявый старенький Шульман и лысый, странно, глубоко моргающий ротмистр вышли в коридор и смотрели на него.
XXII
Хоронили полицмейстера в ясный день. Была прозрачна и спокойна даль с отчетливыми очертаниями вокзала, маневрирующих поездов, спускающегося к земле неба.
Губернатор вспоминал лицо полицмейстера, и все время ему казалось, что у покойника нет глаз, вспоминал и не мог представить себе голоса, каким говорил он.
Листья деревьев, пожелтевшие, внутрь завернувшиеся, тихо и покорно падали. Отпевали полицмейстера в соборе: много кадили, и было видно, как в солнечном луче переливаются, купаясь, волны душистого дыма. Служили медленно, ходили в черных ризах важно, дьякона говорили басами и концы прошений печально затягивали вверх. На последнюю великую панихиду, после обедни, обещал приехать архиерей Герман, но с самого утра заболел лихорадкой, которую захватил еще в Китае.
– Да и это бы ничего, – говорил он губернатору по телефону, – но вот беда. От лихорадки я спасаюсь чем? Пью водку с лимонным соком. Кружится голова: станешь на кафедру, еще бухнешься.
Службу по этой причине правил соборный протоиерей, – красивый, лысый старик, в полинявшей, с серыми пятнами камилавке. По обе стороны его, вдоль гроба, стояли со свечами священники, и черные ризы их говорили о великом посте, о ранней весне, когда на реках начинает трещать лед и прилетают скворцы.
Губернатору не нравилось пение, хотя было видно, что хор, а в особенности первые басы старались. Когда пели «Надгробное рыдание», то на слоге «да» получалось удивительно красивое и звучное сочетание голосов, и совершенно неожиданно, из далекого детства, когда учили играть на рояле, губернатору вспомнился музыкальный термин:
– Доминант септ аккорд.
Это слово развернуло в памяти уголок, старый, забытый. Он закрыл глаза, – исчезло его губернаторство, исчезло возвышение, на котором стоял он, церковь, протопоп, умерший полицмейстер: явилась комната с синими стенами, с левой стороны освещенная деревенским утренним, особенным солнцем. Явилось ощущение только что пережитых, волнующих, как холодная вода, снов. Вспомнились блестящие, разрисованные черными квадратами полы гостиной; голос отца в кабинете, староста Егор; какие-то мужики, становившиеся на колени перед крыльцом. Нежная, прекрасная женщина сидит у рояля и, держа на левом колене маленького мальчишку в бархатных штанах, учит его, как называются клавиши, белые и черные. А у мальчишки мелькают в голове думы о том, что не мешало бы гривенник, подаренный ему сегодня отцом, завернуть в платок, потому что время летнее и денежку с зазубренными краями могут покусать мухи; что орел, кажется, напился пьяным, а индюк собирается на село ко всенощной пойти…
Эта женщина – мать.
Теперь над ней – большой, черного мрамора крест, и на пьедестале золотыми буквами на славянском языке написаны евангельские слова.
Губернатору почему-то делается стыдно от этих воспоминаний, он краснеет, открывает глаза и смотрит на гроб, стоящий посередине церкви. С возвышения, которое в кафедральных соборах устраивается специально для губернаторов, ему виден полицмейстер, лежащий с бумажным венчиком на лбу. На венчике, как медальоны, нарисованы иконки. Под шеей у полицмейстера – вата. Глаза запали, как будто кто вдавил их большим пальцем. Нос сделался тонким и острым. Руки пожелтели, видны кости, расходящиеся, как веер. Лицо полицмейстера было таково, будто он за эти два дня и две ночи много кое о чем подумал и теперь окончательно убедился, что 18 марта и в самом деле не нужно бы стрелять в толпу. Даже мороз по коже пробегал, когда губернатору на ум пришла мысль, что, вероятно, только в гробу человек понимает все, всю жизнь, огромную и сложную, и видны тогда ему все пути ее, правые и неправые, и не кажутся они ему спутанными, а ясными и простыми, и понятно, как нужно было бы ходить по ним.
После ектений послышалось вдруг осторожное задавание тона, и хор необычно тихо и стройно запел:
– …Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурею. К тихому пристанищу твоему притек, вопию ти…
Душа очищалась, будто с нее, как с зерна, снимали шелуху. Выступали на глазах слезы, хотелось уйти от этой толпы в тихие далекие улицы. Необыкновенно прекрасною и чистой, как святая на иконе, представилась Соня. Она не пошла в церковь: боится панихиды.
Прочитали громкую и торжественную молитву об отпущении полицмейстеру всех грехов, вольных и невольных, и в знак прощения вложили ему в правую руку свернутое трубкой рукописание, которое он должен показать, когда в сороковой день предстанет перед богом. Понесли гроб к выходу. Наклонились у дверей хоругви. Ударил на колокольне грустный перезвон. Зарыдала вся черная и стройная, с невидимым лицом, цыганка Аза. Когда спускались по широким, залитым асфальтом порожкам, то голова покойника, казалось, приподнялась. А сзади печально, как склеп, закрылись золотые двери алтаря, и незаметно прошуршала за ними шелковая завеса.
На дворе солнце сверкнуло в серебряном кресте; как любопытные, расселись на первом этаже колокольни дикие голуби. Ударил большой колокол, они испугались и, звонко шлепая крыльями, полетели куда-то через парк.
На кладбище губернатор не пошел; поцеловал покойника в щеку, – была она холодная и твердая, – и поехал домой. Дома вышел на балкон и начал смотреть на ясный день. Закутавшись в старый оренбургский платок, скоро вышла к нему Соня. Лицо ее выглядело нездоровым, было оно какое-то утомленное, под глазами обозначились синие, словно наведенные карандашом, глубокие круги. Глаза беспокойно блестели.
– Ты, Сонюшка, нездорова! – сказал губернатор.
– Лихорадит что-то, – ответила Соня. Захотелось приголубить девушку, захотелось сказать ей такое, отчего бы прошла болезнь, сделались спокойными и ясными ее глаза.
– Ну вот, – пошутил губернатор, – в городе есть два больных лихорадкой: архиерей и губернаторская дочка.
Соня не улыбнулась и скоро ушла назад, в комнаты.
В три часа Свирин накрывал уже стол для обеда и говорил, что сегодня на жаркое подадут куропаток с красной капустой. В это время зазвонил телефон. Губернатор взял трубку и спросил, откуда говорят.
– С кладбища, ваше пр-во! – услышал он шипящий голос.
– Что вам?
– Все исполнено, ваше пр-во! Я говорю, ваше пр-во! Крыжин.
Сразу сделалось неприятно, будто по спине поползла мокрица. С тех пор, как Крыжин стоял на коленях, губернатор не принимал его.
– Что такое? Что исполнено?
– Обряд совершен в окончательной форме, – шипел телефон, – тело в могиле. Вся она, то есть могила, утопает в живых и искусственных цветах ваше пр-во! Сказали речи: правитель канцелярии, старший советник губернского правления и зубной врач Антипов. Собирался говорить еще какой-то юноша из красных, но ему мною было строго воспрещено, так как он собирался, по всем видимостям, говорить обидное для покойника.
– Почему же это так было заметно? – спросил губернатор.
– А уж это так было видно – шипел телефон, – на замечании человек. Я приказал отправить его в участок и выяснить личность. Кажется, из сидевших.
Перед вечером губернатор вышел пройтись по бульвару. С востока тянуло сыростью; пришлось надеть пальто и перчатки. Перчатки были новые, еще неразмявшиеся. Сзади губернатора шел Свирин.
В зимнем клубе сквозь запотевшие окна были тускло видны огни.
– На днях клуб уже переезжает сюда на зиму, – сказал Свирин, – поправляют монтеры лампочки. А еще несчастие случилось. Перевозили биллиарды, одну аспидную доску разбили. Послали телеграмму в Ростов-на-Дону.
На углу, около клуба, стоял Крыжин. Губернатор вспомнил доклад по телефону и заторопился, чтобы пройти мимо, но когда оглянулся, то увидел его рядом со Свириным.
Видимо, осмелившись, Крыжин сделал большой шаг, пошел вровень с губернатором и доложил:
– Выяснили. Задержанный – слесаря одного, Ивана Панкратова, сын. Из подозрительных. Глаз у него обожгли пулей 18 марта. Теперь на один только смотрит.
Темнело. На бульваре было пусто. В лимонадной будке зажгли рожок: ярко осветились какие-то вазы с виноградом, бутылки, столики, и еще больше покрылись темнотой окрестные деревья и аллеи.
– Ваше пр-во! – обратился к губернатору Крыжин, и в голосе его послышалась слащавая мольба. – Заставьте вечно бога молить…
И Крыжин снова бухнул на колени, хотел, видимо, схватить губернатора за пальто, но тот уклонился в сторону и молча пошел дальше.
Время от времени Свирин оглядывался и говорил:
– Скажи на милость! Все еще стоит! Вот оказия!
XXIII
Через полчаса, когда губернатор вернулся домой, Крыжин сообщил ему по телефону, что с каланчи дежурный Мартынов заметил огонь на ярмарочной площади. Оказалось, что загорелась лесная биржа купца Егорова. Недалеко от нее стоят нефтяные баки, которым угрожает большая опасность. Подозревается поджог. По улицам, гремя и звеня, с факелами впереди летела уже пожарная команда. Маленькие зеленые бочки на низких дрогах подпрыгивали. Так и казалось, что сейчас вот они разлетятся, опрокинутся и разобьются. Гегеновская паровая мельница начала давать тревожные свистки; на тротуаре послышался топот бегущих, быстро меж собой переговаривающихся людей; город наполнился тревожным, заразительным шумом. Этот шум вызвал в памяти образ только что погребенного полицмейстера, и губернатор сказал Соне:
– Сколько бы ему было теперь хлопот! Надо бы скакать на пожар, суетиться, кричать! А то лежит теперь в земле, головой к западу, – и никаких волнений, дум, тревог…
– И хорошо… – мечтательно ответила Соня: – посыплет скоро снег, будет кругом чисто, бело…
В голосе ее послышались те ноты, которые говорят и жажде отдыха, покоя, созерцания.
Губернатора поразила эта усталость, утомленное лицо; он хотел было поговорить с Соней, испытать; не скучно ли ей у него жить, не хочется ли в Москву, где теперь только что начинается сезон, съезжается народ, императорские театры уже дают представления, но в это время опять зазвонил телефон, и уже не Крыжин, а чей-то другой голос сообщил, что огонь перебросился в нефтяные баки, и баки горят теперь тихо, как лампады: опасности никакой, но и тушить нет возможности. Случился, между прочим, анекдот. Один из усердных чиновников телефонной станции бросился спасать телефонный аппарат, висевший в конторе Егорова и, пока отрывал его от стены, спалил свою длинную бороду и стал похож на бритого. Мальчишки его начали дразнить: «У какого цирюльника брился, дяденька? Не у Еремея ли Артемьевича?» Телефонист сначала смеялся, а потом рассердился и спасенным аппаратом хватил одного малого так, что у того из головы кровь брызнула, и аппарат сломался. Телефониста отправили в участок.
С балкона была видна часть пожара. Стояло огромное облако освещенного снизу дыма, в котором, казалось, рвались и боролись между собой какие-то озверелые, то и дело менявшие свои очертания, огненные богатыри. В бинокль можно было различить постройки, время от времени озарявшиеся случайным напором огня.
Поблизости чернел какой-то длинный и узкий сад.
Соня сказалась больной, заперлась в своей комнате и сидела там так, как она любила сидеть, – зябко закутавшись в пуховый платок. Губернатор подошел к ее двери, постучал и сказал:
– Соня! Пойдем-на гору. Пожар смотреть.
Ответа долго не было, а когда послышался голос, то звучал он сухо и неприветливо. Губернатор чувствовал, что такой тон приобретается в определенные мгновения жизни, но какие, – уяснить не мог.
– Я не пойду, папочка, – сказала через дверь Соня, – не люблю пожаров.
Губернатор пошел один; Свирин куда-то запропастился. Вся дворня вылезла на крышу дома; вероятно, и он был там.
Подниматься на гору было трудно. На соборной лестнице, широкой, большой, похожей на одесскую лестницу к морю, он останавливался и делал передышку. Лестница была высока и темна. По обе ее стороны рос густой сад. Идти вверх, к собору, было страшно, и губернатор часто оглядывался назад, на встревоженный пожаром город. Вверху, в соборе, горел какой-то огонек.
На средней площадке губернатор задержался особенно долго.
Вспомнилась опять Соня.
В последнее время, когда он начинал думать о ней, то обыкновенно в душе рождалась тревога. Откуда и почему она приходила, губернатор не мог объяснить, огорчался и думал, что похож на слепого. Он чувствовал ее душу, какое-то скрытое беспокойство, которое она боялась показать, которое было непонятно. Ему и раньше казалось, что приезд Сони – не то радость, не то печаль, и нельзя было разобрать, где правда.
Огонек вверху оказался лампадкой, знакомой, неугасимой лампадой торгового дома братьев Пестрядиных. В 1879 году старик Пестрядин, умирая, завещал пять тысяч, чтобы в соборе, перед чудотворцем, всегда горел огонь; и на лампаде, большой, выпуклой, с изображением ангелов, была выбита надпись: «От торгового дома Пестрядина сыновей. Господу помолимся».
Когда губернатор подходил к месту у креста, послышались голоса, смех. Очевидно, собралась молодежь смотреть пожар. Молодые голоса трудно различить: все они похожи друг на друга.
Губернатор, не доходя до них, остановился. Пожар был виден весь. В бинокль, в морское стекло, стали заметны копошившиеся люди, то пропадавшие в темноте, то сразу и ярко, будто кто-то шалил, освещавшиеся огнем. Стояла в стороне, блестя касками, пожарная команда. Очевидно, решили: пусть горит до конца, все равно с нефтью ничего не поделаешь.
Губернатора заметили.
Какая-то темная фигура в плаще подошла к нему, посмотрела и торопливо вернулась назад. Было слышно, как кто-то удивленно спросил:
– Губернатор?
И сейчас же поднялся с земли человек, в котором было что-то знакомое, и направился прямо к нему; оказалось – Ярнов.
– И вы пришли сюда? – спросил он.
– Пришел, – ответил губернатор, – а что-то тебя давненько не видать. Наведался бы. Ездил, что ли, куда?
– Никуда не ездил, некогда, – тихо и смущенно сказал Ярнов и вдруг перешел на беззаботный; веселый тон: – а мы вот завтра провожаем студентов, ну вот и собрались здесь. Пили вино и все такое. Когда-то еще увидимся.
В темноте можно было различить и женские шляпки.
– И барышни едут? – спросил губернатор.
– А как же? – ответил Ярнов. – И барышни на север держат путь. Весело теперь ехать! Едут студенты, до самого Воронежа едят арбузы и смеются.
От пожара, от зарева доходил сюда странноватый отблеск.
Ярнов стоял к огню левой стороной, был освещен тускло и совсем не походил на того Ярнова которого знал губернатор. Глаза его, серые, казались верными, борода – удлиненною, ассирийскою. Казалось, что к городу, прыгая, вплотную подошел огромный огненный зверь, собирается ринуться на дома, на колокольни, на сады и пожрать это все.
– Вы, может быть, присели бы к нам? – спросил Ярнов.
– Да, я устал, – ответил губернатор.
– Господа! – обратился Ярнов к компании. – Вот губернатор хочет посидеть с нами и просит дать ему местечко. А? Барышни! Подвиньтесь-ка! Ваше пр-во! А ну пожалуйте! Вот сюда, в дамское общество, Это вот у нас – Марья Антоновна и Анна Андреевна из «Ревизора». Господа! Я знаю, что мало кто из нас любит губернатора. Но, господа, сей день, его же сотвори господь… Будем просто людьми. Вот губернатор сел и хочет выпить белого вина. Вытрите стакан и налейте нашего мозельвейну, Не беспокойтесь, ваше пр-во! Шесть гривен бутылка.
Ярнов старался быть веселым и развязным; но это как-то не шло к зареву, к черному густому дыму, который, как туча, шел на город и, казалось, готов был пролиться черным дождем.
– В Грузии есть обычай, – говорил, не переставая суетиться, Ярнов, – на пиру выбирать распорядителя. И зовут его – тамада. Подчиняться ему нужно, как царю. Конечно, во время пожара не нужно бы устраивать пира, но ведь горит что? Нефть? Горит, значит, карман купца Егорова? А купец Егоров кто?
– Буржуй! – деланным писклявым голосом вставил кто-то из лежавших. На земле, на разостланной бурке, лежали темными силуэтами люди. Там же было и вино, и стаканы.
– Правильно, буржуй, – согласился, Ярнов: – завтра ему нальют в эти баки новой нефти, и беду его Митькой звали. Итак, выпьемо!
– Выпьемо! – ответили с травы.
Послышалось осторожное чоканье бокалов. Ярнов всунул губернатору в руки слегка мокрый, скользкий стакан. Вино было кисловатое и не холодное, но показалось приятным.
– У нас здесь был спор, – сказал Ярнов, обращаясь к губернатору…
– У Казбека с Шат-горою был великий спор! – с преувеличенным шутливым пафосом продекламировал какой-то невидный бас.
– Я вот говорю, – продолжал Ярнов, – что, по-моему, огромное единственное несчастие человечества началось с того момента, как какой-то безумец в исступлении, вероятно, в тиши ночи родил в своем горячем, сумасшедшем мозгу слово «бессмертие». Это слово, как искра, зажгло мозг человечества: вспыхнуло яркое пламя безумной надежды и горит, горит оно теперь и сжигает, коверкает жизнь, сжигает счастье людей. Оно обманывает, оно навевает сон золотой, но все-таки, господа, за этот сон не честь безумцу, а укор! Все религии построили свое учение на этом сне золотом; только буддизм сумел откреститься от него, да и то с грехом пополам! Сколько человеческих жизней – миллионы! – взошли на Голгофу из-за него! Сколько человеческих жизней, – самых, может быть, прекрасных, самых ярких, способных на подвиг, – замуровали себя в скиты, в монастыри, в пещеры, в леса! Сколько здоровой, творческой энергии, годной на создание счастья столетий, ушло с дороги жизни на какую-то окольную тропу, которая сбрасывала своих путников только в черную бездонную пропасть! И все почему? Потому что, как в свет солнца, как в теплоту солнца, поверили в слово! Вы только представьте себе: этого понятия нет на земле. Совсем бы иная жизнь была! Иная! А то – бессмертие! Французская булка стоит пятак, а бессмертие – три копейки. Ходи в субботу в баню, потом к всенощной, на четвертой неделе получи прощение грехов, а перед смертью помажь себя елеем, – и пожалуйте в горные селения! Облекайся в белые, как снег, ризы и венчайся короной бессмертия! Что же это такое, милостивые государи? Это бессмертие купцов Егоровых. А с другой стороны, за это же бессмертие люди – и какие люди! – шли на арену римских цирков, – люди с этакой силой, с этаким умением верить, сумевшие бы мир семь раз перевернуть! Шли, как перепела, на байку! А?
И вопрос Ярнова, казалось, врезался в воздух.
С земли послышался ответ:
– Видишь, Ярнов, – сказал чей-то глуховатый тенорок, – завернул бы и я тебе на это словцо, но, ей-богу, – вы простите, ваше пр-во, вы – наш гость, и я не должен был бы этого говорить, – но этого слова я не могу сказать не потому, что боюсь вас или стесняюсь, но когда я вижу ваш силуэт, ваше присутствие, оно не выходит из горла. Ну, как бы это сказать? Ну, – как вот о мокрую стенку нельзя зажечь спички.
– Я, господа, нечаянно попал к вам, – начал губернатор, – и, разумеется, сейчас уйду, не буду мешать вам. Я сам понимаю, – бормотал он, – понимаю…
– Спеть бы! – предложил с земли бас.
– Оно, конешно, самое лучшее, – подражая франтоватым парням, подтвердил кто-то с другой стороны.
– Фа-ля-до-о, – задал тон чей-то тенорок, и сейчас же кто-то из барышень сказал:
– Высоко, маэстро.
– Можно и пониже! – согласился дирижер, опять промурлыкал:
– Фа-ля-до-о! – и спросил – так ничего?
Кто-то, не выговаривая слов, попробовал так же и ответил:
– Так сойдет…
– А я бы, господа, – вмешался в разговор человек, до сих пор молчавший, – предложил не петь. Во-первых, пожар все-таки. Во-вторых – собор. Придут сторожа, поднимется ключарь, он вот тут поблизости живет, и пойдет канитель.
– А за нас его пр-во вступится! – ироническим тоном сказал студент, первый предложивший петь.
Студенты сразу примолкли; кто-то демонстративно, очень протяжно кашлянул, кто-то, тоже демонстративно, начал тянуть вино, чмокать и за каждым глотком говорить:
– Шашлычку бы!
– Вдруг какая-то фигура быстро поднялась на локте, заблестели в темноте желтые задорные глаза, послышался голос, в котором звучал затаенный смех:
– А вы это, господа, знаете? Сотворил бог Адама. Адам, конечно, был грузин. Ара, батона. Вот ходит по раю Адам грустный…
– Оставь, Смавский, – сказал кто-то…
Создалось неловкое молчание, чувствовалось, что, не за что ухватиться, не о чем говорить.
И снова заговорил Ярнов, обращаясь к губернатору: Видите, ваше пр-во, – сказал он, видимо охмелевший, и это «превосходительство» было почему-то особенно неприятно губернатору, – эта публика – все студенты. Эти вот барышни – курсовицы…
– Нельзя ли, Ярнов, без острословия? – кокетливо сказал из темноты женский голос.
– Курсовицы! – стоял на своем Ярнов. – Завтра все они и оне купят по зеленому билету за девять целковых и – тук-тук! поедут туда! – Ярнов махнул рукою налево. – Поедут на север дикий, туда, где теперь жизнь поставили на огонь, и начинает она закипать, закипать… И аромат от нее идет вкусный-превкусный… Где теперь… Ах! – И Ярнов запел вдруг напряженным вымученным баритоном, ударяя на о: «Когда б я знал! Напрасно жизнь и силу» – и потом вспомнил: – Да, да, – петь строжайше запрещено. Храм божий!.. Дому твоему подобает святыня… Да, да. А мы с вами, ваше пр-во, останемся здесь… Ну вот и решили посидеть вместе, благо теплый вечер… Купили у Попандопуло мозельвейну и приехали сюда на своих на двоих. А тут, как на грех, пожар запыхал…








