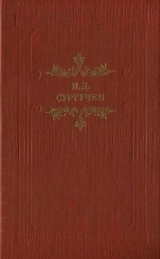
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)
– Давненько, брат! – ответил губернатор.
Опять, как световое пятно, родилась перед глазами далекая, давно пережитая картина: жаркий жгучий день; за день так надоели все эти докладчики, просители, хлопоты, разговоры по телефону, руготня, бумаги. Хочется пойти в сад; там широкая, почти черная тень, как будто земля сочно полита водой, – но нельзя; сейчас же на заборе появится огромный, похожий на теленка, лохматый пес, выгнет спину, как верблюд, и начнет скандалить. Гуляет по саду Свирин, кучер, работает на клумбах садовник, – ничего; стоит показаться губернатору – беда.
– А помнишь, – улыбаясь этому воспоминанию, спрашивает губернатор, – как мы с тобой соседями были?
– Помню, – односложно отвечает Ярнов, и видно, что и в нем ожили те же переживания, которые занимают губернатора: шире растет улыбка, дальше отодвигается опасливость и настороженность, с которыми он вошел в этот дом.
– А Жука помнишь? Этого окаянного, дрессированного? – спрашивает губернатор, и нет в нем ни болезни, ни тревог, ни дум, ни суровости: есть человек, который помнит жаркие дни, утомление, тенистый сад и неугомонного, своего неумолимого врага.
– Еще бы не помнить, – отвечает Ярнов. – Его и помнить нечего. Он и теперь еще благоденствует.
– Да не может быть! – изумляется и даже слегка вскрикивает губернатор, приподнимаясь с кресла. – Жук? Жив?.
– Жив, – говорит Ярнов, – только ослеп на один глаз. На правый. Но все равно: если вы наденете красные штаны, взвоет по-прежнему.
– И такой же по-прежнему толстый?
– Такой же! – охотно отвечает Ярнов. – Что ему делается? Теперь от скуки воробьев ловит. В том и жизнь состоит.
– Скажи на милость! – удивился губернатор, – Воробьев ловит, а? Чем занимается, старый черт!
Странное дело: откуда-то явилось желание показаться Ярнову суровым, гневным человеком, перед которым, бывало, его важный, надутый отец трепетал, как осиновый лист, – и губернатор, нахмурив одну, бровь, спрашивает:
– А за что же ты, братец мой, под надзор-то попал? За что в тюрьмах, как арестант, сидел? А? Не стыдно тебе? Ведь отец у тебя – действительный статский.
– Ну и пусть действительный статский, – отвечает Ярнов и, словно от тяжелого воспоминания, отворачивается к окну: какие-то угловатые, угрюмые тени легли ему, как покрывало, на душу.
«Должно быть, въелась в тебя в свое время эта действительная статскость», – думает губернатор, ярко представляет себе кудрявого, неумного, раздражительного чиновника, с тяжелыми, редко моргающими глазами, – и опять, стараясь быть суровым, спрашивает:
– Ведь университет-то окончить надо?
– На что? – отвечает Ярнов и пытливо, давно уже все решившими глазами смотрит на него. – Не надо.
Губернатор замолчал. Долго и внимательно прислушивался он к чему-то на улице, потом сразу повернулся к Ярнову и тихо сказал:
– Пожалуй, твоя правда. Я академию кончил, а вот, видишь, умираю.
От этих слов, – как будто где-то выстрелили, – Ярнов насторожился. Внимательно взглянул он на губернатора, как-то, видимо, сразу, в одно мгновение охватил его глаза, лоб, уши, странно прижавшиеся к черепу, руки, сложенные палец к пальцу, и опять встретился со старыми, потемневшими, углубившимися глазами и ответил:
– Вижу.
– Правда, видно ведь, что умираю?
– Правда. Видно, – равнодушно опять ответил Ярнов.
Губернатор подумал немного, дрожащей рукою потер по лбу и добавил:
– Вот то-то и оно. В Наугейме вот был. Лечился, – ничего, никакой пользы, – подумал, повертел пальцами и сказал. – Жарища там адская. Понимаешь? Градусов по 27 в тени. И это, брат, утром, часов в восемь. Беда прямо. Хоть караул кричи. Когда ходил в ванну, всегда на углу трех евреев встречал. Стоят с зонтиками и разговаривают. Каждый божий день! И черт его знает, о чем это можно каждый день разговаривать!.
Ярнов молчал. Ему было, видимо, скучно, и он подолгу смотрел то на письменный стол, то на печку с цветным кафелем, то на портрет Лорис-Меликова..
Губернатор сидел в глубоком плюшевом кресле, и пальцы рук его, ладонями приложенные друг к другу, заметно дрожали. То и дело проводил он ими по лбу, словно вытирая пот. Что-то, по-видимому, он хотел сказать, но не решался и, чтобы скрыть это от Ярнова, внимательно приглядывался к чему-то на улице, делал вид, будто там происходит интересное, занятное происшествие.
В Троицком соборе зазвонили к вечерне – значит, наступило четыре часа. Завтрашние именинники должны собираться в церковь.
День на дворе стоял ясный, тихий. Небо было еще синее; бульвар был еще зеленый, но уже веял откуда-то прохладный ветерок; вечера бывали уже холодные, и чувствовалось в этом, как аромат в дорогом вине, приближение осени, – осени в этих местах чудесной, нежной, похожей на загрустившую прекрасную, женщину. Всегда в августе, после того, как наступит четыре часа и в Троицком соборе зазвонят к вечерне, облака похожи на белые, важные, таинственные корабли. Плывут они куда-то друг за дружкой, как птицы осенью в чужие края, – плывут медленно, глядя на широкую землю, плывут бесшумно, как время, и немного, кажется, задумчиво.
– А я, брат, – потихоньку, как будто передавая секрет, большой и опасный, вдруг после долгого молчания заговорил губернатор, – вот теперь подолгу сижу здесь у окна и вспоминаю, как вы, детьми, бегали тут и мешали мне. А там, в зале, кто-то играет полонез из «Миньон». Играет, понимаешь, а сам, видно, тревожится, ждет чего-то, – важного письма, например. Сыграет тактов пятнадцать, дойдет до трудного места – и опять сначала. И, брат, становится обидно…
Ярнов удивленно посмотрел на него.
– Чего же вам обидно? – спросил он.
Так сразу стало ясно, что губернатор – теперь больной, одинокий старик, хилый и беспомощный, и уже не пройти ему больше по соборной площади перед войсками, уже не прокричать ему после молебна широкого, громкого и раскатистого приветствия, от которого загораются глаза и музыкантам хочется поскорее грянуть марш.
– А вот и сам не знаю, – ответил опять, словно по секрету, губернатор, – и сам не знаю. Письма вот пишут мне. Вот покажу тебе, какие письма.
Тяжело, по-стариковски, схватившись сначала за ручки кресла, он поднялся, пошел к столу; из бокового выдвижного ящика достал несколько писем в белых конвертах, с круглыми почтовыми штемпелями и подал их Ярнову. Тот, повернувшись к свету, начал читать. Первое письмо начиналось так:
– Издыхаешь, собака?
Дальше шли ругательства и проклятия. Писали, видимо, чиновничьи руки. Это чувствовалось и в конструкции предложений, и в манере расставлять знаки препинания. Ярнов читал строки, в которых до ужаса, видимо, боялись обнаружить почерк, в которых сквозил отчаянный страх быть узнанным и в то же время – неудержимое желание крикнуть от дикого восторга, растоптать чужой труп, осквернить ненавистную могилу, – читал и улыбался. Потом переложил – эти письма на окно и сказал:
– Ругают, а боятся. Почерки-то выворачивают. А когда вы умрете, то, вероятно, будут бояться вас и мертвого. И только писцы из губернского правления будут на пасху приходить к вам на могилу и христосоваться. Знаете, как христосуются с покойниками? Два человека катают по могиле друг против друга крашеные яйца, и один говорит: «Христос воскрес», а другой отвечает! «Воистину воскрес». И так до трех раз. А потом выпьют водочки и красные скорлупки бросят вам на памятник.
Ярнов оживился и с легкой, насмешливой улыбкой разглядывал губернатора.
– А какая же вы, в сущности, собака? – спрашивал он. – Семью вы разогнали. Ну? Никто вас не любит. И сидите вы вот теперь в вашем штатском платье. И жилет у вас вон уже не совсем чистый. И еще два дня вы носить его будете. А губернатору в грязном жилете ходить в высшей степени неприлично. И нужно вам какую-нибудь Мистификацию Ивановну.
– Какую Мистификацию Ивановну? – удивился губернатор.
– А это я так прачек зову, – ответил Ярнов, – московская привычка. У меня была в Москве прачка, рябая баба. Так, бывало, радуется, когда ее назовешь Мистификацией Ивановной. «Вроде как, – скажет, бывало, – опера».
Губернатор поморщился, словно хотел рассердиться, но это чувство, видимо, не задержалось в нем; он притронулся к рукаву Ярнова и спросил:
– Слушай, Вася. Вот ты учился в университете, жил в Москве; скажи, пожалуйста, ты бывал у них на Никитской?
– Бывал, – ответил Ярнов.
Глаза губернатора блеснули. Быстрым, неожиданно сильным движением он придвинул кресло к Ярнову и со страшной жадностью скорее все узнать, все спросить о том, чем он не интересовался, о чем не думал целых одиннадцать лет, заговорила:
– Вот и отлично. Вот и отлично, что ты бывал у них. Ты, брат, прости, что я зову тебя на ты. Ну какой же ты для меня – вы? Ведь тебя еще вот такого пильзенским пивом поил. Ну, скажи же мне, как они там, в Москве-то, живут? На Никитской?
– Да что ж я вам скажу? – спросил Ярнов.
– Ну как что? – губернатор опять заволновался, опять двинул креслом так, что его колени коснулись Ярнова. – Как они там живут? Какая у них квартира? На Никитской?
– На Никитской, – ответил Ярнов, высоко поднимая брови и наморщивая лоб, – да что ж? Живут они хорошо; квартира у них небольшая, четыре, кажется, комнаты. – Ярнов подумал, мысленно сосчитал и сказал: – Ну да, четыре. Комнаты хорошие, просторные. Три женщины – три комнаты. Одна – общая: тут и столовая, и гостиная, и приемная. Тут и пианино стоит. Народ у них всякий бывает. У Кати жених есть, чиновник какой-то судейский, с законом на кокарде. Ну-с? Еще что? – и Ярнов припоминал, – Писатели к ним захаживают; сидится у них хорошо, уютно. Катя – красивая. Высокая такая, стройная. С карими глазами, умными такими, холодными. Хотела поступить на драматические курсы, но потом раздумала. Занимается фотографией.
Губернатору почему-то было приятно, что Катя умная и холодная и что на драматические курсы она не поступила.
– Ну а жена как? – торопливо спросил он, и голос его дрогнул: сейчас же стало ясно, что об этом не нужно было заводить речи. Он знал наверное, что тогда же, после отъезда из города, у ней все было кончено с любовником, помещиком Броцким. Броцкий приезжал в Москву; у них произошло какое-то объяснение, после которого он уехал, а с тех пор, за все одиннадцать лет, ни разу там не показывался.
– Да что ж? – опять поднимая свои полукруглые, густые в начале и тонкие в конце брови, ответил Ярнов. – Живет…
– Постарела? – тихо спросил губернатор.
– Есть этот грех, – не сразу, с какой-то укоризной сказал Ярнов. – Голова поседела. И глаза у нее всегда печальные, не улыбающиеся..
– А красивая? – опять тихо спросил губернатор. – По-прежнему?
– Красивая… Высокая такая, стройная, строгое лицо, – похожа на французскую императрицу.
И сразу в душу вошло утомление. Ослабли и опустились напряженные руки. Медленные, круто и больно поворачивающиеся круги заходили в голове, и нужно было прислонить ее, чтобы легче, дышалось, к верхушке кресла. Опять перед глазами заструился выходящий из земли густой серый туман, и хотелось, чтобы появились в комнате большие крылья и скорее разогнали его, чтобы опять можно было смотреть ясными глазами, чтобы скорее застыли в них постыдные, неожиданные слезинки, – и не было сил оттолкнуть назад, к окну, кресло.
«Высокая такая, стройная; Похожа на французскую императрицу, – бесконечно, как близкий звон, и беспрерывно звучало в ушах, – высокая такая, высокая такая… На императрицу… На французскую императрицу…»
Чтобы отогнать от себя эти навязавшиеся слова, губернатор опять начал думать о том, как, хорошо, что Катя не пошла в актрисы: сейчас же вспомнился целый ряд антрепренеров в смокингах, гордых актерских лиц, принужденных, бывало, идти в губернаторскую канцелярию и, краснея, еле слышными, лепечущими фразами просить восемнадцать рублей на выезд из города, – прекрасных, грустных, талантливых женщин, живших поневоле на содержании у купцов с корявыми лапами.
– Ну а Соня? – спросил губернатор через силу, чтобы не выдать охватившего его волнения, и когда открыл глаза, то увидел, что Ярнова в кресле уже нет, а ходит он гулкими, крупными шагами по кабинету, как-то странно раскачиваясь, согнувшись, заложив руки в карманы, и лицо у него, все время холодное, спокойное, слегка ироническое, вдруг завяло, обвисло, и казалось, что щеки опустились, как легкие, колыхающиеся при движении мешки.
– Ну а Соня как? – повторил свой вопрос губернатор.
– Я уже сказал, как! – раздражительно ответил Ярнов…
Губернатору показалось странным это непонятное, сразу откуда-то появившееся раздражение, и он спросил:
– Чего ж ты сердишься?
– Я не сержусь, – более мягко и примирительно ответил Ярнов.
– А Соня – красивая?
– Красивая! – недовольно буркнул Ярнов.
– Карточку она мне свою недавно прислала. Как раз перед отъездом в Наугейм. Большая уже. Невеста. В длинном платье.
Губернатор поднялся с кресла, не сразу нашел в карманах ключи, подошел к столу и из того же ящика, из которого доставал, чиновничьи письма, вынул кабинетную карточку, завернутую в прозрачный конверт.
– Вот посмотри-ка! – сказал он, протягивая Ярнову карточку. – Похожа?
– Похожа! – не глядя на портрет, опять недовольно буркнул тот.
– Что за черт! – подумал губернатор. – Чего он злится? И вдруг все стало ясно. Голубоглазая девушка. Длинноносый студент с угловатыми плечами. Частые встречи, уютные комнаты, кругом все полно женским обаянием.
«Эге! Вот оно что!» – подумал губернатор и опять, уже с затаенной мыслью проверить предположение, сказал:
– Да ты на карточку-то посмотри. Что ж ты, не глядя, говоришь – «похожа».
Ярнов досадливо сделал крутой поворот, мельком взглянул на портрет, который губернатор держал в руке на далеком расстоянии от глаз, и по-прежнему пробормотал:
– Похожа! Очень! Весьма!
Губернатор молча вложил карточку в конверт, опять спрятал ее в стол и щелкнул ключом.
Медленно, протяжно в надтреснутый, печальный колокол зазвонили к вечерне в армянской церкви, – там, где-то за бульваром. Это значило, что наступило пять часов. Скоро что-то дрогнет в воздухе, и начнет умирать день, миллионы лет ждавший своего рождения.
Ярнов собрался уходить и искал, в каком углу он поставил палку. Губернатор заволновался. Все время он чувствовал, что его охватывает какое-то не вполне уяснимое, но острое, захватывающее дух и мысль желание: оно приближалось к сердцу, сокращало его больные, нервные движения и мучило, и радовало, и волновало. Ярнов, беспокойно прищурив близорукие глаза, искал палку, и губернатор молил бога, чтобы она подальше куда-нибудь запропастилась. Что-то нужно было делать сейчас же, безотлагательно, – иначе все пропадет; о чем-то нужно было просить этого человека с серыми глазами, у которого, теперь ясно, что-то было с Соней: наверное, она не полюбила его.
– Ну, я пошел! – сурово сказал Ярнов и протянул руку. – Шестой час уже. До свидания, ваше превосходительство. Желаю вам..
И опять завертелись в голове медленные, круто поворачивающиеся круги, и опять потянулся удушливый, вяло, ко густо поднимающийся туман, и как то сами собой пошли мелкие, просительные слова, которых никогда, ни разу в жизни, не говорил и не произносил губернатор.
Ярнов сначала не разбирал его задыхающихся фраз, но потом, когда первое, самое острое волнение прошло, стало слышно, как просит старик:
– Напиши, что умираю, что скоро конец, что я ничего не прощаю себе, мучаюсь. Пусть придут сюда. Ты понимаешь меня? Пусть придут сюда, ко мне. Мне вот хочется, чтобы играли на рояли, а я бы издалека, вон оттуда, из сада, слушал. Я, – оживленно приближаясь к Ярнову, дыша ему в лицо, заговорил губернатор, – я в отставку подам, поедем в какое-нибудь имение, – знаешь? Такие бывают в Орловской, Тамбовской губернии. С садом, со старым домом. Поедем и ты с нами. И Жука прихватим, а?
Лились сами собой долгие, накопившиеся слова, поднимавшиеся с какого-то незнаемого, черного дна, и когда губернатор открыл глаза, то увидел, что он держит Ярнова за руку, а тот смотрит в окно, и серые, большие, прежде всего заметные в нем глаза думают.
– Напишешь? – спросил губернатор.
Ярнов еще помолчал; было видно, как глаза его за чем-то проследили на улице и медленно повернулись направо.
– Напишу! – тихо ответил он.
Губернатор выпустил его руку.
Когда Ярнов пошел и был уже в коридоре, губернатор что-то вспомнил, не ступая каблуками, перебежал по комнате и крикнул ему вслед:
– Скорее напиши!
Странно, отдаваясь эхом в гулких комнатах, прозвучали эти слова. Губернатор прислушался к далеким, уже замолкающим шагам. Они у всех и всегда исчезали одинаково: сначала громкие и отчетливые, потом стихающие в зале и еле слышные, совсем в один тупой, сплошной звук слившиеся в коридоре.
VI
В этот день приезжал еще вице-губернатор, молодой человек в белом жилете на слегка располневшем животе. Вице-губернатор делал все время вид, что очень рад приезду губернатора; говорил, заикаясь и глотая слова, о том, что без него ему по неопытности было трудно управлять губернией; передавал приветы от жены, а в глазах все время неотступно скользила и жадными блестками играла мысль: «Конечно, у жены – большие связи, и я выйду в люди; но как мне хочется этого поскорее! Ты уже стар, тебя за твою службу любят и ценят в Петербурге. Сам министр пишет тебе собственноручные письма и спрашивает советов. Если бы ты захотел, то давно бы управлял большой губернией и получал бы в год восемнадцать тысяч. Но ты стар, скоро умрешь, и тебя ничто уже не интересует. Помоги же мне. Дядюшка, заседающий в Совете, скажет свое слово, а ты скажи свое. Скажи, что я мастер управлять губерниями, что у меня – большой административный талант и опыт, и что по моим заслугам мне давно бы пора дать самостоятельную должность».
Вице-губернатор долго говорил о том, какие меры принимались за лето для предупреждения эпидемии; что в Ивановском уезде выяснился полный неурожай; звал в кинематограф «Рококо», где демонстрировались виды Сорренто.
– П-п-превосходные виды! – говорил вице-губернатор, и от напряжения, с которым, выговаривал трудное слово, краснел, конфузился и, чтобы не заикаться, ел из красной коробочки какие-то продолговатые, с печатными словами лепешки. Лепешки эти, которые он всегда носил в жилете, давали ему возможность говорить некоторое время не заикаясь; тогда он подтрунивал над собою и рассказывал о каком-то профессоре, у которого ему пришлось учиться в университете.
– Я заикаюсь в начале слова, – говорил вице-губернатор, – а вот тот заикался в конце. Бывало, скажет фразу: «будем продолжать» и не остановится; «жать, жать, жать…»
Было приятно слушать рокочущий баритон вице-губернатора: Было приятно, что совсем не нужно стараться понимать его: пусть говорит. Было хорошо сидеть и думать о том, как прелестна земля и вечер, зеленый, уже умирающий бульвар. Шли думы о том, что если права религия, то душа после смерти будет три дня витать около тела, вот по этим комнатам, – будет она грустна, печальна и впервые увидит того человека, в котором жила столько лет. Душа человеческая всегда представляется в виде женщины, сотканной из матового, похожего на туман воздуха: глаза у нее большие, неуловимого цвета, и волосы длинные, густые и мягкие, рассыпаны по прекрасным плечам. После трех дней придут ангелы, возьмут ее под руки, поведут по мытарствам, и увидит она за сорок дней все грехи своей жизни, вольные и невольные. Потом поведут ее на поклонение к богу. Бог будет сидеть на престоле. Несомненно, он улыбается, когда к нему на поклонение приходят души людей, которым на земле очень хотелось быть губернаторами…
Часов около девяти, когда начала всходить луна и по городу – по крышам, церквам и тротуарам – поползли странные, осторожные, что-то замышляющие тени, губернатор взял Свирина и пошел с ним на гору, к кафедральному собору. Давно он слышал, что оттуда открывается чудесный вид на город, но все как-то, за всю жизнь, некогда было сходить и посмотреть, да и неловко, казалось, заниматься губернатору рассматриванием видов.
Потихоньку, чтобы не беспокоить сердца, шли они по бульвару. Бульвар был большой, в несколько расходящихся аллей, темный, пустынный. Город закрывал свои магазины, тушил огни, уходил в театры, кинематографы, а на бульвар сходились осторожные парочки, садились на низеньких скамьях, стараясь спрятаться от лунных пятен, шептались о любви и крепко, беззвучно целовались.
Чтобы попасть на гору, нужно было свернуть с бульвара и пройти мимо электрической станции. Остановились пред ее огромными, разделенными на квадраты крупных стекол, окнами. Станция была ярко и ровно освещена синеватым светом; блестели части машин, вертелись ремни, ухал расходившийся и, казалось, почему-то на черного медведя похожий, мотор. Сидели двое рабочих в неподпоясанных блузах: один, опершись на руку и заломив голову вверх, спал, а другой, перегнув газету на восемь частей, читал и ел хлеб.
Пошли дальше, попали опять в темноту, спотыкались о какие-то камни, и тут заговорил Свирин, на этот раз уже сурово, тоном осуждения:
– Вот еще не могу я понять телефона! И как это так сделано, – ума не приложишь! Мне сказывали, что от телефона может у человека грызь приключиться.
Направо от тротуарчика, по которому они шли, был парк; в нем по весне бывает много соловьев; в кем, около каменной беседки, отравился нашатырным спиртом секретарь, городской полиции, обвиненный в растрате.
Налево, через широкую дорогу, помещалась и сама полиция. В одном окне, во втором этаже, горел свет, но этакого не было видно. На каланче всегда, и днем, и ночью ходит дежурный солдат и посматривает на город. Затем начиналась широкая площадь, и в конце ее стоял белый, от луны издали кажущийся горбатым, собор.
На этой площади губернатор принимал парады в царские дни. Тянется, бывало, молебен, гнусавит что-то славянскими словами Герман, в своем круглом облачении похожий на позолоченную заряженную пушку; в высоком соборе с чугунными выпуклыми плитами вместо пола сыро, зябко, – и чувствуется, что там, на площади, ярко и тепло; собрались солдаты, лежат на траве блестящие трубы, в козлы составлены ружья.
Но вот затрезвонили, – все бросились, на свои места:, на левом фланге обвились на солдатских плечах, как змеи, огромные, к концу расширяющиеся геликоны: длинной шеренгой, как по линейке, развернулась человеческая ровная цепь; вытянулись около своих частей изящные офицеры; потеет, держа рапорт за поясом, толстый, перетянутый шелковым поясом, командир.
Хорошо тогда выйти из собора, прищуриться от теплого солнца и твердыми, начальническими шагами, натягивая на руку узкую перчатку, чувствуя себя на глазах густой, привыкшей к будням толпы, – направиться к фронту, принять, не читая, рапорт от вытянувшегося по швам полковника, потом, со свитой позади, обойти линию и громко, с торжественными паузами выкрикнуть приветствие войскам.
Прогремит солдатский гортанный, слившийся в один неразборчивый звук, ответ, загремит всегда нетерпеливая музыка, сольется с ней бесконечный крик, раздастся теноровая команда на церемониальный марш: хорошо тогда вскочить в коляску, блеснуть на солнце бриллиантами орденов и на мягких, чуть слышно подпрыгивающих шинах, в пальто, небрежно накинутом на одно плечо, с оттопыривающимися эполетами, – поехать домой, обгоняя пестрые, облитые утренним еще солнцем, группы женщин, почтительных, низко кланяющихся людей, и слышать вслед:
– Губернатор! Губернатор!
Бывало, всегда жаль черного Германа, который в запертой карете, как в большой коробке, тихонько слет в свое роскошное, но угрюмое и молчаливое монастырское подворье.
Теперь по этой площади, часто видавшей его таким блестящим и нарядным, тихо, опасаясь за больное сердце, идет губернатор в штатском платье, Которое делает его как будто ниже ростом. Сзади него осторожно шуршит тяжелыми сапогами тоже что-то вспоминающий, что-то сосредоточенно обдумывающий Свирин.
Когда подошли к собору близко, то он, освещенный с юга месяцем, перестал казаться горбатым и выглядел молодым и новым.
На лестнице колокольни, около сигнальной проволоки, сидел задремавший сторож.
Окна собора, высокие, византийские, заделанные узорчатой, кружками, решеткой, были так странно освещены, что казалось, оттуда, изнутри кто-то смотрит; пришла мысль, что если лунным предосенним вечером долго смотреть на тихую, молчаливую церковь, то можно – поверить, неожиданно и легко, в божье бытие.
– Где же гора? – спросил губернатор.
– А вон там. Через ворота пройти, – ответил и указал прямо Свирин.
Пошли через ворота. Зашуршала суховатая трава. Что-то белое, как широкий столб, вырисовывалось на темном фоне. Это было неожиданно и почему-то жутко. Губернатор остановился и, стыдясь своего внезапно явившегося волнения, спросил:
– А это что такое?
– Где? – спросил, тоже что-то разглядывая, Свирин.
– Да вон прямо, белое.
– Ах, это! Свирин сразу догадался и объяснил: – Это памятник на могиле полковника Белогривова. Во время покорения Кавказа зарезан был. Туземцы, татарва, на сорок частей его рассекли и собакам бросили. Ну вот потом косточки собрали, привезли сюда, – он уроженец здешний, – похоронили вот здесь, на самом видном месте… Крест поставили.
– Крест? – с каким-то тревожным, внезапно родившимся чувством спросил губернатор и слегка отшатнулся назад.
Свирин в темноте не заметил того движения и спокойно пояснил:
– Ну да, крест. Самый обыкновенный. Рублей сто восемьдесят стоит.
– Рублей сто восемьдесят, – повторил механически губернатор.
– Не больше, – сказал Свирин, – мраморный он, но, по-моему, фальшивого мрамора. Жилка в нем не настоящая. Полковнику можно было бы и получше. Герой! На сорок частей расхватили. Св-волочь народ!
Дрожали ноги. Стоять было тяжело. Губернатор, чувствовал, что он первый раз в жизни переживает это странное, о чем-то догадывающееся чувство. Откуда оно? Почему? Нельзя объяснить. Нужно было идти вперед, а ноги не двигались… Хорошо, что стояли в тени, которую давали широко свисавшие через каменный забор, тихо шелестящие сонные деревья.
– Крест… – вертелась в голове все время, как вода, ускользающая мысль, – крест…
– Подойдем туда? – своим ясным, грубоватым голосом спрашивал около самого уха Свирин. – Там скамеечка есть. Со спинкой. – И с улыбкой добавил: – обыкновенно здесь возлюбленные ютятся. Как тараканы, смотришь, по вечеру сидят. Ну, а теперь время видное, луна, – ну, вот на бульвар пошли. Там пониже, потеплее… Люди-человеки!
Каким-то чудом сделала первый шаг правая нога, и, пока подошли к кресту, показалось, что прошли много верст, самых утомительных. Хорошо было сесть на скамейку, правда, удобную, с отлогой спинкой. Можно сидеть не согнувшись, а откинувшись назад и смотреть прямо на торжественно освещенное небо, похожее на мантию царя, который хочет завоевать всю землю.
Губернатор сидел один: Свирин устроился где-то позади, у памятника, на ступеньках, и был не виден.
Невольно, сами собой, слились в одно целое, неразрывное два слова, – одиннадцать лет, никогда не теряя своей свежести, живущие в памяти, заполонившие ее одной думой, – два слова, робко, чуть слышно когда-то сказанные в сумерки, – сказанные туда, вниз, на тротуар, какому-то ожидающему человеку:
– На горе, у креста…
«Вот она, гора. А вот и крест», – сами собой шептали губы, – «вот она, гора. Вот он, крест», – тихо повторялись, Как эхо, эти слова в мозгу, в сердце, во всем существе, во всех прожитых днях и ночах, во всех думах, во всем озлоблении, которое не уходило из души за эти одиннадцать лет. Создалась новая фраза, – горькая, вопрошающая, укалывающая, как жалом.
– Так, значит, здесь? На этой горе? У этого креста?..
И образ стройный, который вырастал перед закрытыми глазами, образ обаятельный, который так тогда обидел душу, образ, похожий на французскую императрицу, спокойно, как в ту последнюю ночь, одиннадцать лет тому назад, любуясь своим спокойствием и презрением, ответил:
– Да, здесь. Вот здесь. На горе у креста…
Стала ясной и близкой истина, – вся, как в больших томах мудрости, заключающаяся в звучном, коротком, пятибуквенном слове.
Губернатор потихоньку открыл глаза и посмотрел вокруг себя: много справа и слева деревьев, сзади – крест и собор; прямо, шагов через двенадцать, – обрыв, вероятно, глубокий, потому что маленьким кажется там, внизу, расположившийся город.
Неизвестно почему, но сразу пришло в голову, что в то время, когда его жена ходила сюда на гору, к кресту, для свиданий с Броцким, тогда не было электрической станции, которую построили семь лет тому назад: на ее месте был в то время пустырь, заросший лопухами. Не было, вероятно, и этой скамейки: эта скамейка новая, крепкая, поставленная весной, в марте, когда везде в городе выставляют зимние рамы, привешивают у ворот скворечни, открывают к благовещению пчел, рыхлят в огородах землю…
Сделалось необходимо нужным, существенным убедиться в этом сейчас же.
– Свирин! – опять, закрывая глаза, говорил губернатор.
– А? – слышится ответ.
– Поди сюда…
Зашуршала трава. Крякнув, поднялся Свирин, отряхнул, слышно, пыль с колен. Подошел. Стоит близко, ждет.
– Посмотри-ка, – сказал губернатор, стараясь быть небрежным. – Эта скамья, на которой я сижу, новая?
Свирин наклоняется, сопит, рассматривает скамью, хлопает ее ладонью, пробует покачать – и после тщательного, напряженного исследования недоумевающе отвечает:
– Новая! Совсем новая!
По тону, по голосу слышно, что он ни о чем не догадывается, и это радует. Радует, что человек во всем этом огромном, широком мире может, если захочет, остаться один, и никто, никакая власть, никакая сила не сможет заглянуть ему в душу. Свирин, например, стоит и старается узнать, почему задан этот вопрос, – сумеет ли догадаться, почему?
– Новая? – опять спрашивает губернатор.
– Но-овая! – с сознанием правоты отвечает опять Свирин.
– Больше ничего. Ладно. Иди, – говорит губернатор.
Свирин, видимо удивленный, идет на прежнее место, садится на ступеньку и закуривает. Слышно, как одну за одной портит он быстро вспыхивающие, на ветру гаснущие спички и с мешающей папиросой во рту, издали, не особенно разборчиво и нараспев, еще раз заявляет:
– Сосновая скамейка.
В голове его что-то, видимо, проносится, что-то вспоминается далекое и прожитое, – быть может, молодость, высокие российские леса, широкие реки, которых нет в этом крае, – и он, словно мечтая, как-то особенно выговаривая, какою-то теплою лаской поглаживая слово, как ребенка по головке, сказал еще раз:
– Из сосенки.
VII
Когда губернатор открыл глаза, луны уже не было, и только по небольшому кругу, мерцающему в темноте, как фосфорическое пятно, можно было видеть, что спряталась она в том месте, где были молоканские хутора.








