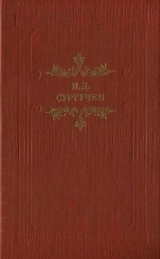
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Маруся! – задыхаясь, спрашиваю я и беру ее руку. – Смотри мне в глаза… Прямо в глаза!.. Помни, что я знаю: ты утром получила письмо… Ну, теперь – скажи мне еще раз: ты любишь меня?..
Она долго смотрела на меня и… улыбнулась…
И я слышал… Слышал… И бессильный, счастливый, напоенный радостью, как солнцем, – я опять опустился на подушку…
– Ну, а скажи мне, – проговорила она, – ты на кого похож: на отца или на мать?
– На мать…
– Значит, будешь счастливый…
– Ну, еще бы!
– Ну, вот… Ну, а теперь прощай… Прощай!..
Я обвил ее шею руками и прижал к себе. Полегоньку, нежно, высвободилась она, поправила волосы и шапочку и пошла к двери. У самого порога остановилась и оглянулась.
– Спи! – чуть слышно сказала она и прижала к губам палец, – Прощай! Л ну, зажмурь глаза: я погляжу, как ты спишь… Ага, вот так… Какой смешной! Ну? – и она несколько секунд помолчала. – Прощай, мой дорогой! Прощай!
И я слышал ее легкие шаги в коридоре, лязганье крючка у двери, – слышал, как она что-то сказала Дарьюшке и та ответила: «Ладно, ладно, барышня!» И чувствовал я, когда она проходила мимо моего окна, – она посмотрела на него, улыбнулась и сказала ласково, как мать:
– Спи!
И снова дремота охватила меня: я захотел хоть в грезе еще раз увидеть ее, Марусю, – а какими-то неисповедимыми судьбами очутился на воздушном шаре, над океаном, в океане плывут на обломках мачт, на перевернутых лодках, на бочонках люди, потерпевшие кораблекрушение, и кричат мне: «Спаси нас, спаси! Возьми нас к себе!»
А я беспомощно развожу руками и отвечаю:
– И рад бы в рай, да грехи не пускают! Этот окаянный шар не слушает меня и не хочет спуститься! Но вы, ребята, не унывайте!.. Вон на горизонте идет корабль – он спасет вас… И вы вернетесь в свои семьи и будете целовать ваших детей… Да, да, – не вертите, пожалуйста, головами, а слушайте, что вам говорит порядочный человек: идет корабль! И привезет вас туда, где вас ждут ваши милые дети: мальчики и девочки…
X
Весь этот день был какой-то особенный: радостный и тревожный… Хотелось петь, работать, писать домой хорошее ласковое письмо. Накупил смешных открыток и отправил их Петьке, нарочно поддразнил его тем, что в Петербурге уже роскошный лед, на катках играет музыка, а среди катающихся есть такие искусники, что пишут на льду вензеля и танцуют мазурку… Кстати: непременно нужно будет и самому заняться этим спортом, и Марусю научить…
Был в университете. Как я люблю этот длинный, светлый коридор, в котором всегда так молодо, так весело, так шумно и так тесно… Встретил Славова: стоит и с серьезнейшей миной читает объявление какого-то землячества.
– Слушай, – говорит, – где ты пропадаешь? Ни в «Маньчжурии» тебя не видать, ни у Гусевых.
– Дела во, по горло, брат. Занимаюсь, к зачету готовлюсь.
Славов вынул какой-то инструмент и начал чистить ногти: еще в гимназии у него была мечта иметь аристократические ногти.
Счастливый! А я вот, понимаешь, проигрался в пух и прах. Шурка три креста вперед давал и все-таки выиграл. Он, подлец, за лето в своем Белгороде насобачился, и теперь житья нет православному народу. С маркером, понимаешь, так на так играть берется… Каково?..
И Славов делал круглые глаза.
…Давно уже смеркалось, шестой час идет, а Маруси еще нет. Я хожу по ее комнате и жду. Вот комод, вот стол, книги. Так же, как и у меня, висят юбки, кофточки… Ее умывальник, мыло, – недавно начатое, с чуть стершимися буквами. Полотенце с кружевной оборкой, хорошей тонкой работы, буквы «о» и «с», – почему же не ее инициалы? Это меня заинтересовывает и даже немного тревожит.
Слышу, как в хозяйской комнате пробило семь, потом половила восьмого. На улице и в окнах магазинов давно уже горят огни. Ко мне приходила Дарьюшка, – ей, видимо, скучно, и лень, для нее совершенно необычная, чувствуется во всех ее движениях: должно быть, кости ломит.
– Что ж впотьмах-то сидишь? – спрашивала она. – Самовар ставить надо бы… Нету барышни-то…
– Нету! – отвечал я. – Пусть уж будет восемь… Авось подойдет…
– Засиделась, поди, где-нибудь…
– Да, конечно…
Дарьюшка начинает зевать и крестить рот. Сейчас начнутся воздыхания о грехах.
– Нравится тебе барышня-то? – спрашиваю.
– Ндравится, очень! – тепло говорит Дарьюшка. – Прямо редкая барышня! И тебя любит… Очень, ей-богу!.. Утром-то уходит и говорит: «Вы уж не будите его, Дарьюшка». Это тебя-то, лешего… «Пусть, грит, поспит…» Ну, пусть, думаю… Да-а… Там сахар у тебя вышел… Купить бы пока что, а то ведь лавки-то запрут, будешь чай несладкий пить…
…А что, если все, что было, – шутка, каприз? Что, если она все-таки, несмотря на все уверенья, любит малюсенького?.. И слезы подступают к горлу, и дышать становится мне трудно.
Против моего окна горит газовый фонарь, и светлая полоса простыней легла на пол комнаты, задела стол, угол какой-то книги, ножку дивана. Заиграл на цитре Аким Исакыч. Принесли мне письмо. Долго держал его в темноте, – и руки дрожали: не от Маруси ли? Потом чиркнул спичкой, посмотрел на адрес: из дому, рука отца. Зажег свечу. Рассеянно пробежал по кривым строчкам. Пишет старик: «все благополучно, желаю тебе быть здоровым, в делах твоих – скорого и счастливого успеха, все дома живы и здоровы, в городе – новость: чуть не подрались на дуэли Абрамов и Санденцкий, поссорились на любительском спектакле у Евдокимовых. Вторая новость: в архиерейской церкви повесили новый колокол, весом 553 пуда, гудит на весь город и даже, уверяют, в Михайловне, за 8 верст, слышно»…
И опять пришла Дарьюшка.
– Ну, голубь, – сказала она, – будешь пить чай – пей, а то я спать лягу… Знать, заночует где-нибудь барышня-то…
– Спи!
Ночь. А Маруси еще нет.
Я опять иду в ее комнату, стою возле стола и говорю:
– Маруся! Милая! Я люблю тебя. Ведь только же утром, сегодня, ты целовала меня! Где ты? Неужели ты забыла меня? Неужели ты теперь смеешься надо мной?
У меня звенит в ушах, а это, по приметам, значит, что кто-нибудь думает в эту минуту о тебе.
Темно. Квартира спит. Даже у Акима Исакыча пропала под дверью светлая полоса: он ложится позже всех. Один я хожу и думаю: вот звякнет звонок и придет она, раскрасневшаяся, здоровая, – и скажет мне, бледному, измученному:
– Ну, вот и я. Здравствуй, мой дорогой! А я где бы-ла-а… И протянет это: «была-а…»
И вспоминается мне почему-то ее вопрос: «Ты на кого похож: на отца или на мать?» Вспоминаются ее глаза, горевшие так, как никогда не умеют гореть синие, лучистые…
…Рассвет. Медленно, медленно, как бледный цветок, разворачивается из темноты утро. Погас фонарь на тротуаре, и комната сделалась серой. Опять у порога стоит Дарьюшка и широко зевает:
– Да ты не раздевался, что ли? Дурашка! Перестань, выкинь из головы думы-то! Ну, заночевала у подруги, – что за беда! Какой вы, ей-богу, народ, мужчины… Хотите, чтобы стой вот перед тобой, как лист перед травой… И гляди в твои шары… Да… Спят еще все: давать самовар аль погодить?..
И опять день, – солнечный, яркий… Идет снег… Извозчики на санях, и верхи их шапок запушены белым…
Заходил Славов… Звал в «Маньчжурию».
– Маруся! Где же ты?..
Вот опять ползет вечер, и опять будет ночь, длинная, как перед казнью…
И опять утро…
Из зеркала глядит на меня чье-то чужое, постаревшее лицо, с широко открытыми, неморгающими глазами… Обострившийся слух слышит каждое движение, каждый шорох в квартире.
– Надо полиции заявить: пропала Марья Константинов-на-то, – в коридоре хозяйка.
– И куда это она? – горюет Дарьюшка.
– Вещи, все-таки, – продолжает хозяйка, – как-никак… Оно, конечно, может, и уехала куда, а может, и случилось что… Оформить дело нужно…
Перед вечером она надела шубу, шапку, натянула вуаль, пошла, проходила минут сорок и, вернувшись, сказала:
– Фу! Запыхалась! До участка-то далеко, а в участке народу – пушкой не пробьешь… А тут еще суета: какого-то генерала, сказывают, в городе убили… Ну покамест туды^ сюды, – околоточный сказал: «хорошо… дело видно будет…»
…Затоптались в коридоре… Какая-то толпа… Какой-то голос…
– Здесь жила Ольга Солнцева?.. Ольга Петровна Солнцева?
Испуганная хозяйка отвечает:
– Никакой у нас Ольги Солнцевой, ваше благородие, нету. Вот здесь из типографии живет, здесь – студент Императорского университета, здесь вот – барышня Марья Константиновна, исчезнувшая… Больше никого нет…
– Марья Константиновна! – грубо передразнивает ее тот же голос. – Хорошая Марья Константиновна, чтоб ее…
– Ничего в комнате не трогали? Все как было?
– Вот вам святой крест… Ни-ни… Ни капельки… Как ушла, прислуга, конешно, прибравши комнаты, постель. Прислуга у меня старая, Дарьюшка, – вот она…
– Птичку вы у себя держали!
Зашумели в Маруси ной комнате…
– Ага! – заговорил какой-то до сих пор неслышный тенорок. – Чаек это у ней, сахарок… Посмотрите-ко, Евграф Иванович: чаек это у ней, сахарок…
– Удивительно! – иронически отвечал первый голос. – Какое открытие важное сделали! Чаек, сахарок… Дворник! Корзину вон ту из-под кровати выволоки! Да осторожнее, остолоп! Потому там такое может быть…
– Ваше вышескородие! – залепетал чей-то голос. – Я боюсь, ей-богу, боюсь… Ваше вышескородие! Пусть лучше человек, который опытный…
– Ермолов! Вытащи корзину!
– Вы говорите, Евграф Иванович, открытие, чаек-то… А вот посмотрите: чаек-то пьют, а иконы не видать… Пожалуйста, уж вы, Ермолов, поосторожнее!
– Ермолов! Скотина! Осторожнее!.. Что вы, в самом деле, господа, только что родились, что ли? Пе знаете, как за дело взяться?
– Я так полагаю, Евграф Иванович, что удачный выстрел этой женщины вовсе не результат умения… Просто случайность. До поступления на полицейскую службу я служил в тридцать восьмом пехотном полку, и у на!с…
– Слышали батюшка, слышали! Служили вы в тридцать восьмом полку и продолжали бы служить, спокойней было бы… А то понесло вас в полицию… Найдется вот такая стерва и отправит вас без очереди к Аврааму, Исааку и Иакову… Слушай, ты, борода! А рядом кто живет? Дворник! Тебя я спрашиваю или нет?
– Рядом-с?
– Да, рядом-с.
– Студент-с Иволгин…
– Ага!.. А ну-ка, госпожа хозяйка, пожалуйте сюда, на сцену!..
– Да я что же? – залепетала Анна Сергеевна. – Я же здесь при чем?
– Да вы, почтенная мадам, не дрожите… Вас мы вешать не собираемся, обиды вам причинить не причиним, – повесьте, значит, ваше сердце на гвоздь терпения и благоволите отвечать на мои вопросы, – вот вся ваша задача… Итак, – девица эта, здесь жившая и Марьей Константиновной себя именовавшая, вела знакомство со студентом Иволгиным?
– Вела-с…
– Вела-с… Ну, тэк-с… Осторожно, Ермолов… Отмычкой попробуй… Ну вот… Ты, борода! Тебе я говорю или нет? Паспорт его, этого самого студента, явлен?
– Обиждать изволите, ваше высокородие! У нас насчет этого насекомая муха и та, скажем, не пролетит. Мы завсегда, со всем усердием то есть… А особливо насчет студентов и продчее…
– То-то «и продчее»! Уследил вот здорово! Поменьше бороду свою расчесывал бы, – а то ишь веером-то распустил… Как генерал какой! Нажрал морду-то! «И продчее!» Всыпать бы тебе горячих штук с полсотни, тогда узнал бы: «и продчее…» Мордоплюи! Арестанты!.. Тише, Ермолов! Болван! Тысячу раз тебе говорить, что ли?
XI
Теперь вот я уже могу писать, – а в первый раз проснулся, огляделся… Какая-то незнакомая комната, – нет, очень знакомая… Знакомые окна в три стекла или незнакомые? Знакомые! Так и льет в них солнце! Знакомый потолок, – вон, на карнизе трещина…
– Дома я, что ли, или еще сплю?
– Дома, дома, мой родной! Количка! Милый! Ненаглядный! Наконец-то! Дома ты, дома! Ведь это же я, твоя мама! Неужели ты опять меня не узнаешь? Я! Твоя мама!
Вижу: смотрит на меня родное, – теперь почему-то измученное и постаревшее лицо… В глазах у нее такой яркий страх: узнаю я или нет? Смешная! Ну как же не узнать?!
– Я дома? – спрашиваю. – И это моя комната? И там – Волга? Почему же кровать в этот угол перенесли? А где же мой стол?
– Стол вон стоит, а кровать здесь нужно было поставить…
– А это Петька?
– Он, он… Петя! Подойди поближе.
Петька идет как-то боком, глядит странно, немножко исподлобья… Он очень вырос, острижен машинкой.
– Здоров, Петр Андреевич! Чего ж это ты на коньках-то не катаешься?
Петька отвечает басом:
– Я всю зиму катался… А теперь уж и лёду нету… Пароходы пошли…
– Так что, весна уже, значит?
– Хо-хо! – И Петька становится самоувереннее и важнее. – Ну конечно весна… Кто ж теперь на коньках катается? Теперь все карасей ловят! Пароходы уже из Нижнего побежали! – И Петька вдруг потупился и сообщил скромным тоном. – А я вчера по-русски, по письменному, тройку с плюсом получил.
– А папа где же?
– Папа на службе… Он тут за тобой целые ночи просиживал…
– Так, значит, я был болен?..
– Был, немножко…
– Так, так…
Хотел приподняться и посмотреть на Волгу, которая теперь тихо, вероятно, сверкает на солнце, – и не мог. Что-то тяжелое толкало меня обратно на подушку… И потом, когда мама начала кормить меня, как ребенка, супом, я хотел сам продолжать эту операцию, но ложка была стопудовая!
А потом, когда солнце освещало мамину голову, – я вспомнил что-то далекое, когда-то бывшее… Конечно, теперь ее уже нет, – но ведь это пустяки: пусть ее нет, но ведь есть же на свете сумерки… Она так и обещала: в сумерки. И всегда приходит ко мне в сумерки… Каждый день…
И я говорю:
– Мама! Как долго здесь тянется день!..
Она отвечает:
– Теперь, милый, уж апрель на дворе… День-то прибавился… Большой стал…
Сумерки придут еще не скоро…
– Придут, – бог даст…
…Никого нет. Всех попросил выйти из комнаты. Никто ничего не знает. И я тихо говорю:
– Маруся!
И откуда-то, вон из того темного угла, слышится:
– А?
– Иди! – шепчу я, – Никого нет. Мама ушла…
– Сейчас, милый… – отвечает она, – сейчас…
И вот я жду, закрыв глаза, жду, жду… Кто-то тихо касается моей руки… Смотрю – она. Сидит, как тогда, у меня на постели, в той же кофточке с барашковым воротником, и так же прядь золотистых волос протянулась через лоб к уху… Но глаза у нее не тревожные, а спокойные, святые…
– Ты, ты, ты! – шепчу я, – Снова ты! Дорогая! Мое солнце, моя жизнь! Моя единственная, светлейшая радость… Ты меня любишь? Да? По-прежнему?
Она закрывает глаза рукою, будто что-то созерцает или вспоминает, и шепчет:
– Люблю ли я тебя? Да, люблю… Ты мой первый и…
Она уже смотрит на меня, улыбается тому, что я знаю ответ…
– Значит, снег идет?
– Идет, милый, идет…
И она, как тогда, касается сначала щекой моей щеки, потом гладит мои волосы, дышит мне в лицо… Рассказывает про тюрьму, про одно холодное зимнее утро, когда еще не было на небе зари… Потом мы вспоминаем Дарьюшку, цитру Акима Исакыча, первый снег, который так похож на молодую любовь…
– Это ничего, – говорю я, – что ты днем никогда уж не будешь со мной… Это пустяки! Все равно, мы поедем с тобой по Волге и выберем красивые, красивые лунные вечера… И будут сумерки…
Будут, будут, – шепчет она, – конечно, будут… Если бы ты знал, как я жду сумерек…
– А я? Ты думаешь, не жду?..
– А ведь мы с тобой и не видели, как прошла зима…
– Не видели…
– Уже снега нет, небо синее и звезды такие яркие…
– Как снега нет? – и я шутливо притворяюсь непонимающим, – Как это снега нет? Снег же идет!..
Она понимает меня и улыбается, и снова целует меня, и снова дышит мне в лицо:
– Идет! Идет! Снег идет!
И мы смеемся, полные счастья и радости встречи.
…В сумерки мало-помалу вливается, как вино, вечер… Уже был звонок, – вероятно, пришел папа… Так и есть… Шаги…
– Прощай, прощай, моя милая! До завтра, до сумерек…
– Прощай, – торопливо шепчет она, – до завтра, до сумерек…
И когда в комнату входит с лампой мама и стекла окон из темно-синих сразу делаются лакированными, черными, ее уже нет на постели… Я вижу, как она глядит на меня в окно, в верхнее стекло, улыбается и шлет свои поцелуи… Но не могу же я отвечать ей поцелуями при маме! И я только тихо и радостно смеюсь ей и одним шелестом губ говорю про любовь к своей проказнице… А мама, моя милая постаревшая мама – ну, конечно, она же не знает, в чем дело, – наклоняется ко мне, слезы у нее, у старой и глупенькой, в глазах, и шепчет она:
– Ну, Колюшка! Ну, будет, будет! Ну, господь с тобой!.. Ну, будет, мой дорогой… Ну, перестань, перестань!.. Успокойся!
– Да ведь были же сумерки, мама! – говорю я. – Ну, как же мне не радоваться?
Если бы она, старая, знала! Если бы ей рассказать, как счастлив ее сын!..
А она только и знает, что шепчет:
– Ну, будет, будет!.. Полно, мой милый!..
И гладит меня рукой по лицу… И я целую ее мягкую, милую, душистую ладонь.
– Ну, хорошо, – говорю, – я перестану, перестану…
Обещаю, а сдержать слово не могу: радость так и брызжет из меня и в конце концов превращается в смешок, такой маленький, такой тихий, что я просто удивляюсь, как его может замечать мама.
Английские духи
I
Во всем виноват путеводитель Филиппова.
Дело обстояло так.
Я мирно ехал из Майнца в Базель. Выехал пораньше, чтобы в Базеле ночевать, утром разменять деньги и затем продолжать путь до Милана. Все было высчитано и выверено, как в аптеке на весах.
И вдруг – путеводитель.
Страница двести шестьдесят третья гласит буквально следующее:
«Шварцвальд, или Черный лес. Это – интереснейшая цепь гор Западной Германии, дикая и романтическая. Шварцвальдская железная дорога – триумф инженерного искусства: виды вокруг – прекрасны и интересны. Еще более интересен самый народ: здесь необыкновенное разнообразие костюмов, характерные обычаи, деревни и пр. Все это до такой степени ново, странно и интересно, что турист не пожалеет затраченных на поездку пяти-шести часов».
Нельзя не согласиться с тем, что такая страница для человека путешествующего – страница ядовитая. Посмотреть Черный лес, дикий и романтический, посмотреть, триумф инженерного искусства, видеть необыкновенное разнообразие костюмов, характерные обычаи, новые странные и интересные, – разве это не заманчиво? Тем более, если все это тут у тебя близко: рукой подать…
А что такое Базель?
«Для туриста Базель особенного интереса не представляет, для осмотра достаточно четырех-пяти часов».
Так говорит тот же самый путеводитель на странице сто шестидесятой.
– Едем? – спросил я самого себя.
– Едем! – бойко ответил внутренний голос.
– Но билет взят до Базеля? – спросил первый.
– Черт с ним! – ответил второй.
– Пусть, значит, пропадает? – ядовито спросил первый.
– Туда ему и дорога! – ответил второй.
– Расчетливо, нечего сказать! – не унимался первый.
– Один раз живем на свете! – бодро ответил второй.
Этот «второй» был существом удивительным. Я любил его. Он часто давал мне в жизни верные советы.
Опять на сцену появился путеводитель.
Оказывается, нужно доехать до Оффенбурга, в Оффенбурге переночевать и с самым ранним утренним поездом, и непременно в третьем классе, ехать до Зингена.
«Третий класс – это, очевидно, для костюмов: тут-то и есть разнообразие», – подумал я и похвалил Филиппова.
Подсчитал я свои капиталы. Выходило так, если купить билет на Шварцвальд, то немецких денег оставалось у меня немного, марки четыре.
– Денег немного! – Заговорил опять первый голос.
– А русские на что? – задорно ответил второй, – Разменяем в Оффенбурге.
– Сегодня воскресенье, – сказал первый, – Банки закрыты.
– Завтра понедельник, – ответил второй, – банки будут открыты.
– Ну, делайте как знаете! – Вздохнул первый.
– Да даже и сегодня на вокзале у кассира можно будет разменять, – сказал на это, словно желая несколько оправдать свою настойчивость, второй голос, – кассиры ведь меняют. Ну, потерпим немного убытку, – экая, подумаешь, важность, когда у нас в чемодане около рубах, купленных в Лондоне, лежат пять эскизов к новой картине… Плевать с высокого дерева хотели мы на убытки!
– Плевать и плевать! – смиренно и ехидненько согласился первый, незаметно вздохнув, – плевать… Вам с высокого дерева виднее.
И, купив билет на Шварцвальд, поехали мы вместо Базеля в Оффенбург, чтобы там переночевать и утром уже наслаждаться триумфом инженерного искусства, романтикой и странными обычаями.
Так судьба, или что-то вышестоящее, изменяет предначертания человеческие.
Приехали перед вечером: часов около пяти.
Было воскресенье. Накрапывал дождь. Носильщиков не видать. Ваял свои чемоданы, пошел к выходу. Вокзалишко плохонький, – полы асфальтовые, помятые: невесело, накурено.
Против вокзала – гостиница. Пришел туда, попросил комнату, – дали хорошую, с видом на далекие горы. Горы красивые, как в Тоскане, с мягкими, спокойно волнистыми очертаниями. Что-то напоминает в них картины Перуджино. Л городишко кругом маленький, приземистый, – сеет на него небо серые, холодные, редкие капли, и путешественнику делается грустно и хочется вспомнить большие человеческие гнезда на земле: широкие, просторные улицы, красивый вечерний свет, сумрак храмов, оживление и ярусы театров…
Умывшись, пошел опять на вокзал: путь короткий, через дорогу.
Обращаюсь в окошечко, к кассиру:
– Разменяйте мне, пожалуйста, двадцать пять рублей.
Кассир сидит против света таким хитрым образом, что усы его кажутся фиолетовыми. Нерешительно, словно боясь обжечься, он берет мою бумажку, смотрит ее на свет, разглядывает то одну сторону, то другую и говорит вдруг, возвращая деньги назад:
– Мы таких не меняем.
Я – изумлен, нагнулся к окошечку и смотрю на него, как на птицу в клетке:
– Почему?
– Эти деньги нам неизвестны.
– Как неизвестны? Это русские деньги. В Майнце мне меняли их на вокзале же и без всяких разговоров.
– Майнц – город большой, Оффенбург – маленький. Кассир в Майнце может знать русские деньги, кассир в Оффенбурге – может их не знать. Мы меняем только франки.
– Почему же только франки? А кроны, например?
– И кроны. Да ведь я вам должен вот что сказать: мы, кассиры, менять деньги не обязаны и, если это делаем, то по своей доброй воле. Куда вам билет? – обратился он через мое плечо к человеку, стоявшему в очереди.
Ясно было: разговор окончен.
Взял я обратно свою бумажку и меланхолически пошел к выходу. В кошельке у меня оставалось ровно четыре марки.
В гостинице позавтракал, прочитал в путеводителе про Оффенбург и узнал, что в нем, на площади, поставлен памятник человеку, который первый привез в Европу картошку.
Пошел смотреть памятник. Дождь перестал. Небо прояснилось.
«Пожалуй, к ночи выглянут звезды», – подумалось почему-то.
На улицах – народ, уже уставший от праздника; торжественная одежда, воротники, новые галстуки как-то особенно подчеркивают мозолистые руки, загорелые лица… Провинция, – глухая, далекая… В окнах магазинов – дешевая одежда, дешевая обувь.
– Будьте столь любезны, – обратился я к немцу, проходившему мимо, – скажите: где памятник человеку, привезшему в Европу картофель?
Немец взглянул на меня признательными глазами, приподнял новую, только по воскресеньям надеваемую шляпу и сделал два жеста, из которых я понял, что сначала нужно идти прямо, а потом свернуть налево.
Пошел по указанному направлению и увидел чугунного человека, гордо смотревшего на восток. Одна рука, как у Наполеона, была заложена за борт жилета, другая держала куст картофеля: удовольствие полное.
Смотрю: через мост, откуда-то снизу, идут люди, – идут семействами со всякими покупками в руках. Лица утомленные, довольные… Вдали слышатся звуки музыки… Я перешел мост, прибавил шагу и, все яснее и яснее различая звуки, а потом и человеческие голоса, очутился на ярмарке.
Ярмарка была построена покоем: в глубине, в ряд, стояли три карусели, а от них параллельными линиями тянулись: балаган с водолазом, балаган с индусом, балаган доктора Фауста и волшебный круг. Между этими зрелищами разместились тиры, лавочки с шоколадом, моментальные фотографии и прохладительные напитки. В прохладительных напитках не было, собственно, никакой нужды, ибо погода стояла достаточно холодная, и осеннее пальто ничуть не давило плеч. Я очень люблю карусели, – больше всего люблю слушать музыку органов, когда их играет сразу три. Впереди труб стоит маленький человечек, – куколка, одетая в клетчатые панталоны, помятый цилиндр, и дирижирует палочкой. Один орган играет марш из «Тангейзера», другой – мотив из «Евы», третий – неаполитанскую песенку. Получается, как говорят дирижеры на репетициях, музыка шаха персидского. Эта музыка и создает ярмарку.
…Походил и посмотрел индуса, водолаза и доктора Фауста. На все это истратил полторы марки. Купил пряников, которые тут же съел, – истратил полмарки. Снялся в медальон и увидел себя таким, каким никогда не видел в зеркале, – истратил марку. Оставалось в кошельке несколько пфеннигов, которые я предназначил на добрые дела: у входа на ярмарку было много нищих. У всех у них, – и на груди, и на спине, – были картонные вывески с точным указанием тех болезней, которыми они страдают.
По небу, как-то бочком, шел узкий караван туч, – туч сырых, видимо заблудившихся, лениво бредущих из страны, которой владеет осень.
Уже стемнело, зажглись огни, положив на землю тени иные, чем днем, – и казалось, что никакой Италии нет на свете и что вот за этими горами уже не живут люди, не поют птицы, не бегают звери, не ползают змеи, – и господь его знает: куда это бегут поезда, видные мне из отеля?
И начал грызть меня червь раскаяния.
«Ехал бы лучше в Базель, был бы теперь в хорошем городе, видел бы людей, бульвары и прочее, – упрекал я себя. – А тут вот смотри, как бегут поезда то вправо, то влево».
И, чтобы развлечься, я начал по порядку вспоминать чудеса доктора Фауста, только что виденные мною, – и мрачные мысли на некоторое время оставили меня.
Когда совсем стемнело, пошел к себе в отель ужинать. В столовой, в углу, увидел того же самого немца, которого видел за завтраком. Так как этот немец мне не особенно понравился, то я спросил слугу, нет ли еще комнаты? Слуга сказал, что есть: буфетная, что там тоже расставлены столы; но совсем нет никаких украшений, тогда как в этой (где сидел немец) есть зеркала: шесть штук, которые придают ей величавый вид.
Я предпочел лишиться украшений и пошел в буфетную. Присел к какому-то столику, вытер пенсне, глянул вправо на буфет и замер. Снял пенсне, снова, без всякой надобности, протер его, совершенно забыв про слугу, который подал мне карту и ждал заказов.
В черном платье за буфетом стояла женщина. Казалось, что вышла из рамки тициановская Катерина Корнаро. Прежде всего обращали на себя внимание ресницы, – черные лучи глаз, – и было странно: неужели они исходят из голубых глубин?
– Господи боже мой! – молитвенно прошептал я, – Вся к премудростью сотворил еси!
И ярко вспомнилось, как восторженно я пел этот псалом, когда ехал в горах Тироля; вспомнились тихие закатные вечера счастья, в которые когда-то казалось, что мне не тридцать лет, а бесконечные тысячи, что я стар и все понимаю на земле; когда я был уверен, что при сотворении мира играл оркестр, в котором было три тысячи скрипок, три тысячи флейт, три тысячи труб.
В зале почти никого не было, и я решил: пусть это будет сумасшествие, но я скажу ей сейчас то, что хочу сказать…
И сказал ей по-русски, рискуя показаться сумасшедшим:
– При твоем рождении играл оркестр, в котором было шесть тысяч скрипок, шесть тысяч флейт и шесть тысяч труб. Ты – лучше гор Тироля, лучше рек, падающих с высоты, лучше лучей солнечных, сползающих за край моря…
Она знала свою красоту, и мой восторженный тон, северные слова были понятны ей, – но как лениво и скучно ничего не ответили мне глаза! Должно быть, решила, что я пьян, и усмехнулась. Как гордо и презрительно сдвинулись в сторону четко очерченные губы!
Удивленный моим поведением, слуга который раз уже спрашивал:
– Что изволите скушать?
Я ответил:
– Прежде всего белого вина. Хорошего вина.
Слуга наклонялся, ласково улыбался мне и растолковывал:
– Это вы изволите выпить. А мне необходимо знать, что вы изволите скушать?
Я смотрел на него и долго не мог понять: что ему от меня нужно?.. И странное дело: когда я заметил, что физиономия его, склонившаяся ко мне, по крайней мере дней шесть не брита, – тогда я сразу угадал его мысли и все сделал по его желанию.
II
– Это кто? – спросил я, когда лакей принес хлеб и салфетку.
– Это? – и он осторожно повел глазами в сторону буфета. – Это? Это хозяйка отеля.
– Вдова? – спросил я.
– Нет, не вдова. Почему же вдова? – несколько сердито ответил лакей и, как мне показалось, недовольно покосился на меня. – Хозяин уехал в Страсбург покупать горох.
Лакей говорил сердито, но осторожно, – и я заметил, как она, что-то, видимо, подозревая, взглянула в нашу сторону. Лакей моментально съежился, придал себе деловитый вид, принялся якобы стряхивать со скатерти крошки и шепнул мне:
– Строгая!
Она стояла и вправду строгая, бесстрастная: оживленная Катерина Корнаро. Писала чеки, вырывала их из продолговатой книжечки, и я видел ее прекрасные заботливо выточенные руки – и потом минуты две уже не мог не следить за их движениями: видел, как пальцы, казавшиеся мне особенными, живыми существами, то прятали эту книжечку за корсаж, то оправляли кружева вокруг воротника. Иногда как-то особенно, чуть-чуть насмешливо, все время сознавая свою силу, она поводила глазами по залу, – и когда этот взор, похожий на холодный, ленивый огонь, падал на меня, то казалось, что раскрыта моя душа, видны мои думы, обнажены мои чувства, – и хотелось тогда сжаться в комок, уйти куда-нибудь далеко, – за те горы, где кончается земля: я понял, как верноподданный может трепетать при виде своей царицы, тайно любимой.
…Я сидел час, два: комната мало-помалу наполнялась людьми. Это были, очевидно, постоянные посетители кафе, потому что какими-то особенными, привычными жестами вешали они свои шляпы, особенными движениями снимали свои пальто, с видом старых знакомых делали заказы слуге и потом, осторожно ступая по полу, как в храме, направлялись к буфету приветствовать ее…
Они говорили с нею тихо, почтительно наклонившись, она отвечала улыбкой, полной снисхождения, – и эта улыбка на лице разговаривающего вызывала другую улыбку: почтительную, преданную. Все эти обычные любезности и расспросы о здоровье звучали как-то особенно, тихо-торжественно, и со стороны казалось, что присутствуешь на аудиенции. И вдруг, словно что-то открылось, – мне стало ясно, что люди, наполнившие странную пятиугольную комнату, поголовно и безнадежно влюблены в нее, в царицу этого маленького города. Во всех этих домиках, мимо которых я проходил, ее знают, о ней говорят, ее и любят и ненавидят, желают ей и смерти и радости. А когда она приходит в церковь, – все смотрят на нее, и забывается смысл псалмов, и непонятно, о чем говорит пастор.
Были они все, эти посетители, щеголеваты: один, например, рассчитывал понравиться галстуком персидского рисунка; другой думал, что к нему особенно идет пиджак с двумя разрезами позади; третий продел часовую цепочку сквозь петлю сиреневого жилета; четвертый на виду держал свои замшевые перчатки с тремя черными полосами; пятый смазал волосы бриллиантином и частым гребешком сделал себе как по линейке геометрический прибор.








