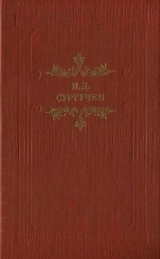
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
Страстная мысль или страстное чувство настолько порой захватывают героев Сургучева, что перед ними как бы отступает все прочее, устоявшееся: и привычный «здравый смысл», и освященные веками нормы. В рассказе «Горе» спивающийся после смерти любимой жены псаломщик Илья совершает святотатство – в оклад иконы вставил фотографию умершей. Вдумываясь в этот житейский эпизод, описанный с глубоким пониманием трагедии псаломщика, видишь, что и здесь проглядывает та Же любимая мысль Сургучева – о душевной жизни как мериле смысла ее.
Правые, на первый взгляд, служители церкви, разгневанные на кощунствующего Илью, оказываются по сути не правыми. И не оттого, что не разделяют горя товарища, – нет, они даже сочувствуют Илье, – они не правы в том, что легко судят поступок человека, чувства которого достигли степени боготворения другого человека. Для псаломщика Ильи любовь к жене – поистине Любовь, и писатель передал это чувство с проникновенностью необычайной.
Итак, «диалектика души» для Сургучева – это поиск смысла жизни, поиск, сопряженный с переживанием самых высоких мыслей и чувств. Автор не спешит дать своим героям раскрыться, хотя на душе у них накопилось много невысказанного. Писатель как бы боится, что высказанное может стать истиной в последней инстанции, – как перед другими героями, так и перед читателем. В таком подходе к персонажам Сургучев занимал кардинально иную позицию, чем, скажем, Горький или Бунин по отношению к их героям. У Горького они охотно говорят о других, часто философствуют. Нельзя отказать основоположнику литературы социалистического реализма в силе, меткости и жизненной правде этих высказываний. Реализм Горького исчерпывающ в отражении как правды жизни, так и полноты человеческих характеров. Но герои Горького – что называется «монологисты», они слышат прежде всего себя, (что, собственно, тоже не расходится с «правдой жизни»). Потому, несмотря на правдивость их слов, сами они часто циники. «Правдоискатель» Губин, из рассказа «Губин», на которого похож сургучевский Петухин, разбрасывает сплошь и рядом такие сентенции: «Я, брат, людям доброжелатель… ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую – я всегда обязан это вскрыть – наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни…»
В словах Губина – цинизм «высшей пробы». Это монолог «доброго человека», душа которого наглухо закрыта для других. Горький как бы не щадит своих героев, заставляя их высказывать «свою» правду так, будто других правд не существует, и они делают это напористо, вызывающе. Вспомним, хотя бы монологи (такие блестящие!) героев пьесы «На дне»: Барон, Сатин, Лука – все, все они говорят рассчитанные на других слова, но говорят… не слыша, не замечая этих других…
Герои Сургучева такой безапнеляционности избегают. Они «задумчивее», что ли, смотрят внутрь себя, но слышат там, в душе, и себя, и окружающих. Они никому не навязывают своей точки зрения, скорее примеривают ее к чужой, допуская, что и она может оказаться равной их собственной.
Именно эта, «диалогическая» позиция во взгляде на человеческую личность, близкая Чехову, рождает множество разнообразных, живых интонаций в рассказах Сургучева, отсюда и согретость их внутренним теплом, их оптимизм. Эта теплота, разлитая в произведениях Сургучева, резко отличает их и от бунинских вещей.
Об эстетической созерцательности, внутренней холодности манеры Бу-нина-прозаика писала критика и предреволюционной поры, и наших дней. Редко кто в нашей литературе может сравниться с Буниным по широте охвата жизни. Не может сравниться с ним и Сургучев. Но, думаю, «диалектику души» Сургучев познал в чем-то глубже, чем Бунин. Холодок блестящих бунинских описаний природы проник и в его описание жизни души. Рассказы Сургучева мерцают многими оттенками в передаче душевных движений, новеллы Бунина часто демонстрируют характеры статичные, однотонные.
Сопоставляя художнические манеры Сургучева и Горького, Сургучева и Бунина, манеры такие разные, я делаю унор лишь на их отличие, а не на какие-то «слабости». Перед нами, естественно, большие художники, каждый со своим мироощущением, своим взглядом на человека.
Несколько слов о языке Сургучева. Критика, как мы обратили внимание, единодушно отмечала естественность, красочность и образность сургучевской фразы. Но она не только точна и образна, приближаясь к бунинской (хотя автора «Деревни» и «Темных аллей» трудно превзойти в красоте слога), она и по-своему очаровательна. Можно сказать, что это ароматный язык, потому что с помощью языка Сургучев умеет не только создать пластичный образ, но и одушевить его, тесно сблизить со всем тем, что находится рядом. Взаимосвязь всего сущего, полифония, пронизывающая жизнь, – эта еще одна дорогая для Сургучева мысль находит отражение и в пейзаже. Один из примеров (из повести «Губернатор»): «Вагоны двинулись необыкновенно мягко: было такое ощущение, будто бы поплыла земля. Когда усилился ход, внизу стало что-то мягко, как через плотную резину постукивать. Пронеслись белые крыши маленьких пригородных домов, какие-то белые полянки, вывеска чугунолитейного завода на двух высоких столбах. Кладбище было прекрасно: оно лежало на горе, и казалось, что кресты выросли на снегу, как знаки отошедших жизней». Настоящее, прошлое, будущее (кладбище в описании – это намек на близкую трагическую кончину дочери губернатора) – все здесь переплетено в один нерасчленимый пласт бытия.
Сургучев был автором нескольких пьес, ставившихся на русской сцене (а позднее за рубежом). Первая из них, «Торговый дом», в 1913 году была поставлена в Александринском театре в Петербурге с М. Савиной в главной роли. Постановка не стала удачей театра, но о пьесе критики писали очень благожелательно: «Редко когда удавалось видеть более удачную пьесу, представленную на суд публики молодым новым автором. Превосходная пьеса, редкая по своей конструкции!.. Необыкновенно живая пьеса. Материал распределен с умелостью, удивительной для новичка и драматургии. И потом, язык! Вот вещь, которую, не запомню, когда приходилось отмечать, до того в этом смысле современные театральные писания бесцветны… У Сургучева же – язык необыкновенно яркий, красочный, образный, оригинальный…» («Ежегодник императорских театров», 1914, № 5).
«Торговый дом», на первый взгляд, пьеса в духе Островского, о разрушающей силе денег. Но это драма современного человека. Пьеса многим напоминает толстовскую «Власть тьмы» – тот же трагизм, та же контрастность характеров. Покоряет в ней и богатый, подлинно народный язык.
Следующая пьеса – «Осенние скрипки» (1914). К ней обратился Московский Художественный театр в 1915 году и показал ее с большим успехом в Москве и Петрограде. Драма выдает в Сургучеве внимательного читателя пьес Ибсена и Чехова и мало чем напоминает первый его опыт. В ней решаются те же проблемы, которые Сургучев ставил в прозе: любовь как очищающее начало, преодолевающее пошлость быта и деловых расчетов. Как и рассказы, как повесть «Губернатор», драма «Осенние скрипки» пронизана гуманизмом, нравственным пафосом.
Сургучев обладал врожденным талантом драматурга, пониманием законов сцены. Только этим можно объяснить высокий профессионализм первой пьесы, мастерство, с каким написаны «Осенние скрипки». Сам писатель, кстати, порой выступал на сцене как актер-любитель. Однажды он участвовал и в инсценировке пьесы Горького «На дне», сыгранной известными писателями, и показал себя незаурядным исполнителем.
Пьеса «Реки Вавилонские» открывает наиболее трагический период в жизни и творчестве Ильи Дмитриевича Сургучева. Не сумев преодолеть глубокий идейно-политический кризис, не поняв и потому не приняв Октябрьскую революцию, писатель, отличавшийся в прежнее время интеллигентски-бунтарским мировоззрением, во всяком случае оппозиционным по отношению к монархической России, почувствовал острую потребность ориентироваться на что-то твердое и определенное. Начинается настоящая переоценка ценностей, сопровождаемая попытками разобраться в том, что произошло и происходит в настоящее время в покинутой им России. Герои пьесы Сургучева представляют самые разные слои бывшего русского общества. Один из героев так говорит об этом: «Когда еще такая компания собиралась под луной? Губернатор, актер, сыщик, художник, офицер, прокурор, монах Киево-Печерской лавры, помещике "Церковный староста…» Купец-ярославец красноречиво подводит невеселый для этой компании итог: «…все, что сейчас в России случилось, – все ей на превеликую пользу пойдет… Купцов выгнали? Правильно! Сам купцовал! Кто на войне государство в тылу разграблял? Кто миллионы в это время в дивиденты получал? Наш брат купец…Дворян выгнали? Вас, губернаторов да камер-юнкеров?.. Разве в России можно было без протекции тетушки или без хвоста бабушки получить место или на службу попасть?..»
Журнал «Печать и революция» (1927, '№ 8) отмечал: пьеса «чрезвычайно любопытная в смысле характеристики настроений наиболее обездоленной части эмигрантов… Общественная позиция реалистов смыкает их с действительностью. Эта смычка происходит по линии национального чувства. В пьесе Сургучева апостолом этого чувства является художник, – единственное действующее лицо пьесы, которое, по мысли автора, достаточно сильно, чтобы избегнуть эмигрантского декаданса и не только начать новую жизнь, но и других научить «слышать движение земли… этот чудесный, великолепный, гордый лет нашей земли».
В пьесе ярко звучат патриотические мотивы; в ней дается беспощадно трезвая оценка не только эмиграции, ее враждующим группировкам, но и социальным порокам царского строя. Пьеса «Реки Вавилонские» написана той же мастерской рукой, что и две предыдущие. Переоценка политической позиции автором намечена в ней неприкрыто. Горькая доля эмигрантов, открытая любовь к далекой, уже недостижимой Родине сообщает пьесе одновременно и обличительный, и трагический смысл. Черты, свидетельствующие, что эта драма пережила свое время. Пьесы Сургучева еще ждут своего второго рождения как сценического, так и читательского.
Эмигрантская судьба Сургучева шаблонна: короткое пребывание в Константинополе в бедности и отчаянии, недолгая жизнь в Праге, затем и навсегда – в Париже. После пьесы «Реки Вавилонские», написанной в Константинополе, наступил затяжной творческий кризис. В Праге и Париже Сургучев издал несколько тоненьких сборников – в них несколько десятков новых рассказов.
Пьесы переиздавались на европейских языках и шли в театрах Праги, а в Париже по-русски на подмостках любительских эмигрантских трупп. Автор этого предисловия в Пражской национальной библиотеке листал газеты и журналы с рецензиями на постановки «Осенних скрипок» русской труппой в тридцатые годы. По-чешски та же пьеса шла в Праге перед самым началом войны, шла с успехом… Поставлены ли были «Реки Вавилонские» – неизвестно.
В 1956 году писатель скончался в Париже.
Лучшее из написанного Сургучевым пережило время, забытая страница русской прозы открывается заново. Можно быть уверенным, что рассказы Сургучева, повесть «Губернатор», а со временем и пьесы, найдут своего благодарного читателя.
Анатолий Кузнецов
ГУБЕРНАТОР
повесть
I
Когда губернатор ехал с вокзала к себе, в свой дом, помещавшийся на главной улице города, рядом с магазином «Американский свет», – было четыре часа: в Троицком соборе звонили к вечерне. Не ожидая багажа, он, никем не встреченный, приехавший без предупреждения, сел на очередного извозчика и снова, как пять месяцев назад, ехал по плохой мостовой вверх, мимо бульвара, разделявшего улицу на две половины.
Пять месяцев назад, в марте, когда губернатор еще верил в Наугейм, в целебность его вод и климата, верил в свое выздоровление, – он возмущался и говорил сопровождавшему его на вокзал ротмистру Клейну:
– Это не город, а кабак! Черт знает что! По таким мостовым только мертвых да кислое молоко возить можно! Всю управу, собственно, разогнать бы нужно. А в особенности этого, как его?
– Петрухина? – спросил Клейн.
– Вот-вот, Петрухина. Этакое мурло! Ведь он, кажется, заведует починкой мостовых. Ничего не делает, только зря деньги получает… Да и подворовывает, небось. Не без греха у них, в самоуправлении-то…
Губернатор говорил тогда громко, и теперь только стало ясно, что этим задорным тоном и неестественным раздражением ему хотелось заглушить ту глубокую, недавно вошедшую в душу тревогу, которая все время говорила ему: не храбрись. Помни, что между тобою и мертвецом, которого можно возить по этой дороге, разница невелика. Сердце твое уже пошатнулось, – разве ты не замечал, какие виноватые лица у докторов, как они после ослушиваний и остукиваний часто уходят в столовую и там шушукаются между собой непонятными латинскими словами?
Задорным тоном хотелось побороть эти тревожные, не дающие покоя и сна мысли, хотелось самому себе показать, что мы-де еще поживем, еще поразговариваем с толстыми членами управы, еще не один раз нагоним им холода…
Ротмистр Клейн, здоровый, толстощекий человек в сером пальто, слушал тогда губернатора, как-то особенно щурил свои немецкие мутноватые глаза, поеживался, будто ему было холодно, посматривал в сторону и издавал малопонятные, одобрительные звуки. И потому, что он старался не смотреть губернатору в глаза, было у него то же выражение лица, как у докторов, когда они осторожно уходили шептаться в столовую.
Теперь, когда губернатор, усталый, почти сутки ничего не евший, возвращался из Наугейма, мостовые уже не тревожили его. Фаэтон прыгал направо, налево, подскакивал, дребезжал: была только привычная, тупая, нудная боль в левом боку. Но и ее не хотелось замечать. Он знал, что уже все кончено. Пройдет год или, от силы, полтора – и от губернаторского дома потянется процессия во главе с архиереем Германом, и понесут его, губернатора, по этой дрянной дороге, понесут осторожно, плавно. На юге умеют хоронить хорошо и весело. Заколышутся впереди позолоченные хоругви, как знамена. Хор хороших, крестовых певчих широко, громко и медленно будет петь молитву. Денег на похороны не пожалеют: гроб сделают на заказ у Ермолова – просторный, дорогой. Будет он в нем покачиваться, как в гамаке. Правитель канцелярии, умеющий сочинять восторженные телеграммы со словами: «днесь, во веки веков», прольет из своих узеньких глаз слезу и скажет речь с отрывистыми, удрученными жестами, а там на новых, скользких полотенцах спустят его превосходительство в просторную, свежую яму, заложат-ермоловский гроб серыми камнями, спаяют их цементом, завалят разрыхлившейся, потревоженной землею; месяца через четыре привезут из Москвы черный, солидный мраморный крест и напишут на нем золотыми, глубоко вырезанными буквами: «Генерал такой-то, родился тогда-то, умер тогда-то. От роду его жития было столько-то», а на другой стороне: «Помяни мя, Господи, егда прийдеши во царствии Твоем».
Губернатор любил бередить душу такими думами и воображать картину своей смерти со всеми подробностями. Ему тогда становилось глубоко жаль себя, как бывает жаль обиженного, одинокого, беззащитного ребенка. Чужие люди закроют ему глаза; холодные и, быть может, брезгливые руки вымоют его мертвое, вялое тело и, отвернувши лица в сторону, перенесут его на стол, покрытый простыней и установленный в святом углу.
– А впрочем, все равно! – старался думать он, глядя наверх, на телефонный столб, где какой-то парень в жокейской фуражке чинил проволоку. – Все равно. Один черт. Сегодня, завтра, – какая разница.
День был ясный, нежаркий. Звонили к вечерне, которую будет, вероятно, служить плотно пообедавший, заспанный священник. К вечерне никто, кроме завтрашних именинников, не придет. На улицах никого не было.
Фаэтон у извозчика был старый, четырехместный, весь отрепанный, что-то в нем дребезжало, на одном колесе не было, кажется, шины: оно постукивало как-то странно, словно хромая. Извозчик чувствовал это, хотел взять лихостью коней и стегал их, приподнимаясь с сиденья и доставая кнутом до самой шеи. Ехать от толчков было неудобно, больно: по локтю все время била какая-то железка. А когда фаэтон катился по пыли, и было мягко, и колесо не дребезжало, то сейчас же приходили обычные мысли, длинные и одинаковые, как рельсы, – мысли о том, что нужно бы перед смертью поговорить с министром, поговорить не о губернии, не о подавлении революции, не о насаждении лесов, а о жизни и о боге. Приходила и другая мысль: как хорошо было бы теперь, приехавши домой, найти там жену, дочерей, которые вот уже много лет уехали от него и стали чужими. Хотелось, чтобы в прошлом не было таких тяжелых воспоминаний, как измена жены, чтобы не было самоубийства Тышецкого, который перед смертью написал записку, что до петли довел его губернатор. Записка была маленькая, криво оторванная, и на конце ее тянулись тоненькие волокна бумаги. Писал Тышецкий, видимо, наспех, потому что в окончаниях слов не было твердых знаков, а в одном месте была неправильно поставлена буква «е». В петле, говорили тогда, Тышецкий был страшен: с растопыренными пальцами и криво высунувшимся синим языком.
– Приехали, ваше превосходительство! – сказал, поворачиваясь, извозчик. – Имею честь поздравить с приездом! Извозчик говорил: «проздравить».
Губернатор приехал за месяц до окончания отпуска, его, большой, двухэтажный, выстроенный в 1876 с прекрасными, строгими зеркальными окнами, с балконом, который поддерживали четыре согнувшиеся гипсовые женщины, – дом молчал, никто не выбегал навстречу, никто не улыбался ему. Был даже беспорядок: не караулили дверей обычные часовые, хотя полосатые будки по-прежнему стояли на углах. В левой половине первого этажа помещалась губернаторская канцелярия, и подъехавший экипаж был замечен дежурным чиновником.
Сразу вспомнился этот чиновник: у него как-то были необыкновенно скрипучие сапоги, и губернатор, не выдержав, крикнул ему, что если только он не переменит их, то будет немедленно выгнан со службы. Испуганный чиновник до конца занятий ходил на цыпочках; на другой день явился в каких-то широких растоптанных штиблетах и все-таки ходил на цыпочках.
Губернатор вспомнил молодое побледневшее лицо – и улыбнулся. Сделалось ясно, что нужно бы как-нибудь загладить это далекое прошлое, когда за службой, как за высокой стеной, не было видно жизни, когда совсем не думалось о смерти, когда важным и значительным обстоятельством считалось печатное предписание из министерства, когда огромным мучением казалась измена жены. Двумя звездочками горели глаза чужой, не его девочки, – жестоким, нестерпимым огнем жгли простые слова: «папочка, мой папочка». Особенно бесило и волновало, что эта чужая девочка Соня, рожденная его женой от любовника, очень любила его, как отца, и горько, вздрагивая плечиками, плакала, когда он не пускал ее к себе в кабинет.
Всю дорогу, от Наугейма до дома, не давала губернатору покоя одна мысль, которая скользнула в сознании и которую никак не удавалось точно уяснить себе. Когда же он увидел в окне чиновника, которого давно, года полтора назад, ругал за сапоги, то эта мысль оформилась и как-то сразу сделалась простой. Стало ясно, что перед смертью нужно исправить все зло, которое он сделал на земле. Эта мысль, как неожиданным огнем, охватила его душу, его мозг и твердым, горячим шаром прокатилась внутри по всему существу. Надо было сейчас же броситься в жизнь, как в текущую воду, и что-то делать, что-то исправлять, что-то спасать; вспыхнули желания быстрых, отчетливых, как в молодости, движений: нужно было бы вот сейчас соскочить с фаэтона, взбежать по лестнице, торопливо умыться с дороги и переодеться, быстрым почерком написать письма, которые еще поспели бы к почтовому поезду, – но чувствовалось, что тело стало уже тяжелым, грузным, больным.
– Если бы протянуть еще год, полтора! – думал губернатор, не слезая с остановившегося фаэтона. – Господи! – и слегка, чтобы было незаметно, повернувшись к собору, который виднелся из-за бульвара, он, давно потерявший веру, шептал. – Поддержи меня! Дай мне еще эти год, полтора! Дай мне почувствовать себя иным, не скверным, не грязным, не жестоким! Пошли на меня свою благодать, ясную и исцеляющую. – Душа и губы шептали эту молитву, а старые, солдатские, зоркие глаза посматривали, – не видел ли кто и не улыбается ли его малодушию. Слова молитвы были просты, и казалось, если есть бог, то он услышит ее.
Впереди, в гору, шла улица с электрическими фонарями, Магазинами, трехэтажными домами, окружным судом, направо – дремал густой, зеленый бульвар.
Извозчик стоял и, вероятно, удивлялся: почему губернатор не слезает с фаэтона? Прохожие, узнавшие его, кланялись и старались пройти поскорее, – казалось, что у них мелькала тревожная мысль: губернатор приехал.
II
Чиновник выбежал на улицу в застегнутом сюртуке; вид у него был испуганный, и во всем – в широко раскрытых черных глазах, в низких поклонах, от которых встряхивались и падали наперед длинные, лоснящиеся волосы, в суетливых, бестолковых движениях сразу нарисовалась прежняя тяжелая, обременительная жизнь.
– Мое почтение! – ответил на приветствие губернатор, и в голосе его послышались те ноты, которые говорили, что он хочет быть простым и несердитым. – Все еще служишь?
– Служу, ваше п-во! – отвечал чиновник, стоя перед ним по-солдатски, во фронт и, видимо, не зная: бояться ему или радоваться.
– Дежурный по канцелярии?
– Точно так!
– А сапоги все по-прежнему скрипят?
– Никак нет! – рапортовал чиновник, – Я их, подошвы то есть, восемь дней тогда коровьим маслом мазал.
– И что ж? Прошли?
– Точно так. Прошли.
Было видно, что чиновник этот – славный парень; получает он в месяц рублей, вероятно, 38, ухаживает за швейками; особым, благородным манером танцует на вечерах коммерческого клуба; когда выпьет, то любит петь тенором ту песню, в которой есть слова: «слезы горькие льет молодец», и избранную даму пленяет морской накидкой, разочарованным видом и разговорами о сырой могиле. Губернатор улыбнулся и сказал:
– Тебя бы, сударь, хорошо в солдаты отдать. Да драть бы тебя разика по три в день.
Эти слова нужно было сказать, чтобы чиновник каким-нибудь образом не догадался о молитве.
Лицо парня, дежурного по канцелярии, сделалось счастливым от губернаторской шутки, – засмеялись ей три человека, засмеялись весело. Губернатор удивился: откуда третий смех? Оказалось, что смеется и извозчик. Губернатор посмотрел на него: это был старик в синем армяке, с фуражкой на длинных, скобкой обрезанных волосах.
– А ты чему рад? – строго и наставительно спросил он.
– Да как же? – ответил тот. – Такого малого да не драть? Не токмо три, его тридцать три раза на день драть нужно. Тогда бы из него начальство вышло.
Справа был бульвар, такой зеленый и густой, что, казалось, там, дальше в гору, идет длинный сад, – совсем не было видно аллей и гуляющих; просветами, как маленькие калитки, выглядели узенькие выходы на дорогу. Очевидно, недавно был дождь: темно-коричневые камни мостовой казались отлакированными; на небе еле заметно плыли, как глыбы мрамора, облака. Немного парило: предвещало к вечеру еще дождь.
Странно и смешно повертываясь, маленькими шажками, придерживая на весу саблю, прибежал сверху околоточный Спичка и отсалютовал, выставляя у козырька потную ладонь:
– Здравия желаю! С благополучным приездом!
Усердие и преданность были видны в нем: пот катился с него градом, крупными и мутными каплями, как дождь по стеклу. Ладонь у него была жесткая, с глубокими линиями. Почему-то показалось, что Спичка сидел сейчас где-нибудь в погребке, выпивал, держал себя важно, как начальство, и с него не взяли денег.
– Ну хорошо! – сказал губернатор, обращаясь к чиновнику. – А дом скоро отопрут? Мне сидеть надоело.
– Послали за Свириным, – бойко доложил тот, опять вытягиваясь в струнку, – ключи у него.
– А где же Свирин может быть, что за ним посылать нужно? – удивленно спросил губернатор.
Чиновник замялся, покраснел, пошевелил ладонями.
– Время послеобеденное, – сказал он нерешительно, – они его иногда проводят у Николая Ивановича. Приятель у них есть стародавний. Можно сказать, с юношеских лет.
Свирин служил у губернатора лет тридцать, был у него когда-то денщиком, вместе с ним провел турецкую кампанию, и ни о каком Николае Ивановиче он никогда от него не слышал.
– Какой это Николай Иванович? – спросил губернатор.
– Маркер-с! биллиардный маркер-с, – отвечал чиновник, – маркер второразрядного трактира «Мадрид».
– Да разве Свирин играет на бильярде?
– Вне конкуренции. Любому игроку завсегда пять крестов готов дать. Пока что, – посоветовал чиновник, – можно в канцелярии посидеть. Телеграмму напрасно не дали: тогда и полы натерли бы, и воздух в комнаты пустили.
Губернатор, накренивши собой фаэтон, слез на тротуар и пошел в ворота. Околоточный, держась как-то боком, прыснул на мальчишку, державшего обеими руками какую-то большую пустую бутылку, и, просунувшись вперед, широко отворил железную решетчатую калитку. Как будто не своими ногами шел губернатор по асфальту, поднялся по порожкам, вошел в приемную. Здесь по средам и субботам его ожидали просители, здесь он кричал на содержателей гостиниц и на монахов, приходивших с Афона.
Губернатор сел. После вагона, извозчика и душного полдня здесь было удобно и прохладно; ноги ныли, была такая лень, что не хотелось полезть в карман за папиросами: утомительным казалось открывать портсигар, зажигать спички.
– А я не узнал вас, ваше п-во! – сказал чиновник, появляясь в дверях.
Показалось странным и подозрительным, что у этого мальчугана, который раньше дрожал перед ним, теперь появились в голосе ноты какой-то снисходительности, пропал его прежний, бывалый страх, и разговаривает он с ним, как с приятелем. Кажется, что скоро вот возьмет папиросу и, расставив ноги, прежде чем закурить, постучит мундштуком о коробочку. «Почему? Чувствуете, что скоро умру, и теперь все равно считаться со мной нечего? Может быть, смерть уже ясно и отчетливо видна на лице?» – подумал губернатор, и что-то захолодело у него под сердцем. Он вгляделся в чиновника: молодое, обыкновенное обывательское лицо; вчера брился, франтовские закрученные усы; мажет их, должно быть, коричневым фиксатуаром.
– Не узнал? – боязливо спросил губернатор. – Значит, богатым буду.
– Обязательно, ваше п-во! – осмелился пошутить чиновник. – Богатым будете.
– А почему не узнал? Изменился я, что ли? – стараясь быть небрежным, спросил опять губернатор.
– Изменились, ваше п-во! – ответил чиновник. – Изменились! Прежде вы ходили в мундире генерал-лейтенантом, а теперь – в штатском костюме, не имеющем военного вида, и в черной шляпе.
Губернатор усмехнулся; под сердцем колыхнулась радость. Сделался милым этот темноватый пыльный костюм со множеством карманов, купленный в Берлине; входило в душу хорошее, легкое настроение; хотелось попросту глядеть на жизнь, как после летнего дождя хочется глядеть на свежее синее небо, – и губернатор спросил:
– Что же ко мне больше идет, мундир или пиджак?
– В мундире величия и грозы больше, – ответил чиновник.
– А в штатском?
– А в штатском – ничего подобного.
– Дело дрянь, – шутливо сказал губернатор, – нужно скорее мундир надевать.
Он с радостью и облегчением почувствовал, что старое величие и гроза – теперь утомительны для него. Когда в Наугейме выяснилось, что песня его спета, – то к душе вплотную, властно подошло новое, темное чувство, и с тех пор оно – всегда с ним. Дорогой все время он лежал на диване и как-то неожиданно уяснил себе, что штатский костюм, который он носил первый раз в жизни и с которым он не особенно еще умел справляться, дает ему новые, непонятные ощущения, и с ними не хочется и очень жаль расставаться.
Все ясней и ясней становилось, что в своей длинной губернаторской жизни он далеко отбросил от себя то высокое и истинное, чем Бог благословляет человека. Теперь понемногу рассеивается липкий и густой туман, который он принимал за воздух, и стало ясно, что не было в его жизни горячего солнца, яркого света. Жизнь его была, вероятно, самой печальной на земле. Тянулась ночь, длинная и темная. Ничего не разглядеть в этой тьме, и только, как тени, медленно плавали в памяти образы туманные, кошмарные, уродливые.
«Где же этот свет? В чем он? – думал все время, всю дорогу губернатор», – думал он и тогда, когда ехал с вокзала, когда увидел чиновника, когда вошел в прохладный каменный дом.
В приемной висело большое старинное зеркало в коричневой, когда-то отлакированной, широкой раме. Губернатор подошел к нему. На фоне глубоко отраженной комнаты с окном и кожаными истертыми стульями стоял старик с седою, не особенно ровной бородой, с коротко остриженными белыми волосами, с глазами, далеко и сурово ушедшими внутрь. Показалось не то важным, не то странным, что этот старик одет в темный, в плечах немного смявшийся пиджак, что галстук у него шелковый, длинный, как у щеголя. Губернатор долго смотрел на себя, на свои глаза, на галстук, на то место в плечах, где помялся пиджак, и мысли новые, созданные Наугеймом и болезнью, опять медленно зашевелились, как змеи в траве.
«Вот этот старик, утомленный, седой, – думал он, – одетый в непривычный костюм, должен повести борьбу с тем блестящим генералом, который ехал в Наугейм. Этот старик, сгорбленный, больной, должен поправить то зло, которое когда-то сделал блестящий генерал. Но как его нужно поправлять? Где оно и в чем это зло?»
Когда губернатор начинал думать о зле, то первым в воображении у него почему-то вырисовывался острог, стоявший в городе далеко, за акцизным управлением. Острог был двухэтажный, но казался всегда маленьким, приплюснутым к земле, и никогда нельзя было подумать, что в этом доме с красной, ржавой крышей и маленькими решетчатыми окнами живут люди с женами и детьми. Губернатору казалось, что все зло, которое есть на земле, сосредоточилось под этой крышей. В острог сажали по постановлению суда, следователей, ротмистра Клейна; но губернатор всегда переворачивал в мозгу, как тяжелый жернов, угрюмую и томительную мысль, что все эти изнуренные люди, больные женщины, голодные дети сидят по его приказанию и с его ведома.
Губернатор стоял перед зеркалом, жадно всматривался в него; сразу мелькнула мысль, что чиновник может по глупости подумать, что он любуется собой.
– Вскочил вот прыщ за дорогу. Послать бы за ртутным пластырем надо, – говорил губернатор, и не мог оторвать глаз от холодного серебряного стекла. Темный костюм как-то странно и неожиданно подчеркивал в нем то, чего он раньше никогда не знал и не ведал в себе. Было досадно, что сзади стоит чиновник, и губернатор быстро искал в уме: под каким бы предлогом выслать его из комнаты. Он оглянулся: у чиновника было такое выражение лица, как будто он собирается посоветовать средство от прыща, будет долго говорить, а в это время может ускользнуть из души то важное, что в ней теперь нарождается.








