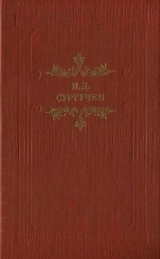
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Повернула Еленучча выключатель, и опять умерло все: провалилось куда-то, ослепло, упало в яму. В комнатах жарко.
«Пойду посижу в сад», – думает Еленучча и надевает туфельки, достает кофточку. Тихо, чтобы не скрипнула, отворяет она дверь и крадется по коридору. Надо пройти осторожно, чтобы не будить людей.
Вот контора. Вот столовая. Вот диван. Вот стол, на котором лежит книга для записи приезжающих.
Еленучча вспоминает, и от этого воспоминания почему-то хорошо делается на сердце:
– У него плохой почерк.
И кажется, что за это можно простить многое.
Отворяет дверь, и всю ее, как струей, обдает прохладой ночного сада. Хорошо! Хорошо вымыться воздухом. Вверху – небо, теперь такое заметное.
«Оно больше земли, – думает Еленучча, – походить бы по небу. А звезды – как цветы на стеблях. У бога – серебряные цветы. У бога – серебряный цветник. Богатый бог».
Сад спит, тихо опустивши листья. Где-то, в деревьях, спит попугай. У попугая бывают сны или нет?
Вдруг взгляд Еленуччи падает на балкон, и она, почему-то зажав уши, бежит в глубь сада.
– Не думаю, не думаю и не хочу думать о тебе, – шепчет она, – не хочу. Теперь ты – не мой. Теперь ты – чужой. Я не дам тебе поцеловать даже кончик своего мизинца… Ты мне не нужен. Уедешь в свою Россию, – я даже не вздохну, и не вспомню, и лист из книги, где ты записал свою фамилию, вырежу. Только чтобы отец не заметил.
Тихо в саду.
«Буду колдуньей, – думает Еленучча, – буду колдуньей. Заворожу цветы, пусть не спят. Вот эти. Я знаю, что вы влюблены в фиолетовые. Ну, как вам не поцеловаться? Спешите, пока ночь, пока никто не видит. Постойте, помогу!»
Видит красный цветок, срывает его и подносит к фиолетовому.
– Вот целуй скорее, пока жив еще! – беспокойно шепчет Еленучча. – А то к утру умрет. Целуй!
И кладет его на фиолетовые цветы.
Вдруг сразу что-то приходит в голову.
«Постой! – думает она. – Я же тебя!»
В саду, в углу, лежит куча камней: есть и большие, и маленькие. Ыпенучча выбирает маленькие и считает: раз, два, три… Взяла шесть штук: все такие хорошенькие, гладенькие.
Балконная дверь, та, на которую не хотелось смотреть, отперта. Кровать его – недалеко от двери.
– Ты спишь? – сама с собой тихо разговаривает Еленучча. – Так не дам же тебе спать. А проснешься – убегу.
И, затаив дыхание, бросила вверх один камушек: не попала. Бросила другой: ударился об решетку. Изловчилась, бросила третий: влетел в комнату, и не было слышно, как ударился об пол. Должно быть, попал прямо в кровать, в него, в спящего, – может быть, ударила? Ушибла? Только бы не в голову, не в глаз, боже спаси!
Отскочила назад в темную глубь сада, ждет: не проснется ли? Не выйдет ли на балкон? Нет, никого. Ни шороха. Спит. В такую ночь!
Подкралась опять, закусила губу, прицелилась и снова бросила камень. Этот стукнул, ударился обо что-то твердое: или об пол, или о спинку кровати, – кровать деревянная. И снова нырнула в черные тени, мешающие земле посмотреть на месяц, опять ждет, – никого! И опять вышла на свет, смелее бросила еще камень, пятый, шестой – теперь верен глаз: все летят в комнату. Теперь проснется. Теперь выйдет на балкон. Ждет Еленучча. Никого…
«Ну и спит! – думает Еленучча. – Ну и спит!»
И опять ей скучно, и надоела чернота сада: трава, цветы покрыты тенями, как черными простынями, плохо выглаженными, дырявыми. Небо, хоть оно и больше земли, и больше моря, а скучно. Скучно, так скучно, что ничего не поделаешь.
– Хоть бы кинематограф ночью был, пошла бы в кинематограф! – говорила Еленучча. – Но какой же ночью кинематограф?
Скучно. Решительно скучно. Хоть плачь.
Потом смягчается сердце. «Пусть себе спит, – думает она о русском, – может быть, много гулял, читал, или пришли посланные богом хорошие сны. Буду думать вот о чем, – решает Еленучча, – буду думать о подругах: о Марии, об Анне и Розалии. Все они – хорошие девочки. Все они, – лучше меня. Я напрасно, глупая, горячусь. Все они красивее меня. Сегодня я вообразила, что это меня хотели снимать англичане. Это они снимали Марию и Розалию. Все любят этих девушек. Если бы на моем месте была Мария, то разве этому русскому могла прийти в голову мысль: писать русской синьоре? Или бы спал он в такую ночь, когда в саду, в черной тени, сидит и который вот уже час ждет его Мария, – милая, славная красотка Мария?»
Долго сидит так Еленучча и то думает, то разговаривает сама с собой. Вдруг вся сразу вздрогнула:
– Господи! Неужели заснула в саду?
Откуда-то слышится тихий разговор, женский смех. Где это? Кругом никого нет. Неужели приснилось или почудилось? Вдруг кто-то толкнул: взгляни вверх. Взглянула.
Там, у него, на балконе, женщина. Вышла из комнаты и смотрит на море: оперлась на решетку. На ней длинное, плохо застегнутое платье; волосы наскоро собраны в большой узел; руки – белые: при лунном свете они кажутся выточенными из мрамора. Вся она грустная и красивая: смотрит на море.
«У него женщина. К нему пришла русская синьора», – думает Еленучча и боится, что кто-нибудь – сад ли, цветы ли, птицы ли, спящие на деревьях, – услышат ее мысли: все это теперь ожило: все смотрит, все слышит, все подползает к ней ближе, жадное, протягивающее лапы…
Она чувствует, что не может двинуться с места, что застыло все: пальцы, руки, ноги, шея… Потом только, немного спустя руки, слава богу, начинают трястись и верхние зубы не попадают на нижние: лихорадка.
«У него женщина…»
Какие еще слова остались в памяти?
«У него женщина…»
Как змея, она тихо, беззвучно переползает на другое место; тихо, без шороха, раздвигает ветви, ползет по кустам, по цветам, давит розы, тюльпаны: нужно, чтобы было видней, – смотрит вверх сухими блестящими глазами.
Проходит некоторое время, и Еленучча чувствует, что она, слава богу, выходит из оцепенения: вспоминаются другие слова и ползут в мозгу так же осторожно и тихо, как она – по розам, но тюльпанам.
«Это и есть та самая русская синьора, – будто молоточком кто-то настукивает в мозг, – в том письме она писала ему, что придет сегодня, и пришла. Пришла в тот час, когда все устали, когда все легли спать.»
Нельзя удержать зубы на месте: опять стучат. Еленучча стискивает их до боли, – тогда начинает трястись подбородок. Трясутся колени, хочется закрыть юбкой ноги, но юбка – коротка, не достает, – и холодно, холодно! Откуда такой холод в июньскую ночь?
Она его не любит, ей все равно, кто бывает у него ночью ли, днем ли, но ей холодно, как в ноябре, когда даже в Неаполе выпадает снег. Она схватывает рукой куст роз, и колючки, как змеиные языки, густо впиваются в ладонь, – в первый момент хотелось крикнуть от боли, но сейчас же, – как крадущийся вор шепчет молитву, – так зашептала и она:
– Это хорошо, Еленучча. Это хорошо, Еленучча. Не кричи. Молчи. Будь тихой.
Завтра на цветах видна будет кровь.
– Это ничего, Еленучча. Только молчи.
Завтра на дорожках сада, посыпанных белым песком, будут следы крови. Первое, что может всем прийти в голову, это будет мысль: здесь зарезали или тяжело ранили человека, – вот следы.
– Это хорошо, Еленучча. Пусть думают что угодно… Только сумей молчать.
Ломаются и никнут к земле тюльпаны. И кусты, рождающие белую сирень, будут в крови.
– Ничего, все ничего, – шепчет Еленучча, – я насажу цветов еще лучших, чем эти, но теперь нужно молчать.
Хорошо было бы проскочить теперь в комнату, достать самое толстое одеяло и укрыться с головой и лежать так смирно, чтобы дыхания не было слышно. Чтобы не было слышно, как они – он и она – спустятся по лестнице, как они – он и она – будут воровать у мраморной лестницы звук своих собственных шагов; чтобы не было слышно, как скрипнет, быть может, парадная дверь; как прозвучит последний, прощальный поцелуй.
Сухими глазами смотрит Еленучча наверх, на балкон. Редко, сами собой, моргают ресницы. Нужно сделать усилие, чтобы моргнуть.
– Ага! Вот и он!
Вышел, на ходу застегивая пиджак. Стал около своей любимой, что-то говорит ей, что-то, улыбаясь, показывает ей, и вдруг тихо обратно в сад падает с балкона маленький камушек.
Еленучча закрыла лицо руками; слышит, как заскрипели зубы. Надо стиснуть их еще крепче, пусть они, острые, глубже вонзаются в десны, иначе же можно крикнуть, крикнуть на весь остров; можно упасть на траву и вырвать все свои волосы.
Слышно: вот еще падает камень, – другой. Еще падает камень, – третий. Он подобрал их, – все камушки, которые она бросила.
Как было это, вероятно, смешно! Он, конечно, рассказал русской синьоре:
– Это бросает их маленькая итальяночка, дочка моего хозяина. Вся беленькая такая. Она влюблена в меня. Но я, конечно, ее не люблю.
– Ты бросишь ей эти глупые камни обратно? – спросила, конечно, русская синьора.
– Брошу, конечно!
– Пусть она, маленькая и глупенькая итальяночка, знает, что ты любишь только меня.
– Пусть знает.
– А ты ее не целовал?
– Ну, что ты? Буду я целовать какую-то девчонку!
– Мне рассказывали, что здесь, на острове, есть какая-то беленькая королева. Дочь содержателя отеля. Ты ее не знаешь?
– Знаю. Это дочь содержателя другого отеля.
– Ты только меня любишь?
– Только тебя.
Летит сверху еще один камушек. Упал и умер. Завтра с дорожки сметет его в траву Пасквалино. Обиженный посланец!
Слышен тихий разговор, тихий смех. Если говорят или смеются, то смотрят друг на друга. Если молчат, – смотрят на море. А на море – бессонница: светит луна, щекочет светом волны; собрались теперь около острова рыбы из Неаполя, из Искии, из Прочиды, из Сорренто, справляют бал, обсуждают свои дела.
И опять тихо падает с балкона камушек, – последний, – и звук этого падения внезапно просветляет ум: слава богу! Все ясно. Что говорить о любви? Нет любви. Еще болит сердце? Но Еленучча думает, что оно уже не болит.
– Какое счастье! Какое счастье! – быстро, быстро шепчет, утирая глаза, Еленучча. – Какое счастье! Уже не болит сердце. Уже снова весело. Снова хорошо. Снова я – прежняя девочка. Снова завтра поплыву с подругами в море.
Она теперь уже никогда не уйдет от них. Будут, как стая рыб, гурьбой ходить по острову. Она будет царевна, они – фрейлены. Она будет хорошо с ними обращаться. Все будут смеяться и радоваться.
«Только нужно сделать это. Это нужно сделать. Непременно!»– думает Еленучча, и сама еще не знает, как «это» сделать.
Она тихо идет к забору.
– Нужно тихо, тихо! – ободряет она сама себя, осторожно раздвигая кусты. Оглядывается: все стоят. Молчат. Смотрят на море.
Около забора есть куча увесистых камней, похожих на большие вытянутые пули, – привезли их с моря еще весною, – поправлять дорожки, обкладывать клумбы. Еленучча приползла к ним, нагнулась и в темноте выбирает, пробуя на вес то один, то другой: нужен такой, чтобы руке было хорошо держать его, чтобы удобно и цепко можно было держать его, чтобы ладонь хорошо и плотно могла зажать его. Примерила пять штук, шесть, – нашла такой.
«Вот он!» – думает Еленучча радостно.
Словно сделан по руке, холодный и скользкий, приятный.
Спрятала левую руку, в которой камень, за спину. Правою раздвигает кусты. Вытянула голову, прислушалась. Тихо. На балконе стоят? Стоят. Смотрят на море. Тихо.
«Поползу», – думает Еленучча.
И ползет на прежнее место затаив дыхание.
Теперь что-то говорит он, указывая рукой на море: жест плавный, покойный, будто читает стихи. Конечно, он говорит о море. Он говорит о том, как оно велико, как сине, как прозрачно, как бездонно, как одна и та же полоса его превращается то в серебро, из которого чеканят деньги, то в золото, из которого куют обручальные кольца.
Русская синьора слушает, что он говорит. Она не сводит с него глаз. Складки ее одежды лежат лениво, вся она ленивая, трудно ей стоять, устала.
«Слишком много целовались», – подумала Еленучча, и внезапно по всему телу как будто бы вскрылись раны, и было больно от них, и казалось, что течет из них кровь…
Ноют раны, болят, но сладка боль и жгуча.
«Ты недобрая, эта ночь, – думает Еленучча, – ты повела его к другой. Твои сестры, прежние ночи, были добрее и лучше. Первый раз, когда он меня поцеловал, была темная ночь. Пусть имя ей будет Еленучча. Помяни, господк, Еленуччу. Вторая ночь была светлее, вышел кусочек месяца, – эта ночь: Мария. А третья ночь, когда месяц был светел и когда нужно было прятаться под деревом, эта Анна. Вот мои три подруги».
Еленучча видит, как он берет ее голову руками, как долго смотрит в ее глаза и как нежно прикасается к ним губами: то к одному, то к другому.
Есть на земле любовь? Нет на земле любви. Болит сердце? Не болит сердце. Камень, что в руке, твердый. Он гладко поворачивается в ладони. Хороший камень. Еленучча тихонько, еле открывающимися губами, целует его, этот камень.
– Ага! Это они прощались!
Скоро утро. Она уходит. Неужели он не пойдет проводить ее, свою возлюбленную? И Еленучча упорно, пристально, как застывшая, смотрит в подъезд: не мелькнут ли там тени? Как долго они, влюбленные, медленно, лениво, прижавшись друг к другу, идут в темных коридорах, тихо, нога в ногу, спускаются по ступеням…
И время тянется долго, и они идут медленно.
Тихо, чтобы никого не разбудить, открывается дверь. Он – в своей проклятой, такой красивой шляпе, первый выходит из двери и оглядывается по сторонам: не видит ли кто? Нет ли кого в саду?
– Никто, никто не видит! – беззвучно, не шевеля губами, отвечает ему Еленучча, – В саду нет никого. Не беспокойся!
В темноту подъезда он сделал жест, означающий: «Никого нет. Иди».
Выходит она, закутанная в кружева; видна ее тонкая, худая рука, длинные пальцы, поддерживающие косынку. Из-под косынки выбились па лоб несколько прядей волос…
– Красива ты, – беззвучно, не шевеля губами, говорит ей Еленучча, – не спорю с тобой. Ты – королева.
Они идут к воротам. Ворота чугунные, решетчатые, и кажется, что на противоположной стене, залитой светом, кто-то начертил строгий черный узор.
Еленучча одной ногой выступает на освещенную дорожку. Он делает шаг к воротам, она смотрит им в спину, боится, чтобы не оглянулись, и тоже делает шаг к подъезду. Вот они проходят одно окно, другое. Вот третье. Он знает, что за этим окном спит она, Еленучча.
Неужели даже не взглянет? Неужели не вспомнит?
Все замерло в Еленучче. Куда делось дыхание? Расширились глаза, больно им, будто она, не моргая, смотрит на солнце, в сто раз большее, чем солнце, висящее на небе в летний день. Стынет рука, сжимающая камень, холодный камень.
Не взглянул. Прошел мимо.
Зажглось сердце. Опять загорелась огнем рука, в которой – холодный камень.
Открывают ворота. Спускаются по порожкам.
Еленучча взмахивает правой рукой: в ней – камень. Как хорошо видит глаз! Как широка его спина!
«Бросить ли?» – мелькнула в последний раз мысль, и не родилось в мозгу ответа.
Вдруг они остановились. Сейчас должны выйти на улицу. Там их всякий может увидеть, поэтому нужно проститься здесь. Тонкие руки высвободились из-под кружев, обвили кольцом его шею.
Темнеет сознание. Только ясно видна спина.
И больно, и какая-то сладость на сердце. И прекрасно видят глаза, и сильна занесенная вверх рука.
Он опять, как на балконе, берет руками ее лицо, любуется им и говорит, вероятно:
– Как красивы твои глаза!
И все сильнее делается рука, вернее, чем самые дорогие друзья, видят глаза.
Он целует ее глаза.
– Любишь?
Может быть, она крикнула это слово?
Потемнело на мгновение сознание.
– Трах!
В спину. Прямо. Хорошо.
Еленучча юркнула в дверь и, пригнувшись, побежала к себе.
В комнате тихо и темно. Слава богу, мать спит.
Еленучча скользнула под простыню, накрылась с головой, затаила дыхание. Тишина, тишина… Молчание. Идет время. Скоро утро. Кончаются ночные празднества. Расплывутся рыбы: кто в Искию, кто в Прочиду, кто в Сорренто.
…Кровь льется из сердца. Слезы льются из глаз. Ах, эти слезы! Иногда их камнем не вышибешь, а иногда они сами льются, и ничем их не сдержишь, и их много: их хватит до самого утра.
Ослабли руки. Поникла голова.
А мать что-то говорит во сне. Как будто ругает Пасква-лино.
– Пасквалино, Пасквалино, важный Пасквалино! Хоть бы ты пожалел, хоть бы ты слово сказал! Одно только слово! Я бы за тебя вышла замуж, и был бы ты хозяин отеля и сам бы бил маленьких мальчишек!.. – шепчет Еленучча…
Следы вчерашнего
I. Длинные мундштуки
В зале: на пианино, на подсвечниках и в пепельнице, похожей на лапоть, – всюду лежат длинные, белые бумажные мундштуки от докуренных папирос. Такие гильзы в табачных магазинах называются «графскими». Эти папиросы курит один мой знакомый, начинающий писатель, который иногда, большей частью перед вечером, заходит ко мне за советами.
Вчера он сидел у меня, убитый горем. Нагнувшись, закрыв лицо руками, он говорил, и голос его был глух:
– Боже мой! Боже мой! Если бы вы знали, как мне тяжело! Как мне тяжело! Капля за каплей я собирал в своей душе эту драгоценную, душистую жидкость! В праздничный день я наполнил ею серебряный сосуд и понес ему. А он… а он посмотрел на меня презрительно и толкнул сосуд ногою, – и полилось все это, что я собирал годами, – полилось на землю… Если бы вы знали, как я страдаю!
Я лежал на диване, и слушал, и думал о том, что написано в его рукописи. Эта рукопись мне известна. Восемь раз она переписана, переписана левой рукой, потому что этот еще ни разу не напечатанный писатель болен атрофией и не может писать правой. Мне казалось, что у него есть талант. Рассказ его в некоторых местах мне нравился: была в нем и наблюдательность, и способность изобразительности. По моему совету он послал его известному писателю. И вот вчера рукопись пришла обратно. Наверху, около заглавия, красным карандашом было написано одно только слово: «Малограмотно».
– Разве я посылал ему, – говорил молодой человек, не отрывая рук от лица, – за тем, чтобы узнать, грамотен я или неграмотен? Если бы мне нужно было знать это, я пошел бы ближе, в гимназию, к учителю словесности. А не к нему. А я пошел к нему за тем, чтобы узнать, есть ли у меня талант, – талант, да, а не грамотность. А он – «малограмотно».
Начинающий писатель нервно подернул плечами, встал и так же нервно прошелся по комнате и вдруг усмехнулся.
– И на кой черт он мне нужен? – вдруг другим тоном, дерзким и вызывающим, сказал он. – На кой черт мне нужны его слова? Я и сам знаю, что я – талант! Сам знаю! Без вас! И все равно я буду писателем! Буду! Я стал на этот путь, и сам сатана не столкнет меня с него. Да, но… но все-таки…
И голос молодого человека снова упал и задрожал… Он стоял ко мне спиной, и я только чувствовал, что на глазах у него, как первые звезды в весенний вечер, выступили слезы.
– Но все-таки… – тихо повторил он, – мне тяжело… Очень тяжело!
Он взял свою рукопись, писанную левой рукой, и не моргая долго всматривался в заголовок, где ярко светил красивый, четкий карандаш.
…Этот писатель все время курил папиросы, у которых были очень длинные мундштуки, – они теперь торчат всюду: и на пианино, и на подсвечниках, и в пепельнице, похожей на лапоть…
II. Письмо
Когда наступает осень; когда небо, как ведьма, из красавицы превращается в злую старуху и целыми днями брюзжит и не знаешь, когда придет конец этому; когда злее и раздражительнее становится обыватель, запертый в своем скучном и сером городе; когда отовсюду выползают и начинают ворчать старики, – плохие провинциальные старики, уже умирающие и еще не знающие, что такое смерть; когда адвокаты, самые интересные люди в городе, идут в клуб, играют и за весь вечер проигрывают в стукалку по три с полтиной; когда отовсюду ползет скука и жизнь делается противной и омерзительной, – тогда Анин зажигает лампу, открывает средний ящик стола и достает оттуда письмо.
Это – длинный, мудреный листик, который посылается без конверта и склеивается по краям. На обратной стороне, рядом с круглыми почтовыми штемпелями, тянется адрес, который говорит, что письмо это когда-то пришло из Москвы в Петербург, на Гороховую улицу, в Графские меблированные комнаты, в номер 8.
В этом письме мелким, без нажимов, почерком написано:
«Как быстро все прошло. Так много хотелось сказать, спросить. Ты поторопился со своим отъездом. Тебя тянуло в Петербург.
В этот приезд ты уже не замечал моей любви. Ты забыл лето и далекий город. Ты забыл, как мы каждый вечер уходили на полотно, спускались с высокой горы, ложились на зеленой траве.
Небо было всегда ярко, и я уверяла тебя, что в северном венце справляют праздник: играет музыка, горят ярко свечи, пестреют бархатцы, алеют георгины.
Ровно в одиннадцать часов начинало слышаться глухое, отдаленное гудение, дрожала земля: это пролетал поезд, который потом и тебя, и меня унес сюда, на север, в чужую жизнь. На повороте, возле балки, мелькал в последний раз цветной фонарик, и мы снова оставались одни, и опять темная ночь была нам ласковой матерью.
Раз ты, поднявшись на локте, прислушался к музыке, которая неслась с горы, из города, вероятно, из какого-нибудь сада. Солдаты, вероятно, играли громко, грубо – но сюда, до нас, долетала мелодия нежная и широкая, которая родилась у автора ночью, быть может, среди слез и печальных поцелуев.
И ты сказал:
– Я не знаю, как называется эта музыка. Но я, вот сейчас, посвящаю ее тебе, этой ночи, этому небу. Где бы, когда бы я ее ни услышал, – буду думать о тебе, вспомню эти теплые вечера, вспомню твои глаза, твою улыбку, – всю вспомню тебя, мою зорю ясную…
А огоньки, которые я тебе проспорила? Как мне нужны были тогда, одним утром, огоньки! Непременно те самые, что растут в городском саду, в цветнике, под высоким фонарем. Рано-рано, сначала по спящим улицам, потом по росистым аллеям, я бежала к дому садовника, – садовник еще спал, и мне хотелось постучать в решетчатую закрытую ставню и тихонько-тихонько сказать ему:
– Садовник, встань. Мне нужны цветы для моего милого. Мне нужны те огоньки, что растут в цветнике, под высоким фонарем.
Хотелось сказать это тихо, чтобы не разбудить жену его, – и я побоялась, и не постучала, и не сказала.
Пришлось терпеливо, дрожа от утреннего холода, сидеть на влажной еще скамейке, пока проснулся и вышел из дома сам Карл Борисович, еще заспанный, еще неумытый и серый. Целый час он не соглашался резать огоньки под фонарем и говорил, что по контракту с городской управой он имеет право продавать цветы только из оранжерей, – и все-таки мальчик принес тебе проспоренные огоньки из-под фонаря и потом вечером ты сам видел следы преступления Карла Борисовича…
Письмо длинно, и я, чувствую, пишу то, что ненужно…
Люблю ли я тебя? Не знаю. Но я так жду, когда наступит скучный московский вечер и сквозь двойное окно будет слышен тихий монотонный звон к вечерне. Я тогда не зажигаю огня. Я ложусь на диван, закрываю глаза и вижу яркий северный венец и слышу, как дрожит земля под пролетающим поездом.
Двенадцать уже пробило.
Где-то, за океаном, за высокими горами, за глубокими синими реками рождается день, который не несет мне ничего нового.
Прощай. Письмо и длинно, и неразборчиво…»
Когда Анин перечитывает по памяти это письмо, то перед ним оживает далекое теперь, задумчивое, уже страдавшее лицо с глубокими темными глазами, с волной волос, спадающих на угловатые, девические плечи…
И исчезает осень; и опять роскошной, синеокой красавицей раскинулось небо, и нет раздражения на этот глупый, глухой провинциальный город, где живут старики, не умеющие сказать, что такое смерть, и адвокаты, проигрывающие но три с полтиной в стукалку и считающие это таким событием, о котором можно проговорить с женой всю ночь до зари…
III. Профессор
Всякий раз, при встрече, я низко ему кланяюсь. Я люблю встречать его в густой толпе Невского проспекта, еще издали видеть, как он, старый, сухонький профессор, осторожно пробирается среди этого неудержимого человеческого потока. Еще за несколько минут, которые мне представлялись очень длинными, я предвкушаю это удовольствие: снять шапку и низко поклониться ему. И тот день, когда я встречаю его, бывает у меня днем особенно хорошим, таким, будто вот было больно – и тебя утешили, мягко и ласково.
Вчера, в воскресенье, еще издали, я увидел его. Погода была удивительная: легкий мороз, совершенно ясные дали, и Невский весь как на ладони: от памятника до Адмиралтейства. Профессор шел в своем неизменном пальто с полу-поднятым воротником и нес в руках что-то круглое. Судя по упаковке и красной ниточке – торт.
Когда около церкви св. Екатерины мы поравнялись, я снял шапку и поклонился. И вижу, профессор остановился и явно направился ко мне. Остановился и я.
– Скажите, пожалуйста, – сказал профессор, подавая руку, и голос его прозвучал так же далеко и знакомо, как и в тот осенний непогожий вечер, – скажите, пожалуйста, – повторил он, и как это с ним постоянно бывало на лекциях, шевелил пальцами, точно нащупывая следующую, нелегко дающуюся фразу, – всякий раз, когда я вас встречаю, вы мне кланяетесь.
– Да, – ответил я, испытывая так хорошо мне знакомое, особенное, благодарное настроение, – всякий раз, когда встречаю вас, я низко кланяюсь вам.
И подчеркнул слово: низко.
– Да-с, – подтвердил профессор, забирая торт из левой руки в правую и опять подыскивая следующую фразу, – вот видите ли… Вы, вероятно, мой ученик?
– Да, профессор, – ответил я, – я ваш ученик.
– Представьте, не помню вас, – говорил профессор, благодушно улыбаясь: – ищу, ищу вот в памяти, и как будто что-то знакомое есть, а припомнить не могу. Хоть убейте.
– Удивительного мало, – сказал я, – у вас так много учеников. А держал экзамен я у вас на дому, в темный осенний вечер.
– В темный осенний вечер? – почему-то испуганно переспросил профессор.
– В темный осенний вечер, – повторил я, – и экзамен был тогда, так сказать, экстраординарный.
– Экстраординарный? – уже удивился он: – Но почему экстраординарный?
Сухонький профессор зашевелился. Он то постукивал по коробке сморщенными, широкими в суставах пальцами, то как-то перебирал нитку, отчего круглая коробка крутилась в одну сторону, как карусель. Поэтому, прежде чем ответить ему, я заметил:
– Не крутите нитку. Нитка может порваться, и торт упадет.
Профессор взглянул на меня своими ясными, близорукими глазами и уверенно сказал:
– Нитка? Нитка нет, не порвется. Торг, видите ли, мокко, – объяснил профессор и возвратился к первоначальному разговору: – Ну-с? Итак, почему же экзамен был экстраординарным? Я что-то не помню. Вас, вероятно, выгоняли из университета, или что-нибудь в этом духе подобное?
– Нет, профессор, – ответил я, – не в этом духе. Видите ли, – говорил я, заражаясь его манерой, – у меня далеко на юге в тот день умерла жена.
– Что-с? Жена? – И в глазах профессора как будто мелькнули следы какого-то старого, но еще не плотно забытого воспоминания.
– Да, жена, – напомнил я, – я получил телеграмму, и мне нужно было выехать в тот же день, но в то же время, я уже не помню почему, мне необходимо было выдержать у вас экзамен. Экзамен по расписанию мог состояться только через неделю, но ждать, пока пройдет эта неделя, конечно, нельзя было, и вот я пришел к вам…
– И мы в это время обедали, – сказал профессор.
– Да, вы в это время обедали, – подтвердил я, – но когда я рассказал вам… в чем дело, вы бросили обед.
– Помню, – отчетливо вымолвил профессор и глубоко моргнул, – помню..
– Вы успокоили меня, – говорил я, – дали мне белого вина.
– Да, и когда вы его пили, – помогал мне профессор, – у вас стучали о стакан зубы.
– Может быть, – согласился я, – может быть, и стучали зубы. Вы успокоили меня, и от вас, и от вашего темного, серьезного кабинета шло ко мне какое-то большое, умиротворяющее чувство. Потом вы меня проэкзаменовали.
Я знал всего только десять билетов. Я только начинал готовиться к вашему экзамену. Вы спросили меня о каких-то пустяках, спросили так мягко, так участливо, с тем только, чтобы соблюсти, видимо, формальность.
Я рассказывал и видел, как профессор явно волновался.
– Ну-с? Ну-с? – торопил он меня.
– Да и все, – закончил я, – вы поставили мне высшую отметку, и я с последним поездом, в ту же ночь, выехал из Петербурга.
Профессор явно и все больше и больше волновался, все круче вертел тортом, и я в глубине души предвидел катастрофу: нитка была очень ненадежная.
– И вы с тех пор не женились? – вдруг торопливо спросил он.
– Нет, – ответил я, – не женился.
– Что же, у вас остались после покойной жены дети?
– Да, остались. Две девочки.
– Сколько им лет?
– Старшей – девять. Младшей – семь.
– Как же их зовут?
– Старшую – Колокольчиком. Младшую – Елочкой.
– Где же они живут?
– На юге.
– С кем же они живут?
– С бабушкой. С моей матерью.
И вдруг нитка с легким треском лопнула, и торт полетел на тротуар. Предположения сбылись.
– Боже мой! Торт! – бросился я помогать нагнувшемуся профессору.
– Да, да, торт… Ишь ты ведь… Три с полтиной стоит, – бормотал профессор, перчаткой смахивая с коробки снег.
– Но мне кажется, что он не повредился, – утешал я профессора, видя его смущение, – торт, – говорил я, – упал не ребром, а плашмя. Если ребром, то было бы худо. А так… пустяки.
– Да, да, если бы ребром, то, конечно, – пробормотал профессор и вдруг взглянул на меня, – к великому своему изумлению, я увидел, что из его ясных, серых глаз текут редкие, медленно рождающиеся слезы.
«Черт возьми, – подумал я, – ему жаль торта».
Явилась досада. «Ведь вот, – думал я, – хоть не прямо, косвенно, а все-таки причинил ему неприятность и убыток: торт стоит три с полтиной, мокко, – и притом, может быть, и в самом деле это какой-нибудь особенно удачный торт».
Профессор стоял как раз против света, и мне было ясно видно, как на глазах его, серых и беспокойных, рождались крупинки слез и одна за другой текли по щекам вниз.
– Вы меня простите, – вдруг сказал профессор.
– Что такое? – спросил я удивленный.
– Простите! – тихо повторил профессор.
– Но за что? За какую вину? – спрашивал я.
Профессор замялся и опустил глаза.
– Видите ли, тогда, – заговорил он, избегая моего взгляда, и снова вдруг замолчал. Слышалось только гудение и шум беспрерывно двигавшейся толпы, голоса, мужские, женские и девичьи.
– Видите ли, тогда, – снова начал профессор и, словно решившись, прямо взглянул мне в глаза, – в тот вечер… я не поверил вам. Ну, думал, обычный студенческий прием… Есть, видите ли, такие шалопаи… Часто бывает… Пришел, притворился, подчищенная телеграмма, то, се, разжалобил старого дурака и получил, господи, видишь за что, пять. Я в таких случаях, видите ли, – сконфуженно говорил профессор, – просто не противлюсь злу.
Мне почему-то стало больно, было жаль того хорошего, ясного чувства, которое вот уже несколько лет жило в душе.
– Так-то! – сказал профессор и вдруг опять чуть не уронил торт, вовремя подхватив его левой рукой.








