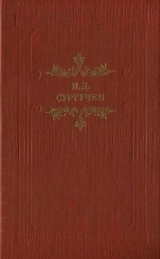
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
Сорокоумов – это великолепный пример, что в предместье жилось весело. Кроме того, умный человек всегда, только была бы охота, находил себе там массу других, не менее великолепных удовольствий. Например, бывалые люди, вроде Афоньки Головастика, уверяли, что стоит подняться на гору в город, и самые обыкновенные яблоки, которые здесь можно видеть за любым забором и которые, так сказать, сами просятся в руки, – в городе стоят десять копеек за фунт, и едят их там, поэтому только такие господа, которые для простого смертного, все равно что солнце для букашки. А в предместье будь только предприимчив, не выбирай заборов с гвоздями, которые вредны для штанов, знай, где живет хозяин, у которого ружье не заряжено горохом или просом, – и карманы будут трещать от добра, за которое в городе нужно платить гривенник. И если бы у человечества не было таких мест в теле, которые для проса или гороха, выпаленного из ружья, все равно что масло для каши, – на свете жилось бы еще легче, ибо даже недосягаемые сады грузина Кикнадзе сделались бы доступными царю природы.
II
Сегодня Ванька лежал в постели, один в хате, так как мать его еще в три часа утра ушла в город торговать зеленью и молоком, – и обсуждал все то, что ему до сих пор пришлось пережить и что предстоит в будущем. Вышла такая оказия: оказалось, что ему, Ваньке, нужно зарабатывать деньги и, что еще страннее, – что он может зарабатывать их, те самые медные, круглые пятаки и трехкопеечники, которые мать всегда приносила с базара и считала своими мозолистыми, заскорузлыми пальцами, причем, рассматривая иную монету на свет, говорила, неодобрительно качая головой:
– Ишь ты! Всучили! Совсем стертая!
Он, Ванька, может зарабатывать их, и не только может, но выходит такая оказия, что и должен, ибо всякий порядочный единственный сын, раз он уже вырос, должен кормить свою старуху мать, которой пришла пора бросить житейские дела и заняться спасением души. Это, конечно, такое положение, против которого Ванька особых возражений не имеет, но все-таки он был очень удивлен, когда в прошлую середу, лишь только он сел есть постный борщ, мать ему сказала об этом и добавила, что уже хлопочет об определении его на службу в трактир «Город Кострома», где служил его, Ванькин, покойный отец.
Ванька, откинув ногой ситцевое, из разноцветных лоскутков одеяло, лежит на постели, смотрит в потолок, закинув руки за спинку кровати, и соображает, много ли ему нужно денег для поддержания жизни своей и материной. «Старуха, – думает он о последней, – съест немного, потому что корова – своя, молоко, следовательно, свое и этот расход из головы вон; но все-таки, как ни крутись, копеек на двадцать в месяц сожрет. Сам на пятиалтынный слопаешь», – думает Ванька, морща лоб.
– А мне еще новые штаны надо всякий год! – вслух решает он и поворачивается к окну, подпирая рукой задумавшуюся голову, – А где их возьмешь?
Потом Ванька вспоминает, что штаны можно устроить из оставшейся после отца хурды-мурды, и вопрос принимает грозные размеры, если подумать, что каждый человек, зарабатывающий деньги, должен носить сапоги. Дальше – больше, и оказалось, что на свете есть такая масса всяких непредвиденных расходов, каких и на бумагу не запишешь. Например, такие пустяки, как стричься и бриться.
– Все деньги надо! – решает Ванька со вздохом, пожимая плечами, – А откуда их, чертей, добудешь?
Его отец был пьяница и служил в «Городе Костроме» номерным, и когда его жалели, что он умер от водки, то говорили:
– Золотой был человек!
И Ванька помнит, как этот золотой человек, с колючим небритым подбородком, с какими-то странными осовелыми глазами, брал его, еще совсем маленького мальчишку, под мышки, высоко, до самого потолка поднимал и говорил:
– Эх, ты мой наследник!
Или, научив Ваньку пойти к матери с папиросой в зубах, говорил, закатываясь мелким смехом, когда та начинала ругаться:
– Это не Ванька, а мешок с мармеладом!
А когда Ванька садился к нему верхом на колени и ехал, как казак за Дунай, то отец рассказывал ему:
– Вырастешь – грамоте тебя выучу! В школу тебя отдам! Нотам тебя выучу! Бас у тебя будет! И поступим, братец ты мой, вместе с тобою в архиерейский хор. У меня, брат, замечательнейший тенор! Зам-мечательнейший! Сам архиерей хвалит, когда пою… Вон в том соборе пою, – видишь, на горе высокая колокольня стоит? Там пою… Только хозяин, сволочь, – не каждый праздник пускает… А церковь там, брат, аграмадная!
И отец делал страшное лицо.
– Аграмадная! И иконы там… Бриллиантовейшие! Архиерей послушает и скажет: «А кто это такой поет?» Ему ответят: «А это, ваше преосвященство, Корольковы, отец и сын». «Вот голоса! – скажет архиерей, – Дать им десятку на водку!» А регент скажет: «У них, ваше преосвященство, и дед, и прадед голосистые были. Бывало, деда на конюшню ведут драть, а дед как запоет песню, – барин нюнить начнет да и скажет: «Бросьте его, подлеца, пусть поет!»
Отец рассказывал хорошо и занятно, век бы слушал, ехать было так удобно, но приходила мать, сердитая, ворчливая, вырывала у него Ваньку и говорила:
– Налопался, азиатец проклятый? Все спустил, чтобы тебе к вечеру издохнуть!
И презрительно добавляла:
– Тенор!
Ваньке было всегда жаль отца, который, покачиваясь, начинал шарить у себя в карманах и ничего не находил, потом откуда-то, из-за подкладки, вынимал что-то круглое, неровными шагами подступал к матери, совал ей что-то в руку и с усмешкой говорил:
– На тебе! Не сердись! Купи себе лихорадку! Под-да-вись! Б-баба!
Потом, в самую осень, когда по реке пошел лед, умер отец. Этот человек, который пел тенором в архиерейской церкви, лежал на столе, покрытый золотым одеялом, и лицо его было повязано платком, будто у него болели зубы. По Ванькиным справкам оказалось, что это было сделано для того, чтобы рот не расходился. Потом отца положили в красивый ящик, который очень приятно было трогать рукой и из которого могла бы выйти великолепная голубиная будка, – и зарыли в землю.
Теперь Ванька понимает, что сделали с отцом. А тогда он был дурак, ничего не знал, ел крыжовник и спрашивал, зачем спрятали хорошего тенора в яму. При воспоминании об этом глаза Ваньки, повернутые к окну, медленно наполняются крупными, теплыми слезами, ему до боли становится жаль того небритого, колючего человека, который величал его мешком с мармеладом, – и он шепчет:
– Эх, дурак ты, что умер. Дурак! Вместе бы пели! Водку бы я не пил, все деньги отдавал бы тебе: черт с тобой, пропивал бы и мои!..
После отца начались скучные дни. Мать плакала, никого родных не было, и один Ванька утешал ее и говорил, что папа вылезет из ямы, когда належится, – надоест! А так как отец из ямы не вылезал, а денег не было, то матери пришлось каждый день ходить в город и продавать там молоко и зеленый лук. А в прошлую середу она пришла и, когда сели за постный борщ, сказала:
– Ну, Ванюшка, нашла тебе место… Вот сошью тебе рубашки и отведу.
– Какое место? – спросил Ванька.
– А в трактире, где отец твой служил. У Панфил Иваныча. Будешь вилки чистить, за бубликами для гостей бегать. Два рубля в месяц!
– Это туда? в город? – спросил Ванька, кивнув в том направлении головой.
– Туда, деточка, туда…
Ванька опять принялся за борщ и стал что-то внимательно обдумывать:
– Ты вот что, – сказал он наконец, облизывая ложку, – ты сходи в ту церкву, где архиерей служит, и спроси, не нужно ли вам, мол, баса. Есть, мол, бас. Отец его пел у вас тенором, но умер. А бас, скажи, хоро-оший! Все деды его пели хорошо!
III
Ванька полежал еще немного, потянулся, согнал с себя лень и босыми ногами, ощущая на горячих подошвах холодок пола, вышел на крыльцо.
Было раннее, прохладное утро. Вдали, на горе, сияя на солнце крестами колоколен и белыми домами, стоял город. Там жили люди, которые имеют возможность платить но гривеннику за фунт яблок. Там будет жить и он, Ванька. Но, конечно, уж он не будет тратить гривенников на пустяки. Он купит что-нибудь хорошее, полезное, например лошадь. Будет ездить на ней в поле, до Надеждинской церкви, и на свежем воздухе – петь.
– Под-дай, господи!.. – пробасил Ванька, как дьячок в церкви, чтоб прочистить голос, и затем, управляя обеими руками, спел еще сербское:
– Теб-бе, господи!
Спел так, как учил его отец.
На пение прибежал верный Ванькин пес, который носил странное имя: Кисель. Это был здоровый дворняга, лохматый, с обвислой шерстью и с хвостом всегда в репьях. По мнению своего хозяина, Кисель был самый умный пес во всей улице. Он был стар и никогда не лаял без дела. Все соседские собаки приходили к нему учиться, как нужно жить на белом свете. И покойник отец неоднократно говаривал, что если бы Киселя послать в Москву на выставку, то ему за ум дали бы медаль и Кисель был бы похож на старосту.
Ванька сел на порог, Кисель, по своему обыкновению, сейчас же уселся около него, глядя ему прямо в глаза и распустив хвост метлой. Хозяин почесал у него за ушами и повел такую речь:
– Ну, Кисель, сегодня я, брат, тово… Вон, поверни морду… Видишь? Уйду… Вон туда… В город… Уйду… Прощай, брат.
Ванька погладил его по голове, а Кисель, в благодарность за ласку, вытянул морду и лизнул Ваньку по носу. Тот утерся рукавом и продолжал:
– Ты тут без меня не дури! Знай, что я – человек строгий и шуток не люблю. Если мать скажет что, выдеру, брат, тебя как Сидорову козу. То-то… Собак маленьких не обижай зря. Тебе-то старому хрену, и самому это знать нужно.
Кисель изловчился и цапнул зубами муху, которая уселась у него на носу и за которой он давно уже следил глазами.
Яиц в сарае – боже тебя упаси! Я знаю, ты повадился за последнее время к курам лазить. Смо-отри! – И Вань ка пригрозил Киселю пальцем. – Бо-оже тебя упаси! Ну, в воскресенье слопай пару, черт с тобой, а больше ни-ни! Не выводи меня из терпения.
Кисель сделал невинные глаза и, словно не ему говорят, поставил хвост трубой.
– Будешь вести себя хорошо, – продолжал Ванька, – будку тебе с замочком устрою, с окошечком. Будешь себе на старости лет сидеть, на двор поглядывать, – как там дождик идет. Другие собаки в голоде да в холоде, а ты у меня как паша. Да-а!
Потом Ванька вспомнил вдруг про себя, что ему придется бросить все: и дом, и мать, и Киселя, и Сорокоумова, – и ему стало грустно.
– Приходи, брат, меня проведывать! – меланхолически сказал он, обняв Киселя за шею и прислонившись к нему головой, – Почаще приходи… Я тебя сахаром покормлю. В чужие, брат, люди иду… Может, меня бить будут… Придешь, поговорим, – все свой человек. На душе и полегчает. Вам, собакам, добро: денег зарабатывать не надо, а нам надо. Вам хорошо. Стрельнут тебя по боку камнем, – у тебя как с гуся вода. А меня ударь – шишка в три аршина вырастет.
Долго разговаривал он с Киселем, потом встал и начал умываться, сам поливая себе на руку. И пыль, на которую падала вода, сейчас же покрывалась коричневыми пятнами. Было еще рано, и тень от предметов падала черная и густая. Но день обещал быть жарким, и в городе, вероятно, будет пыль. С крыльца было видно, как внизу, на огородах, сверкали на солнце пруды и колосился камыш.
Ванька, в ожидании матери, походил по двору, посмотрел, не вывели ли индюшки индюшат, попробовал за стропило крышу сарая и спустился в погреб. Погреб был вырыт в земле, и в нем всегда было холодно. Там пахло солеными огурцами, укропом и еще чем-то, дававшим, в общей сложности, приятный запах. На полочках, у стены, стояли кувшины с молоком, приготовленные к завтрашнему базару. В другое время Ванька не выдержал бы и серьезно ознакомился бы со всеми вкусными вещами, но теперь, вспомнив, что все это – деньги, которые нужно зарабатывать, повернулся от искушения, глубоко вздохнул и полез вон из погреба. У выхода, заглядывая вниз, стоял Кисель и махал хвостом.
IV
Пришла с базара мать, и Ванька начал ставить самовар. Было часов восемь: солнце уже вышло за чаплыгинский дом. Ванька наставил на самовар трубу и следил, как дым, иногда смешиваясь с огнем, валил в печку, и ему казалось, что так должны дышать черти в аду.
С матерью его делалось что-то странное. Высокая и бледная, с преждевременными морщинами на лице, теперь она казалась еще серьезнее, чем обыкновенно, и губы ее как-то странно подергивались… Став на колена перед сундуком, она щелкнула замком, издавшим музыкальные звуки, подняла крышку, оклеенную изнутри картинками из модных журналов, и начала доставать оттуда Ванькино добро.
– Вот, Ванюша, это твои рубашечки… – говорила она. – Береги: надевай по праздникам. Вот – поясок. Делать заставлять что будут, надевай фартучек. Береги.
Ванька терпеть не мог подобных наставлений. Такие слова, по его глубочайшему убеждению, можно было говорить только девчонкам. Он вообще презирал женский пол и отлично знал, что и сегодня, например, при расставании, мать не удержится от нежных сцен, и это заранее щемило его душу. «Эх, если бы отец был жив, – думал он, – тот только и сказал бы: «Ну, Ванька, молодцом будь!..» А это… лучше бы в трактире два раза взбутетенили!» – И он подкладывал в самовар угли.
– Хозяина, Ванюша, слушайся; почитай, – говорила мать, – буфетчика, Исай Исаича. Они люди хорошие и… добра тебе желают… Услуживай им. Будь ласковым. Ласковая телка двух маток сосет.
Наговорившись вдосталь, она постлала на стол чистую скатерть, вынула половинку давно хранившегося лимона, и они, вдвоем в последний раз, сели пить чай. Ванька на прощанье позволил себе огромную роскошь, именно: пил чай внакладку. С наслаждением, зажмурив глаза, он тянул с блюдечка сладкую жидкость и, забыв о трактире, думал, что если бы бог привел ему сделаться царем, то он целый день пил бы чай внакладку, причем клал бы в стакан не один кусок сахара, а пять. Целый день он ел бы мороженое, и непременно костяной ложечкой, которую так удобно переворачивать во рту и облизывать со всех сторон. Сам бы он ел сливочное, а подданных кормил бы шоколадным. Другу своему, Гараське, положил бы жалованья сто миллионов в месяц, и ежедневно купался бы с ним в речке, в золотой купальне, и непременно с яичным мылом. Матери своей сделал бы дом в три комнаты, с большой печкой, чтобы греть кости, и велел бы кормить ее манной кашей, так как у нее на старости лет все зубы выпали бы и ей нечем было бы жевать другую пищу, например морковь. Составил бы себе хор, исключительно из басов, такой хор, что всем архиереям оставалось бы только одно: умереть от зависти. Регента выписал бы такого высокого, что, когда он замахает руками, видела бы вся церковь и удивлялась, как у человека могут быть такие длинные руки.
– Слушай, мамка, – обратился он к матери, – скажи, пожалуйста, – что, есть такие люди на свете, чтоб руки сто верст были?
Мать засмеялась, и на глазах у нее, совершенно не к месту показались плохо скрываемые слезинки.
– Нету, милый Ванюшка, таких нету.
– Отчего же нету? – удивился Ванька и добавил с очень серьезным лицом – Это вещь хорошая.
Ванька опять размечтался и, забыв про свою солидность, начал болтать под столом ногами. Щеки у него зарумянились, и плохо причесанные, только два раза стриженные от роду вихры на голове имели крайне легкомысленный вид. Он сопел, тянул с блюдечка, причмокивал, улыбался своим мыслям и не замечал, что мать, глядя на него, все качает головой, глаза ее все чего-то краснеют и чай, видимо, не идет ей в глотку.
Сквозь отворенное окно было видно, какая тишь и прохлада стояла на дворе. Деревья, недавно омытые дождем, сияли точно отлакированной зеленью своих листьев, а яблони имели такой вид, будто их окутали простынями. Во всем пространстве не раздавалось ни звука. Сорокоумов ушел в город; Кириллиха, вероятно, пила чай, и рот, следовательно, у ней был занят; ребята плескались или в прудах, или на реке. И ясно послышалось, как сверху вниз, из города понеслись удары соборного колокола, то очень слышные, то относимые ветерком в сторону, тянувшиеся в пригородье, как длинные, волнистые веревки.
– Раз, два, три… – начал считать Ванька, прислушиваясь, и насчитал девять ударов.
– Девять часов, – сказал он.
И сейчас же, но уже другим колоколом, в соборе зазвонили к обедне.
– Ну, Ванюшка, заблаговестили… – сказала мать, поднимаясь из-за стола. – Давай с тобой помолимся богу, зажжем лампадочку… и в путь… Миленький, дорогой сыночек мой! – вдруг почему-то прошептала она и мимоходом поцеловала его в легкомысленные вихры. Необычайно долго возилась она в сенях с лампадкой, наливая ее маслом, слышались оттуда какие-то подозрительные, словно всхлипывающие звуки, и когда она внесла в комнату уже налитую и зажженную лампадку, Ванька видел, как у нее дрожали руки и как она чуть не пролила масло на вязаную скатерть…
– Ну, иди, Ванюшка, помолимся… – странным голосом говорила мать, когда он допил чай, – Вот, становись рядом со мной на коленочки и гляди на боженьку. Вот так!
Ванька стал рядом с матерью на колени и начал глядеть на бога. Бог висел в углу, борода у него была длинная и седая, кругом его головы сиял круг, а по бокам были сделаны золотые, дрожащие розы. И чистым невинным огоньком горела перед ним зеленая лампадка и отчего-то казалась Ваньке похожей на маленькую девочку с длинными курчавыми волосами.
Ванька, бережно прикладывая сложенные пальцы ко лбу, груди и плечам, начал кланяться седому богу, сознавая всю важность своих действий, и бог, казалось, сделался еще серьезнее, собираясь слушать Ванькину молитву. Ваньке нравилась такая торжественная обрядность, так как она лишний раз подтверждала, что он большой, взрослый и скоро может сделаться солдатом.
– Ну, говори, – прерывистым всхлипывающим голосом продолжала мать, и глаза ее покраснели еще больше, – говори: господи! Батюшка! Царь небесный! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького…
– Господи! Николай-угодник! Пощади меня, сиротинку маленького… – скороговоркой повторил Ванька, следя, как по половице ползла большая зеленая муха, которая может жужжать на весь дом, если поймать ее за крыло. Хотя, именуя себя маленьким, он не был согласен с этим, но спорить и прекословить в данную минуту не хотел.
– Я иду в жизнь трудную… – неразборчиво говорила мать, и так как слезы застилали ей глаза, то она, вероятно, не видела бога.
– В жизнь трудную… – уныло повторил Ванька, посмотрев, не разошлись ли у него пальцы.
– Пошли мне ангела своего хранителя. Защити меня от злого человека, беды и всякой напасти.
Мать раскраснелась, с ней делалось что-то неладное: губы ее по-прежнему подергивались, слова все более и более делались неразборчивыми, и становилось опасным, разберет ли бог. И Ванька поэтому старался поправить дело и повторял яснее:
– От злого человека, беды всякой напасти…
Вдруг мать припала головой к полу и, захватив ее обеими руками, залилась слезами, и Ванька мог разобрать только такие слова:
– Спаси его! Сохрани! От беды, лютой жизни!
Мать говорила совсем невнятно, слезы лились у нее ручьем, и Ванька решил сам передать ее слова богу. Подняв свои серые спокойные глаза на образ, он сказал, указывая пальцем на мать, приникшую к земле:
– Она просит, чтобы ты спас меня! От беды, от лютой жизни! – передавал он по порядку ее рыдающую речь. – От злого человека. Ангела послал бы ко мне… Моего ангела Иваном зовут… – уж сам от себя пояснил он.
А мать продолжала стучать головой по полу и уже говорила другие речи:
– Бедность одолела! бедность, бедность, бедность! – И, прижав к себе Ваньку, рыдала: – Не отдала бы я тебя, касатика, в жизнь трудную, жизнь грубую! В школу бы ты у меня бегал. Если бы… жив был папка… Наш па-апочка… миленький…
Ванька, к стыду своему, почувствовал, как что-то теплое течет из его глаз и падает на материну грудь. Вытерев кулаком щеки, он поднял на мать глаза, тоже полные слез, и сказал:
– Если бы, да кабы, да во рту росли грибы! Если бы жив был папка, то мы с ним в хоре пели бы! Так пели бы, что только держись. Архиерей по сту рублей давал бы нам. Но я сам бы себе ничего-о не брал… – И Ванька сделал большие, круглые глаза. – А все папке бы отдавал: пусть бы пил водку! Бог с ним.
Через полчаса оба они, и мать, и Ванька, поднимались по пыльной дороге в город; мать несла его одеяло и подушку, а Ванька, обутый в новые сапоги с выпущенными ушками, имел в руках узелок с рубахами и полотенцами.
Мать все всхлипывала, вытирала слезы, и Ваньке стало жаль ее. Когда они совсем вышли на гору и стала видна нижняя часть города с железной дорогой, маслобойными заводами и могилой купца Гривова, – Ванька остановился, лукаво поглядел на мать и с улыбкой спросил:
– А хочешь, я тебе сербское «Тебе господи» спою?
Мать тоже остановилась, и глаза ее, лучистые от слез, улыбнулись.
– Ну, спой, – сказала она.
Ванька, передав ей узел с рубашками, оправился, кашлянул и, разведя руками, как регент, медленно, торжественно пропел:
– Тебе-е, го-ос поди!
И потом долго прислушивался, как звучит его бас…
Вдалеке, из города, показался Сорокоумов. Он уже шел домой обедать. С вокзала отходил поезд, и белый густой дым его, расстилавшийся на фоне неба, походил на облака.
Счастье
I
Мужской портной Герасим Егорович Синицын, поджав ноги по-турецки, сидел у себя в мастерской на верстаке, у открытого в сад окна, и пришивал к студенческой диагоналевой тужурке пуговицы с накладными орлами. Даже у больших мастеров, которые шьют на генералов и губернаторов, пришиванье пуговиц считается последней и самой незамысловатой операцией в работе, – поэтому вполне естественно, что единственный подмастерье Синицына, Павел Петухин, сидевший тут же, на верстаке и ставивший латки на малиновый подрясник отца Ефрема, отлично понимал, что хозяин не хочет доверить ему даже пуговиц, – понимал и серьезно оскорблялся. Он наперед знал, что собственноручное пришивание пуговиц даст Герасиму Егоровичу несомненное право поговорить о былых временах, когда на земле не портные были, а пять с плюсом; теперь же пошли забастовки, права, давшие слишком много воли всякому хламу и которые в конце концов все погубят. Такое пренебрежение со стороны хозяина тем более было обидно для Петухина, что оба они, и хозяин, и Петухин, были ровесниками, вместе росли, вместе учились ремеслу, вместе их били, – а теперь вышло вон что: Синицын – хозяин, имеет свою мастерскую, а Петухин – работник, служит у него, должен подчиняться ему; хочет тот – держит его, не хочет – выгонит в двадцать четыре часа, – и ничего с ним не поделаешь и никому не пожалуешься.
Рядом с мастерской, небольшой низенькой комнаткой, которую почти всю занимали верстак и половина русской печки, – находилось хозяйское святое святых, убранное, как у всех домовитых портных, и мягкой мебелью в чехлах, и граммофоном, и портретом иерусалимского патриарха, исполненным в четыре краски. Полы в тех комнатах были всегда чисто вымыты, устланы белыми летними дорожками с красной каймой, – и входить туда таким личностям, как, например, Петухин, безусловно воспрещалось. И были они своим уютом так противоположны неуклюжей мастерской, что когда, например, Герасим Егорович уставал от работы, то начинал смотреть на дверь, ведущую в те комнаты, и тогда было ясно, что мысли его, которым он улыбался, приветливо щурился, витали около мягкой мебели, портрета и граммофона…
На дворе стояла весна, и Герасим Егорович часто говорил, что в природе начинается антимония, то есть оживление. Из всех времен года он больше любил зиму по той причине, что зимой человек одевается тепло, что зимняя одежда дороже летней и шьется она из прочной материи, которой легко придавать изящную форму.
Окно мастерской выходило в сад, а в саду земля была рыхлая, черная, будто облитая и пропитанная хорошими чернилами. Деревья еще не кончили покрываться листьями, хотя на сирени уже показались завязи будущих цветов. Над садом очень высоко, соперничая синевой с зеленью только что распустившейся, радостной листвы, растянулось небо, а над тем местом, где стоит село Богородицкое, маленькими стайками собрались белые, словно только что родившиеся облачка и, казалось, размышляли: идти ли им на середину свода или, оставшись на старом месте, над селом Богородицким, выкинуть какую-нибудь веселую, занятную штуку.
Герасим Егорович отложил тужурку в сторону, потянулся и искоса посмотрел на Петухина, который по-прежнему чинил подрясник и сверхъестественно сопел. Петухин по наружности был удивительным человеком: трудно было, например, определить, сколько ему лет, – глаза у него были совсем детские, мальчишеские, зато лоб – сморщенный, с резко обозначившимися морщинами. Голос был молодой, задорный, песни пел Петухин всегда высоким тенором, а меж тем в углах губ сидело что-то уже старое, видевшее в жизни невеселые, горькие виды. И сам по себе человек он был неопределенный: то целый день в праздник перепелов на байку ловит или с ребятами змей двухлистовой запускает, – то пьет горькую, ночует в участке и говорит, что жизнь ему осточертела.
В то время как у Герасима Егоровича вся жизнь и весь труд реализовались в три выигрышные второго займа билета, у Петухина только и было что красненький сундучок, наполненный, наряду со всяким носильным хламом, еще таким добром, какое не у всякого портного сыщешь: первыми призами за успешные бега в мешках, которые устраивались в городском саду на народных гуляньях. У Петухина не было соперников в этой области искусства: он всегда приходил к призовому столбу первым и называл себя за свой талант придворным артистом шаха персидского. Призы же благоговейно складывал в красненький сундучок, ни за что, даже в самые сильные запои, не расставался с ними и говорил, что перед смертью, отдаст такой приказ: положить все это добро в гроб, под подушку. И говорил еще, что призами, а в особенности – будильником, исполнявшим две музыкальные пьесы, он похвалится на том свете перед грешниками.
II
В этом году, однако, Герасим Егорович не чувствовал обычного неудовольствия на то, что кончилась зима, что человечество скоро потеряет солидный вид, осанку, спрячет в сундуки хорошие меховые пальто, облечется в соломенные шляпы, желтые скороходы, в чесучовые, мешками сидящие пиджаки. Сердце у него билось по-иному, по-незнакомому, – словно на плечах не сидело сорока восьми лет и ему было приятно следить, как оно замрет и создаст ощущение сладкой томной тоски, грусти и еще чего-то очень хорошего.
В городе редкими ударами колокола звонили к службе; звон, точно не выспавшийся, тянулся длинной, ленивой лентой и – хотя был великий пост, шестая неделя, – наводил на веселые, счастливые мысли. Герасим Егорович, высунувшись в окно и незаметно для себя любуясь садом, небом и белыми облачками, думал о Петухине, о его призах, о себе, о том, как он хорошо сделал, перебравшись из городского пекла сюда, в эту благодать, которая скоро сплошь зацветет и будет похожа на невесту. Обо всем этом Герасим Егорович думал и в то же время замирал от радостного сознания, что такими мыслями, как декорациями, он хочет заслонить свою самую главную, самую заветную думу, которой он только тогда позволял копошиться в голове, когда хотел побаловать себя, устроить себе яркий, торжественный праздник.
Посреди большой площади, окруженная густым садом и белым забором, стоит церковь Варвары Великомученицы. Там, в этой церкви, батюшки в черных, закапанных воском ризах читают заунывные молитвы о грехах, говеет народ деловито, серьезно, в будничной одежде, – и на своем любимом месте, у плащаницы, стоит Таня.
Герасим Егорович не может сдержать счастливой, расплывающейся улыбки, высовывается из окна дальше, тянет к себе, словно для поцелуя, влажноватую, гибкую ветку сирени и, опасаясь, как бы не услышал Петухин, чуть-чуть шевелит губами, прислушиваясь к музыке своих, произносимых по складам слов:
– Стоит Таня… Та-ня… Та-ню-ся…
…Герасим Егорович не любит вспоминать тех двух годов, которые он ухаживал за нею… Это время было жестокое, наполненное непрерывной пыткой. За эти два года он постарел больше, чем за всю предыдущую жизнь, щеки сделались отвислыми, глаза впали… Как-то так случилось, что о его любви узнал весь город: сначала мальчишки, потом бабы, потом и заказчики. Сам прокурор даже, примеряя как-то жилетку пике, спросил смеясь:
– А зазнобушка как живет-может, а?
И когда Герасим Егорович сконфузился, покраснел и от волнения уронил мелок, – снисходительно добавил:
– Ну, что же? Хоть ты, братец, несколько и тово, попортился, так сказать… В землю уже, так сказать, выражаясь по-юридически, шагаешь… Ну, а все-таки тово… Держи, выражаясь по-военному, знамя высоко… Женщина – это крепость, которую нужно брать иногда долгой молитвой и постом… Да… Так сказать, нужно воспрянуть убо…
И прокурор, смеясь полным эластичным животом, еще что-то поговорил о всяком дыхании.
За эти два года Герасим Егорович чуть не возненавидел людей. Мальчишки танцевали, показывали носы, становились на головы, когда он проходил по улице, и орали ему вслед:
– У, старый! За Танькой стреляешь?
Взрослые считали необходимым встречать его какими-то особыми, слишком понятными взглядами, усмешечками, ясно, в общем, говорившими, что тебе, мол, Герасим Егорович, бог больше нужен, чем жена, и в глаза, будто в шутку и будто это очень приятно, называли его малоподержанным китайцем.
Парни с той улицы, на которой жила Таня и куда он ходил с гостинцами каждый праздник, собирались вытопить ему баню, то есть прибить, или, будто невзначай, сообщали, что вчера, весь вечер, Таня сидела с Гаврюшкой, красивым курчавым парнем, или разговаривала с ним через забор, – и тогда Герасим Егорович плакал, рыдал, зарывшись в подушку, и молился богу, чтобы Таня его полюбила, хоть капельку, хоть чуть-чуть, чтобы хоть немного возвратилась к нему молодость, свежесть, которая ушла на чьи-то бесконечные сюртуки, жакеты и воплотилась в три шуршащие бумаги второго займа. Тогда он ненавидел эти бумаги, ненавидел остро, до желания порвать и выбросить за окно… Он вынимал их, раскладывал перед собой, стучал кулаками и говорил:
– Проклятые! Проклятые!
Но печник, отец Тани, видел эти бумаги, щупал их руками, – и свадьба была сыграна.
Свадьбу и потом жизнь, начавшуюся после нее, – это любил вспоминать Герасим Егорович…
Во время венчания пело полхора архиерейского, пели все сплошь нотное; была электрической ниткой зажжена люстра, и под ноги молодым постлали персидский ковер… Потом ехали к кухмистеру в карете, музыка играла туш, все гости желали счастья и из высоких бокалов пили донское игристое. Тут же стоял важный официант во фраке и белой перчатке и каждому поздравлявшему говорил:
– Аншантэ!
И все говорили, что свадьба вышла как у генерала Пшеновича. Была только одна неожиданность: великолепный официант украл целый чайник колотого сахару. Эту неприятную историю обличил Петухин, напился с горя пьяным и приставал ко всем со следующими словами:








