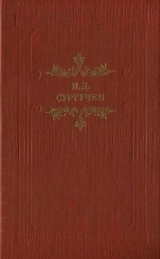
Текст книги "Губернатор. Повесть и рассказы"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
И вот приехала та.
Говорят, что звезды не так малы, как они кажутся. Есть ученые, которые смотрят в трубы и приближают небо к земле… Может быть, это так и надо, чтобы писать потом толстые книги для студентов. Но Манфред знает: умен тот, кто смотрит издали собор в Орвиетто и видом Рима любуется с Еникульского холма. Не надо приближать небо к земле. Если о небе нужны земные слова, то пусть будет оно синим морем, а звезды – островами серебряными. Скучноваты таки люди, все знающие. Хорошо, если бы звезды время от времени падали на землю, рассыпаясь, но неплохо, если они останутся на небе. Звездное небо, синее море, белые паруса, соколы – все это не такие вещи, которые могут скоро наскучить.
Прекрасно полезть в свою кладовку, когда немцы засыпают и остаешься один в саду, когда видишь, как золотой огонек сигареты медленно, но верно приближается к губам.
Из кладовки тихо выходят старые тени и спрашивают:
– Это ты, Манфред?
– Я.
– А Мария?
– Мария спит.
– Ты меня любишь?
– Люблю.
– А Марию?
– Я могу любить только одну.
– Иди ко мне.
– Иду.
– Целуй меня.
– Целую.
– Любишь?
– Люблю.
И до сих пор с каждым пароходом ждет Манфред: а вдруг в отчалившей лодке покажется знакомое лицо? И потому все люди острова привыкли удивляться: почему старик Манфред, имея трех бойких комиссионеров, говорящих и по-французски, и по-английски, и по-немецки, и даже немного по-русски, почему он сам всегда приходит к пароходу? Почему на нем всегда длинный сюртук, черный бархатный жилет и галстук старинного образца, обвернутый два раза вокруг мягкого воротника?
…Есть другой сорт пассажиров. У этих – чемоданы картонные, оклеенные желтым коленкором; женщины у них носят обувь со сбившимися каблуками. За пансион они платят по восьми лир, торгуются до слез, а за обедом норовят взять куска по три каждого кушанья и часто обходятся без вина.
Самый плохой месяц июнь: пуст отель.
Снявши черный сюртук, аккуратно, подкладкой вверх, сложив черный, двухбортный жилет, тщательно разгладив свой старинный атласный галстук, – Манфред целыми днями пропадает в кафе, у старого соседа Микеле. Этот Микеле видывал в своей жизни бурные дни.
Когда-то он был бедным, теперь же его не купишь за полмиллиона. Манфред слушает его рассказы и совсем не видит, что делается с его дочерью, с его единственной наследницей, богатейшей невестой на всем острове – Еленуччей. Ничего не видит.
II
В третьем этаже жил какой-то русский.
Бог его знает, что это за страна – Россия. Манфред в последнее время часто брал в руки карту, вырванную из путеводителя. Вот Франция – этому можно поверить. Вот Германия, – этому можно поверить. Но Россия… Что такое Россия? Трудно почему-то поверить, что есть такая страна, Россия.
Русский платил за пансион девять лир, но зато выпивал каждый день по бутылке хорошего вина. Это обнаруживало в нем порядочность, и он нравился Манфреду. И чемоданы у него были такие, о которых можно сказать надвое: не то они кожаные, не то коленкоровые.
Еленучче было пятнадцать лет, и ей, прежде всего, понравилось, как этот русский стучит каблуками, когда идет по лестнице. Много людей живало в отеле, но все они не так ходили по лестнице: или сбегали, шлепая подошвами по мраморным ступеням, или тяжело, как мешки, втаскивались вверх. Русский ходил особенно: как-то так ударяя каблуками, что мрамор отзывался четко и без эха. Еленучча решила, что так ходят короли, и говорила иногда самой себе:
– У нас в отеле живет король.
Еленучча ходила всегда во всем белом: белые туфли, короткая юбка и батистовая, слегка прозрачная кофточка: то с красным воротником, то с синим. Красный шел ей больше, и потому по утрам, ожидая, когда застучат знакомые шаги, она всегда надевала красный. Немцы все встают рано, и в половине девятого то и дело слышится слово:
– Моргн!
Русский спит долго; то до десяти, то до одиннадцати, – и когда выходит в столовую, ни с кем не здоровается: это Еленучче очень нравится. Чего, в самом деле, желать здоровья людям неизвестным? А вдруг среди них есть и плохие? Значит, и плохие пусть долго живут? Этого не должно быть. Плохим смерть.
Часов с десяти сидит Еленучча в маленьком коридорчике, в углу, на красном диване и терпеливо ждет, – и вот наверху послышались неспешащие, четкие шаги. Кровь приливает к щекам, больно бьется сердце, и рука машинально поправляет распущенные по плечам волосы.
Шаги приближаются, – и Еленучча уже не в силах сидеть: она соскакивает л дивана и становится в угол, как наказанная. Он идет заспанный, но лицо от умывания свежее, волосы – влажные, тщательно зачесанные набок: это пока, а потом они просохнут и распадутся по всему лбу. Он привык видеть Еленуччу в углу и приветствует ее особым жестом, не наклоняя головы.
Стол его – в углу.
Еленучча, тайком от лакея, ставит ему свежие цветы, выбирает для них самый лучший бокал и потом украдкой, насторожившимся глазком, наблюдает: видит ли он прекрасные цветы? Он видит, и она от радости потихоньку, внутренне смеется и думает: «Так и быть. Завтра сорву ему фиолетовые».
Еленучча не боялась ни отца, ни матери. Мать ее любит, потому что – мать, а отец за то, что она похожа на него. Но теперь Еленучче становилось порою страшно: а вдруг кто-нибудь потихоньку накроет ее как раз в то время, когда она в щелочку подсматривает за русским, – мысль о том, что могут увидеть, обдавала ее холодом.
Она думала: «Зачем смотреть тайком? Пойду, стану у двери и буду видеть, как он пьет кофе и читает газеты».
Но… была особая сладость в том, чтобы смотреть на него тайком, в расщелину двери, и часто она целовала ее, эту дверь, как икону, и называла милой.
…Росли косы – ничего, но вот растет грудь, – это стыдно. Когда она, Еленучча, идет за марками в табачную лавку, то, кажется, вся площадь: и аптекарь, и парикмахер, и иностранец с красной книжкой – все смотрят ей на грудь. И потом нужно сказать, чтобы портниха шила юбку подлиннее: слишком видны колена, когда идешь, а разве это хорошо, когда на площади аптекарь, и парикмахер, и иностранец?
Что хорошего в этом острове? Круглый год, каждый день приезжают сюда эти иностранцы. Что они смотрят? Что нужно здесь ему, русскому? Эта башня с часами? Но что хорошего в старых камнях? Море? Оно хорошо потому, что по нему, сев на корабль, можно уехать далеко. Горы? Но с них хорошо только видеть, как по морю можно уехать далеко. И весь смысл жизни в том, чтобы уехать отсюда далеко.
Оказывается, иностранец с красной книжкой стоит уже близко и смотрит не моргая, и лицо у него такое, будто ему пить хочется и попросить страшно. И вот: глаза его останавливаются на том месте, где грудь. Ага! Тебе нужна грудь?
И Еленучча, сделав презрительное, холодное лицо, идет мимо него. Она уже научилась при походке так шевелить плечами, что груди колышутся при движении. Для этого нужно притянуть назад рубашечку. И однажды она вслед себе слышала слова:
– Как две рыбки.
Она сначала не поняла, но потом поняла, покраснела и не оглянулась.
Вот почтенный Микеле. Раньше он не замечал ее, – а почему теперь и встречает, и провожает, и угощает каштанами?
– Как две рыбки? Это хорошо. Пусть будут рыбки.
Ночью, когда все спят: весь остров, все море, все небо, все гроты, все черти, все ангелы, все сирены, – Еленучча потихоньку открывает свет и рассматривает себя в зеркало.
Что, собственно, хорошего в этой девчонке? Волосы? Руки? Черные глаза? Синие– лучше. Плечи? Узенькие. Ноги? Правда, стройные, но их приходится закрывать: иначе нельзя. Еленучча, самодовольно улыбаясь, делает движение, и груди шевелятся: это хорошо. Потихоньку гладит она их руками и говорит:
– Милые мои рыбочки, милые. Пусть он вас полюбит. Кто? – после паузы спрашивает она сама себя и живо, шепотком отвечает – Он. Русский. Король.
Ночь прохладная и широкая. Что стоит оттолкнуть ставню и вылезть в окно? Взять камушек и швырнуть его через окно к нему в дверь? Хорошо было бы, если бы этот камушек попал ему в нос. Проснулся бы и подумал: это шутит черт.
…Сколько разных суетливых мыслей пробежит в голове, когда смотришь, как человек пьет кофе и, наклонив голову, читает газету.
После кофе он сворачивает эту газету и идет в гостиную. Там оц подходит к пианино и, не садясь, трогает правой рукой клавиши, и струны словно высовывают из черного ящика свои невидимые головки, – и то радуются, то скажут что-то грустное. А он стоит и, опустив глаза, думает, и тогда непонятно: почему сжимается сердце? откуда влезает в голову неприятный, ненужный вопрос:
– О чем он думает?
Мало ли есть на земле средств, чтобы отделаться от неприятных мыслей? Можно засвистать песенку, можно пересмотреть старые открытки, можно поиграть в мяч, можно подразнить соседского попугая, можно, наконец, уйти к подруге Марии, – но эту мысль трудно вышибить из головы: «О чем он думает?»
Если бы он взглянул ласково…
И Еленучча тихонько показывается в двери.
Он оборачивается и смотрит: ласково, долго. Он даже что-то говорит на каком-то проклятом языке. Еленучча просит:
– Sonare…[7]
А он спрашивает:
– Что?
Еленучча повторяет:
– Sonare!
Он не понимает. Еленучча нетерпеливо дергает плечиком: как это можно не понимать такого простого слова! Сердясь на непонятливого человека, она протягивает свои десять пальчиков и шевелит ими по невидимым клавишам.
Он понимает: нужно играть.
«Ну вот, – думает Еленучча, – слава тебе господи!»
Он садится к пианино.
Минуту спустя начинается музыка, тревожная и сильная, и, как от ладана, которым кадят только в великие праздники, начинает кружиться голова, хочется закрыть глаза, хочется обессилеть, хочется, чтобы кто-нибудь поднял тебя и на руках, убаюкивая, нес далеко, в горы, нес бы целый день, и, бессильные, ничем не сдерживаемые, распустились бы волосы, и шелковые ленты упали бы на землю, пусть бы он потоптал их ногами…
И когда кончается эта музыка, когда он, оглянувшись и уже не увидев Еленуччи, уходит, она тихонько показывается из-за стенки, за которой спряталась, на цыпочках приближается к пианино и смотрит в заглавие пот, и читает непонятные слова:
«Тангейзер». Увертюра.
III
Часто он приходил в общую гостиную, когда там никого не было. Газеты его, которые он оставлял потом на диване, были странные, напечатанные странными буквами.
«Что за буквы? Что за слова?» – думала Еленучча и, как близорукая, прислоняла к глазам эти строки, напечатанные в далекой, загадочной стране. Казалось, что там, в России, нет таких домов, как у них, на острове, нет таких женщин, нет таких девочек, как она. Там – все не то.
Входил он в читальню, – она выбегала на террасу и стояла, – страшно было заглянуть в комнату. Л заглянуть хотелось – и Еленучча тихонько подкрадывалась к двери, думала: «посмотреть ли?» – и потом смотрела. Пиджак у него – синий, плечи – широкие, волосы – пышны спереди, но с лысинкой на макушке. И Еленучче делается скучно.
«Лысый! – думает она с неудовольствием. – Лы-сый!»
И невольно вспоминается немец из 23-го номера. Тот – молодой, с густыми, маслянистыми волосами.
«А этот – лысый, старый! – думает Еленучча. – И что я нашла в нем хорошего?» И ей хотелось бы, чтобы он ей не нравился. Так хорошо и спокойно было бы, если бы он ей не нравился. Опять все пойдет по-старому: как хороша прежняя жизнь!
Она идет к цветам, которые растут в ящиках на заборе, и, пробуя рукой землю, напевает:
– Он мне не нравится. Он мне не нравится. А цветы нужно полить, потому что земля сухая.
Слышно, как отец, отдыхающий после завтрака, спросонья говорит матери:
– Еленучча сочинила песню, – говорит и смеется.
– И я его не люблю! – напевает Еленучча мотив, но слова произносит только в уме, мысленно: она и слова рада петь, но проснулся отец. Услышит их и мать. Мать… Она – старая и милая. Она так хорошо причесывает волосы. Еленучча ставит лейку на пол и бежит в свою комнату посмотреть в зеркало: как хороши ее волосы. Они – длинные и на концах волнистые, распущены по плечам, и вплетены в них мягкие, шелковые ленты, купленные в Неаполе, в пассаже.
Еленучча глядится в зеркало и вдруг, словно неожиданно, вспоминает:
– А я ему нравлюсь, – снова только мысленными словами напевает она, – и ему хочется поговорить со мной.
И вдруг явилась смелость, – побежала опять к двери, сперва потихоньку взглянула, в читальне никого, только он сидит у пианино и играет тихо, спустивши модератор. Плечи – широкие, пиджак – синий. Играет еле слышно, снова задумался, голову поднял вверх, мечтает.
«А может быть, я ему и не нравлюсь? – внезапно думает Еленучча, и мотив вдруг ускользает из памяти. – Может быть, ему нравится другая? Может быть, он сейчас думает о другой? Может быть, это он ей сейчас играет? Чем тише музыка, тем она слышнее сердцу! Так кто сказал? Отец?»
И Еленучча, сразу решившись, достает из-под ящика кусочек засохшей штукатурки, хочет прицелиться в широкую спину, но попадает в клавиши, – убегает и, как белая ящерка, прячется в саду и закрывает лицо руками, странно, с перерывами, бьется сердце и почему-то глубоко стыдно. Она ругает себя: зачем она это сделала? А вдруг он рассердился? Может быть, поморщился? Может быть, подумал: «глупая девчонка».
Долго тянется день, – будто он хромой, будто он ходит на костылях. Будто очень не хочется ему умирать, – и Еленучча просит:
– Солнышко! Умри поскорее! Пожалуйста! Будь умненьким!.. Лезь в гроб!
Солнце подумало и начало морщиться, а потом и умерло, полезло в гроб.
…Сначала начали растоплять плиту, потом протащили в корзинах провизию. Какая мерзость это красное, кровавое мясо! Повар Катальдо полосует его отточенным, словно серебряным ножом, режет рыбу, крошит зелень. Горит огонь, у плиты жарко, хлопочет тут же мать: нужно, чтобы все было чисто; нужно, чтобы иностранцы были довольны; нужно, чтобы не рассердился Манфред.
Прозвонили два раза. Сейчас раздадутся шаги. Вот спускаются две немки-старухи: две ведьмы. Вот тащится профессор, который пишет здесь драматическую поэму. А вот и он: он всегда позже всех. И, затаив дыхание, встречает его из своего уголка Еленучча. К вечеру на ней опять красные ленты и красный воротник.
Он взглянул ласково и улыбнулся и, как утром, послал рукой привет.
Все время стоит она в потемневшем саду и смотрит: как он ест, как пьет вино, как рассматривает цветы, цветы фиолетовые, – он трогает их рукою, трогает нежно и осторожно, каждый стебелек: хорошая, славная душа. Вероятно, прекрасная страна эта Россия. Долго ли плыть туда по морю? Большие ли ходят туда корабли?
Потом Еленучча думает:
«Знает ли он, кто бросил штукатурку?» И отвечает сама себе: «Не знает. Откуда ему знать?»
Тихо ходит, вся белая, Еленучча в потемневшем саду. Кругом вдоль дорожек растут цветы, теперь задремавшие, – помощники любви. Сладко пахнет, – это цветет какое-то дерево у соседа-аббата, привезенное из Африки.
Еленучча вспоминает: и у них в саду есть дерево, плоды которого еще не поспели, – и она идет к нему, осторожно раздвигая кусты. Тут еще темнее. Отец бережет дорогой огонь и повернет садовый выключатель только тогда, когда иностранцам подадут фрукты, – сегодня землянику.
Еленучча находит впотьмах дерево, становится на скамейку, протягивает к себе упругую ветвь, срывает одну за другой, сжимая в ладони, ягоды. Вдруг стало скучно.
«Бросить опять? Хватить его по лбу? Скажет: какая наглая, навязчивая девчонка – эта Еленучча. А кто полюбит наглую девчонку? А вдруг пожалуется отцу и скажет ему такие слова: ваша Еленучча бросает мне в лоб твердые ягоды. Или скажет: ваша Еленучча испортила мне синий пиджак, – пожалуйте мне за него деньги, сто лир».
Эти слова приводят Еленуччу в радостное настроение, и она, словно ее оставили силы, опускается на скамью и восторженно думает:
«Он? Скажет? Этот русский? Он потребует сто лир? Он заговорит о деньгах?»
Вспоминает Еленучча, как он, гуляя в саду после завтрака, сорвал в саду цветок, положил его себе на ладонь и долго смотрел на его, как на ребенка. Тогда хотелось крикнуть:
– Это ваша дочка? Да?
Но крикнуть нельзя было, потому что это неприлично.
…Видны настежь растворенные окна столовой. Видно, как там, с блюдами в руках, бегают лакеи и их помощник, мальчишка Пасквалино. Уже разносят жаркое. Пасквалино подает салат. Этому мальчишке, вчера еще бегавшему у моря в порванных, серых и коротких штанах, удивительно хочется походить на взрослого лакея. В левой руке он держит салатник, правую закладывает за спину и важно наклоняется к столу, засматривая обедающему в глаза.
Теперь «этот русский» ест цыпленка. Очень трудно есть цыпленка! Надо его и ножом резать, и потом брать косточку в руки, а тут еще – салат, хлеб, вино. Приходится возиться со многими вещами. Еленучча замечала, что когда подают на жаркое птицу, то как-то стихают шумные разговоры.
«Теперь только его и смазать!» – думает Еленучча и, наконец, решается.
Тихо, как в комнате со скрипучим полом, она поднимается и но влажноватой земле идет на цыпочках.
Сад совсем спит: тихий, сладкий сон. Спит, должно быть, и море – и только выспавшиеся за день звезды закидывают с высоты в воду свои тонкие, серебристые, лукавые удочки. Немного спустя выйдет на середину главный хозяин неба и набросит на море большую хитросплетенную, странную сеть.
Тени окон лежат на земле квадратами, удлиненными вправо. Шагнуть из темноты в такой квадрат – все равно что с земли попасть в воду. Еленучча, держась рукою за стену, тихонько высовывает из темноты на свет свою ножку, словно испытывая: а вдруг кто увидит? А вдруг отец увидит? – и она пугливо оглядывается. Никого. Еленучча передвигается дальше, в свет яркого квадрата, и вот уже виден он. В стакане у него до половины вино. Сегодня он пьет красное. Сегодня из Флоренции получены плетеные бутылки.
Надо спешить, пока нет никого, – вот вся Еленучча, белая, изящная, с красными лентами в распущенных волосах, – на свету. Из левой горсточки она берет ягоду, самую маленькую, – ту, которая не ударит больно, – и вдруг в это мгновение он поворачивается к окну. Он видит ее, он улыбается и опускает стакан, уже поднесенный ко рту. Нет уже сил отступить назад в темноту, и тихо выпадает из рук скользкая ягодка.
Вдруг он снова поднимает вровень с головой наполовину красный стакан и делает знак, что пьет за ее здоровье, и она тихонько, чтобы было не слышно, отвечает ему:
– Благодарю, благодарю!
И, попадая то из света в темноту, то из темноты в свет, бежит мимо окон к воротам, от ворот – по узенькому переулочку, из переулочка – по неширокой аллее, с неширокой аллеи – на широкую, а там – по старой, развалившейся крутизне спускается, царапаясь о кусты, к морю и уже смело, слышно говорит, поворачиваясь к отелю:
– Благодарю!
Все ближе и ближе море: вот уже и ветер, вот развалины монастыря, – сегодня не пятница? Сегодня вторник: значит, привидение вон из головы, можно спокойно ползти вниз: отель все дальше и дальше, все выше и выше, – и Еленучча уже кричит, потому что никто не подслушает:
– Благодарю! Благодарю!
В первый раз она благодарит любимого, – какой восторг!
А море тихое и спокойное: спокойно покоряется тому, что звезды забросили в его глубину свои скользкие, серебряные, вечные, чуть заметные удочки.
Скоро, через полчаса, дома хватятся, – Еленуччу будут искать. Пусть ищут. Кто же может быть дома, на свету, когда так бьется сердце? Первая заметит мать. Скажет тревожно: «Еленуччи нет?»
А разве можно доводить дело до того, чтобы заметили, как бьется сердце?
– Нельзя! – тихо, секретно отвечает Еленучча, покачивая головой, – Нельзя! Ведь правда нельзя? – спрашивает Еленучча у моря.
Море спит, молчит. Звезды делают с ним все, что хотят.
– Нельзя? Слушай, ты! – еще раз обращается Еленучча к нему, и, чтобы нарушить сны, бросает в воду камень. – Решено! Нельзя!
Камень словно растаял и расплылся темным, торопливым кругом, но море только вздохнуло и не проснулось: должно быть, хороши сны.
Еленучча сердится и бросает еще камень: больший. Круг расплывается еще шире и еще торопливее, но всплеск, показалось, был сонливее и неохотнее, – и опять нет ответа.
«Не с кем поговорить! – думает Еленучча и добавляет: – Проклятый остров».
И вдруг вспоминает Мадонну, – ту, что стоит в гроте, вся в лилиях
Надо завтра вечером пробраться к Мадонне. Надо понести ей лилий. Мадонна любит лилии. На одной картине, которую любит отец, нарисовано: Мадонна вознеслась на небо, а гробница ее наполнилась лилиями. Стоят кругом лысые апостолы и сложили руки в изумлении. Лилий, лилий ей, Мадонне!
А почему непременно нужно идти к самому гроту? Разве отсюда Мадонна не услышит? Мадонна слышит и видит все, что делается на земле.
И говорит Еленучча покорно:
– Сделай меня счастливою, Мадонна! Сделай меня счастливой! Я обегу весь остров, я сорву все лилии, какие есть на острове. Если не позволят, я украду, но я все их принесу тебе. Сделай меня счастливой! Ты знаешь, о чем я прошу тебя. Ты все знаешь. Ты все видишь. Ты все слышишь.
IV
Еленучча знает, что после обеда он всегда ходит гулять. Так же как и бна, он сначала пойдет по узенькому переулку, потом свернет на неширокую дорожку, потом на широкую аллею, потом сядет на площадке, снимет шляпу и будет долго смотреть на море.
«А может быть, сверху увидит меня? – думает Еленучча и еще думает: – Меня трудно не увидеть. Я – беленькая».
Она смотрит вверх и различает конусы гор, торчащие кактусы, темно-серые волнистые полотнища дороги. Все боятся ночью ходить по этой дороге, – Еленучча ничего не боится. Ей даже хочется послушать сирен: говорят, что они поют, когда поднимается ветер: не то трамонтано, не то сирокко.
Стоит тишина, странная, особенная. Кажется, что кто-то затаил дыхание, – и все больше и больше набирается воздуху в грудь, все труднее и труднее сдерживать это дыхание, но остров крепится, не хочет дышать, боится шума, караулят его двуокие огни. Пусть шум будет в далеких городах!
Становится прохладно. Еленучча подбирает под платье ноги и думает: вот скоро она наденет длинное платье, будет невестой, будет самой красивой девушкой острова. Кто сравнится с нею? У кого такие волосы? Такие брови? Такие губы? Губы– красные и горячие. Кто бы не хотел их поцеловать?
– Кто бы не хотел их поцеловать? – мечтательно говорит Еленучча.
Еленучча знает, кого она хочет поцеловать.
– Укусила бы ему губы! – думает она; ей смешно и опять не страшно, хотя и море, и сирены тут, неподалеку.
Еленучча нащупывает около себя камень, большой, тяжелый, гладкий, и думает: «убить можно человека» – и вдруг с отвращением отталкивает его ногой: никого не нужно убивать.
…Тихо, тихо: не дышит, притаился остров, будто бы захотел, чтобы его все забыли. И вдруг – шаги. Кто-то идет сверху.
Еленучча замерла.
– Неужели?
Насторожились глаза, остро вцепились вверх: кто-то идет.
«Неужели он? – родилось предположение и радостное, и страшное. – Он увидел ее издали?»
Он идет сюда? Господи боже! Куда же нужно бежать? Куда?
Бежать никуда не надо. Надо только идти вдоль берега, идти поскорее, – и он никогда не нагонит ее. Разве угонятся его ноги за ее беленькими туфлями?
Надо бежать, – шаги все ближе и ближе; но почему же тайно так хочется, чтобы он увидел, как она бежит, куда, в какую сторону?
Шаги слышнее. Скатываются и хрустят под скользящими ногами мелкие камни… Ясно, что он увидел ее: зачем бы ему в этакую пору идти сюда?
Она убежит у него под самым носом, как только он подойдет на расстояние пяти шагов.
И вдруг:
– Еленучча! Это вы?
Его голос.
Низко пригнулась, потом немного выпрямилась, – нельзя иначе: так бьется сердце.
А голос, заглушающий шаги, еще ближе.
– А там весь отель отправился на поиски, – говорит он, – Профессор с женой пошел в одну сторону, англичанин – в другую. А я почему-то думал, что вы побежите к морю. Это вы? Ну конечно, вы. Я издали увидел ваше платье. Сегодня море светится.
И он совсем близко от нее, он берет ее за руки, и не отрывает их она, – только прячет лицо свое в изгибе, там, где локоть.
– Что с вами, Елспучча? Вы плачете? Вас напугали сирены?
Ах, какой он смешной! И Еленучча тихонько смеется: чего бы это она плакала?
– Или вы смеетесь, Еленучча? – говорит он и как будто стыдится своего первого предположения. – Вас не разберешь.
И выходит еще смешнее: он плохо говорит по-итальянски, – очень плохо, в особенности не выходит у него буква «и».
Он начинает тихо гладить своею ладонью далеко открытую руку и говорит:
– А Еленуччу ищут… Ищут…
– Ну и пусть ищут! – говорит она смешливо: ах, как плохо говорит он по-итальянски!
– Еленуччу ищут, – словно не зная или не находя других слов, повторяет он и вдруг говорит на неизвестном языке, вероятно на своем, русском: – Милая Еленучча…
Ома вздрогнула и прислушалась к неизвестному, а он еще раз говорит:
– Милая Еленучча…
Еленучча не любит ничего непонятного: она поднимает голову, широко раскрывает глаза и спрашивает:
– Milaja? Che cosa «milaja»[8]?
– Что такое милая, спрашиваешь ты? – опять на непонятном языке говорит он. – Разве ты не понимаешь, что такое: «милая»?
– Parlate italiano, – отвечает капризно Еленучча, – non capisco[9].
– Ты хочешь, чтобы я говорил по-итальянски? – И он снова дразнит ее непонятными, неуклюжими словами: – Ты не понимаешь? Я давно уже заметил тебя, – твои глаза, твои ручки, открытые до локтя, твои белые туфельки и стройные ноги, милая.
Опять сказано это слово: «milaja». Почему оно такое странное? Почему оно, непонятное, волнует Еленуччу, – даже легкая дрожь пробегает по телу? Все слова, все непонятное, протекло как вода, – почему это слово остановилось в мозгу? Почему так мучительно хочется поскорее узнать его смысл – и она спрашивает еще раз:
– Che cosa «milaja»? Dite, signore, – prego.
Что за чудо? Он, такой большой, такой широкоплечий, пришедший из неизвестной страны, делается самым близким на земле: вот он сейчас стоит около нее, и она не может вспомнить, какое лицо у отца и какой голос у матери? И нежной, неокрепшей рукой она близко привлекает его к себе, и слышит он ее частое, прерывающееся дыхание и не может разобрать тех слов, которые она говорит, и только прорывается одно, его же собственное:
– Milaja! Milaja!
Что дорого в нем? Глаза: светлые. У кого здесь такие глаза? Ни у кого нет. А вот у нее, у Еленуччи, есть теперь серые глаза.
Что дорого в нем? Волосы: светлые. И у отца – черные, и у матери – черные; и у Микеле – черные; и у всех – попов – черные; и у всех на острове – черные. А тут светлые, волнистые.
Разве он, этот большой и милый человек, видит ее мысли? Она может думать, что хочет. Она может говорить, что хочет. Она может повторять, сколько хочет.
– Milaja! Milaja!
Море никому не скажет: оно не понимает любви. Цветы? Они – помощники любви. Они свидетели ее судьбы. Звезды? Их никто на земле, тем более на этом острове, не услышит: они – далеки.
…Вверху опять зашуршали камни, – это, конечно, идут сюда; это, конечно, ищут Еленуччу. Боятся: пропадет Еленучча. Еленучча – маленькая и глупая девочка.
– Здесь! Здесь она! – кричит русский и грозит ей потихоньку пальцем.
И это прекрасно, что он грозит пальцем. Кричит он для видимости. Это секрет. Когда начались секреты, – тогда началась любовь.
Бежит сама мать, – выбежала из дому, в чем была: с растрепавшимися волосами, в фартуке, смешная, сердитая. И кричит нараспев:
– Ах ты девчонка скверная! Ах ты девчонка маленькая! – кричит и хватает Еленуччу за руку. – Высечь тебя надо! Ты куда забралась? Ты хочешь, чтобы сирены тебя в воду затащили?
– Нет, она хорошая девочка! – смешно и успокоительно говорит русский, – Она хорошая. Просто она вышла погулять.
– Она вышла погулять! – кричит, сердясь, мать. – Хорошее местечко она выбрала для прогулки, нечего сказать!
И тащит Еленуччу за руку, как девчонку, попавшую по шалости в воду. Еленучча покорно тянется вверх, по плохой дорожке, но хитро и шаловливо оглядывается: ей приятно, что за ней идет русский, такой темный, такой неясный. Все, что говорит он, все, что говорит мать, все, что сейчас будет говорить отец, – все это пустяки. Важно, что есть секреты.
– Какая же она хорошая? – вдруг с большим гневом говорит мать и останавливается, чтобы передохнуть, потому, что идти еще далеко, – Весь дом ищет ее, негодную! И отец беспокоится, и я беспокоюсь! Нажили отель, нажили денег, купили недавно виноградники, – для кого все это будет, если она, не дай бог, в такую темноту да соскользнет в воду?
Ах, какая смешная эта мать! И как приятно, что он заступается за нее. А нравятся ли ей светлые волосы? А нравится ли ей этот русский, который, улыбаясь в темноте, идет сейчас сзади?
И она говорит:
– Мама! Ты – milaja.
Мать спрашивает:
– Что?
Так смешно, что идти дальше – невмоготу. Опять останавливаются отдохнуть, – они, эти три человека.
Еленучча повторяет:
– Ты – milaja.
Мать опять ничего не понимает и опять сердится, но уже смущенно. И обращается к русскому:
– Благодарю вас, синьор, что вы помогли отыскать эту негодницу! Не будь вас, я никогда бы в эту пору не спустилась к морю. Здесь – места опасные. Здесь места – не особенно чистые. Здесь нужно бы выстроить часовню.
…Еленучча уже взбежала на верхнюю площадку. Видно все-таки, как они: и мать, и русский, словно старики, идут по круче и он бережно взял старуху под руку, помогает ей, а она задыхающимся голосом что-то говорит ему, – и Еленучча кричит им, приставив руку ко рту:
– Ты – milaja.
И смеется от радости: пусть-ка они там внизу разберут, к кому относятся эти слова.
Как прекрасно море, не знающее любви! Как хорошо, что бог так высоко, на тонких ниточках, повесил звезды.
Как широко море, – но нему можно уехать куда угодно: в Россию, например. Плывут корабли, и едут в Россию люди. Неужели в России такие же, как и здесь, дома, такие же рыбы, такой же хлеб?
Покатилась звезда. Она умерла, или ей надоело висеть на небе? или оборвалась ниточка? или это заплакал бог? Неужели богу не хочется пожить на земле?
Хорошо иметь секреты.
– Отель вещь хорошая, – уже на близком расстоянии говорила мать, – но только что я вам скажу, синьор: трудно нам, синьор. Мы двое: я и муж. Уже старики. Уже нет прежних сил. В прошлом году и я, и он уже купили очки. Ездили для этого в Неаполь. И ноги, – ведь самое главное в человеке – ноги. А ноги наши уже скрипят, синьор. Да, скрипят. Как старые колеса. Починить надо. А кузница наша – на небе. У самого господа бога. У архангела Гавриила. У нашего патрона Констанция.
Что так говорлива мать?
Она разговорчива только с людьми, которые ей нравятся. Русский ей нравится? Вообще она иностранцев не любит, почему же тогда ей нравится русский? Вот интересная вещь.
V
Каждый вечер долго тянется обед.
Уже темнеет. Уже прохладно. Уже купается в море золото, упавшее с луны. На что морю деньги? Почему деньги не тонут? Портрет какого императора чеканится на этих золотых шаловливых монетках?








