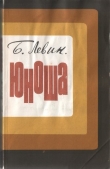Текст книги "Впереди — Днепр!"
Автор книги: Илья Маркин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Глава сорок первая
Павел Круглов лежал в тени густого ельника, с наслаждением вдыхая напоенный хвоей ароматный воздух. Еще весной отрядный врач сказал Круглову, что серьезная опасность для его здоровья миновала. Самое главное теперь: беречь больное сердце, не делать резких движений, не утомляться и жару стараться проводить в холодке на вольном воздухе. Тогда же, по совету врача, Васильцов поручил Круглову присматривать за подтощавшими отрядными лошадьми. По ночам Круглов пас лошадей на лугах и полянах вблизи лагеря, а как только рассветало, загонял их в дебри непроглядного бора и держал там до вечера. Это дневное, ничем не занятое, время было для Круглова самым блаженным. Он часами спал под лошадиные всхрапы и перестук копыт, в полдень шел на кухню, получал свою порцию обеда и, напоив лошадей, опять дремал на мягкой шелковистой траве.
Партизаны куда-то ходили, что-то делали, проводили какие-то занятия, но Круглов ничем этим не интересовался, лишь изредка слыша обрывки, оживленных разговоров о походах, минах, ночных засадах и внезапных тревогах. Часто на кухню прибегала озорная девушка-почтальон и, зная всех до одного партизан не только по фамилии, но по имени и отчеству, с шумом раздавала письма.
– А вам нет, – всякий раз сочувственно говорила она Круглову, – только не переживайте, в следующий раз обязательно принесу.
– Спасибо, дочка, не всем же сразу, – отвечал Круглов, стараясь поскорее уйти от резвой почтальонши.
После каждого такого разговора он собирался сегодня же, в крайнем случае завтра, написать домой. По ночам, когда, гремя цепными путами, кони паслись на лужайках, Круглов обдумывал строки длинного-предлинного письма. В нем он перво-наперво передаст поклоны всем родным, всем знакомым, потом сообщит о том, что жив и здоров, что долго болел, но доктора, к счастью, оказались хорошие, и теперь он совсем, как прежний, вот только схватывает иногда сердце и ломят в непогоду простуженные ноги.
Слова письма складывались у него легко и гладко, как ровные кирпичи на стене, ладно прикладываясь одно к другому. Оглядывая темные силуэты лошадей, он представлял, как обрадуется, получив его письмо, Наташа, как из глаз потекут слезы. Конечно, она заплачет, может закричать, как всегда кричат бабы при всяких вестях, а может и промолчит. Нет, не промолчит! Хоть чуточку да всплакнет. Ведь, куда не кинь, а прожили они вон сколько лет, троих детей нарожали, да и, как говорят, соли не один пуд съели. Было, известно, у них много и плохого, только какая семья без раздоров может через всю жизнь пройти.
Оправясь от болезни, Круглов почти никогда не вспоминал прошлое и думал только, как пойдет его жизнь, когда он вернется в свою семью. Он часто пытался и никак не мог представить, какими же стали теперь его дети. Они все казались ему маленькими, на один рост, хотя отчетливо помнил, что самой старшей Анне, шел уже пятнадцатый год. Да и Наташа представлялась ему как-то смутно, совсем не такой, какой была она при совместной жизни. Отлично помнил Круглов только ее мягкие, шелковистые волосы, старательно убранные в аккуратный пучок.
Всю ночь он, присматривая за лошадьми, все в одном и том же варианте сочинял письмо. Но наступал рассвет, разгорался день, и все, так старательно подобранные слова исчезали из его памяти. Им овладевала сонливость, и он решал сесть за письмо завтра, сразу же после завтрака или, на крайность, после обеда. Эти завтра продолжались у Круглова нескончаемой чередой.
Уже во всю силу разгорелось лето, и в начале июля где-то далеко на востоке, под Орлом и Курском, глухо загудела канонада. Днем она была не так слышна, но по ночам, особенно на утренней зорьке стрельба доносилась отчетливо и ясно. Больше недели стрельба нисколько не приближалась и не удалялась. Но утром двенадцатого июля загудело совсем в другой стороне, намного ближе и яснее. С каждым днем гул заметно нарастал и приближался. Теперь стали говорить, что Красная Армия начала наступление на Орел сразу с трех сторон.
– Чуешь, Паша, – сказал подошедший Васильцов, когда на рассвете Круглов загнал лошадей под деревья, – наши пушечки грохочут, лупят фашистов и в хвост и в гриву.
Васильцов присел рядом с Кругловым, закурил и, пуская сизые клубы дыма, мечтательно продолжал:
– Идут наши и прямо сюда. Вот соединимся скоро и опять заживем во всю силушку. Тебе-то, конечно, домой придется, здоровье твое слабовато, а я нет, я до их Берлина дойду. Последний гвоздь в гроб фашизма вколочу. Попрошусь только на, недельку семью повидать – и на фронт. Ты в колхоз, конечно, подавайся. Хоть не ахти какое твое здоровьишко, а все подмога колхозу. Там же теперь старый да малый, да бабы разнесчастные. Мужчина – редкость большая.
Теплые душевные слова Васильцова вмиг оживили в потускневшем сознании Круглова картину родной деревни, куда скоро, совсем скоро вернется он и заживет, как говорит Васильцов, во всю силушку. Он уже мысленно начал молить, чтобы гул скорее придвинулся и в леса ворвались наши солдаты. А Васильцов продолжал говорить все так же задумчиво и мечтательно, докуривая одну папиросу и торопливо сворачивая другую.
– А ведь ровно год, как попали мы в плен. Даже в самом кошмарном сне не виделось мне такое. И вот на тебе, очутился в плену. Лежал, помню, из ручного пулемета стрелял, а тут ударило, помню, раз, другой и все провалилось. Очнулся, когда фрицы прикладами охаживали…
Васильцов неожиданно поперхнулся, словно проглотив что-то острое, удушливо закашлялся и, вытирая ладонью слезы, с горечью сказал:
– Вот так и очутился в плену. А будь в сознании, ни в жизнь не захватить бы им меня. Тебя-то, я помню, они тоже чуть живого в подвал приволокли, – сожалеюще добавил он и смолк.
– Да… Я уж и не помню, – прошамкал Круглов, мгновенно вспомнив Костю Ивакина и его полные ненависти слова: «Гадина! Предатель!», которые давно уже затерялись в помутневшей памяти Круглова.
Васильцов еще говорил что-то, но Круглов не слышал. Перед ним, как живое, стояло перекошенное злобой лицо Кости Ивакина, точно такое же, каким он видел его, когда, подняв руки, побежал навстречу наступавшим немцам. Гул канонады в это время заметно возрос, и Круглову почудилось, что он видит там, среди наступавших цепей, Костю Ивакина.
– Ну, отдыхай, сил набирайся, скоро с родными, с нашими встретимся, – сказал Васильцов и, к великой радости Круглова, тут же ушел.
«Наши… Скоро… встретимся… – беспорядочно билось в уме Круглова, – сил набирайся… с нашими встретимся…»
Он обессиленно свалился на траву, чувствуя теплую, отдававшую прелью, захвоенную землю. А в ушах все явственнее и жестче продолжал звучать совсем было позабытый голос Кости Ивакина: «Гадина! Предатель!»
«Да ведь если он жив, то все знают, что я не попался, а сам побежал в плен, – опалила Круглова впервые осознанная им мысль. – Он же командирам рассказал, а те, известно, сразу написали, куда нужно. Какой же мне теперь дом…»
В полном сознании, совсем не чувствуя ни боли в груди, ни ломоты в ногах, ничком лежал он на лесной земле и, как давно с ним не бывало, лихорадочно думал. Конечно, и в деревню сообщили, что сам по себе, добровольно перебежал к немцам. Сразу же власти понаехали, корову, может, отобрали, а может, и всю семью выслали. Ведь сколько же говорили и в присяге писалось, что тех, кто перебегает, ждет самая суровая кара. Ну, может, Наташку и детишек пощадили, а уж корову-то верняком отобрали.
Ему стало так жаль рыжую, с белой звездочкой на лбу, всего по второму телку корову, что он заплакал.
«Сдурел совсем, – через минуту опомнился он и пугливо осмотрелся по сторонам, – если и тут узнают, даже Васильцов и тот не пощадит. Ведь все-то в плен, не как я, попали… А может, и не уцелел тогда Ивакин», – ободрила его радостная мысль, но тут же наплыло другое:
«Ивакин-то не один там был. Позади-то командиры сидели. Они все видели…»
Неудержимое отчаяние вновь придавило Круглова к земле. В памяти мелькнула веселая, дрожавшая от смеха Наташа и тугой пучок волос на ее голове. Наташу сменило весеннее, далекое-далекое утро, когда он еще мальчонком с работниками выехал в залитое солнцем, сизое от легкого пара яровое поле. От этого воспоминания у него потеплело в груди. Он приподнялся, потом встал на колени. Сквозь густые ветви сосен упрямо сочились тонкие и прямые иглы такого же, как в то далекое утро, солнечного света. Укрытые под деревьями лошади, разбившись попарно, с упоением чесали зубами друг другу холки.
«А может, и не знает никто, – жадно оглядывая лошадей, недвижно уснувшие ели и испещренную солнечными бликами землю, подумал Круглов, – может, перебили всех в тот день, и один я в живых остался…»
* * *
От командира партизанской бригады Перегудов вернулся только на третьи сутки. Возбужденный, с худым сияющим лицом и необычно улыбчивыми глазами, он старательно захлопнул дверь землянки и с каким-то праздничным тоном в голосе торопливо заговорил:
– Ух, Степан Иванович, и дела развертываются. Как услышал, дух захватило! Первое – это положение на фронтах. Наступление гитлеровцев на Курск от Орла и Белгорода в пух и прах провалилось. Воронежский и Степной фронты отбросили немцев назад к Белгороду и полностью вышли на свои прежние позиции. Западный, Брянский и Центральный фронты с трех сторон штурмуют орловскую группировку гитлеровцев. Есть сведения, что немцы начинают поспешно оттягивать свои тылы из Орла. Так что не просто жарковато фашистам, а совсем горячо, вот-вот жареным запахнет.
– Это одно, – торопливо прикурив от папиросы Васильцова, продолжал Перегудов, – а теперь второе, наше, партизанское. Только лично для тебя, больше пока никому ни звука! Все наши партизанские силы начинают грандиозную операцию. «Рельсовую войну»! Понимаешь? Не налет, не взрыв, не операцию, а войну, да еще рельсовую. Это, Степан Иванович, и представить трудно. Суть вот в чем. Все наши партизанские отряды, группы, соединения по общему единому плану, в одну и ту же ночь на всей нашей территории, захваченной фашистами, рвут на железных дорогах рельсы, мосты, переезды, стрелочные устройства. Короче говоря, наносят мощный одновременный удар по всем железным дорогам в тылах немецких войск. Подумай только, – склонясь к Васильцову, воскликнул Перегудов, – каково будет самочувствие немецких солдат, да и не только солдат, когда на всех основных магистралях оккупированной территории разом полыхнут тысячи взрывов. Вот те и уничтожены советские партизаны!.. Вот те и горстки бродяг и бандитов, как распинается о нас Геббельс. А что они запоют, когда почти вся прифронтовая железнодорожная сеть будет выведена из строя, когда эшелоны не смогут двинуться ни к фронту, ни от фронта?
Затаив дыхание, слушал Васильцов Перегудова и от возбуждения переломал целую коробку спичек.
– Эй, эй! – остановил его Перегудов. – Ты что же это? Спички у нас на вес золота, а ты их, словно фрицев, крошишь.
Васильцов по-мальчишески густо покраснел и поспешно собрал обломки спичек с уцелевшими головками.
– Ну, ладно, – миролюбиво сказал Перегудов, – скоро всего будет вволю, а не только спичек. Так вот, – развернул он карту, – на операцию приказано вывести всех партизан. Охрану лагеря поручим тем больным и раненым, которые способны владеть оружием. А впрочем за лагерь опасения напрасны. Фрицам сейчас не до нас, их с фронта так жмут, что только треск стоит. Так вот, идем на подрыв вот этих участков.
Как и всегда, принимая решение, Перегудов то и дело спрашивал Васильцова, думал, вновь советовался и, выбрав лучший вариант действий неизменно восклицал:
– Подписано! Точка!
– А теперь вот что, – поставив очередную «точку», в раздумье сказал Перегудов, – помимо участков железнодорожного полотна нам приказано уничтожить еще один объект. Это мост, да собственно не мост, а мостик на перекрестке большака и железной дороги. С виду объект не больно важен, но роль его сейчас очень велика. Его уничтожение закупоривает сразу две дороги. Вся беда в том, что подобраться к нему трудно и сделать это может не всякий. Тут нужна и голова светлая и отвага безграничная.
– Кленов, Артем, – сказал Васильцов.
– И я так думал. Этот справится. И группа у него надежная.
– Вот только, – болезненно морщась, с трудом проговорил Васильцов, – только вот Нина… После столь тяжелой работы в Орле она еще не совсем оправилась.
– Верно, – всей грудью вздохнул Перегудов, – думал я о ней. Жалко. Но она хорошо знает немецкий язык, а группе Кленова наверняка придется с немцами столкнуться. Да и другое, – увереннее продолжал Перегудов, – если вся группа Кленова пойдет, а она останется, то это смертельно обидит ее. Она же, сам знаешь, какая.
– Да, – согласился Васильцов, – придется посылать.
* * *
Перегудов и Васильцов, не глядя друг на друга, сидели в шалаше и уже второй час молчали.
Трижды выходил отряд на линии железных дорог, и трижды ночную тьму на широком пространстве рвали сотни взрывов самодельных партизанских мин. Все группы подрывников без потерь вернулись в лагерь. Только в первую же ночь не вернулась группа Артема Кленова.
Перегудов и Васильцов прождали сутки, вторые и в третью ночь к месту действий группы Кленова послали самых лучших разведчиков. Два часа назад разведчики возвратились в отряд. На месте железнодорожного моста, что пересекал большак, в грудах обломков под сильной охраной со всех сторон работала немецкая восстановительная команда. Никаких сведений о группе Кленова добыть разведчикам не удалось. Только жители лесного хутора рассказывали, что часа через два после взрыва моста за железной дорогой вспыхнула сильная автоматная стрельба. До самого рассвета трещали ожесточенные очереди, потом лопнуло несколько гранатных взрывов и все смолкло.
* * *
Васильцов бежал, не чувствуя ни собственного тела, ни хлеставших по лицу колючих веток. С востока, меж расступившихся деревьев, приближались еще смутно различимые люди в защитных гимнастерках с погонами, в касках, пилотках, фуражках с красными, удивительно сияющими звездочками.
Стремительное, неудержимое «ура» неслось с двух сторон и, схлестнувшись всколыхнуло весь лес. Васильцову показалось, что дрогнула, качнулась земля, и в каком-то пьянящем вихре закружились деревья. Не помнил, он ли первым схватил подбежавшего советского бойца или тот раньше обвил руками его шею, не знал, был ли это один человек или несколько, и не мог представить, сколько продолжалась эта встреча в сосновом, затопленном сияющим светом, бору.
Опомнился Васильцов от чьих-то настойчивых рывков за руку. Обернувшись, он увидел испуганное лицо мальчишки, который в последние дни был приставлен подпаском к Павлу Круглову.
– Там… Там вон, – бессвязно лепетал паренек, – дядя Павел… Дядя Круглов лежит…
– Круглов? Что с ним?
– Не знаю. Бежал, как все, когда сказали, что наши подходят. Я тоже. Потом он повернулся, назад пошел и упал.
У куста колючего чепыжника, вывернув стоптанные каблуки сапог, ничком лежал Круглов. Стягивая с головы фуражку, над ним возвышался отрядный врач.
– Что? Что случилось?
– Сердце. Этого давно нужно было ожидать, – проговорил врач, опуская руки.
Глава сорок вторая
В этот день, 23 июля 1943 года, точно так же, как и девятнадцать суток назад солнце светило ослепительно ярко и по бледной синеве высветленного неба лениво скользили редкие облака. Только на земле было совсем не так, как тогда, 4 июля 1943 года. По холмам и высотам, через разбитые села и покалеченные огнем реденькие рощи, вздымая тучи пыли на дорогах, от Курска к Белгороду, с севера на юг наступали советские войска. Собственно, наступления в полном понятии этого слова не было. Получив 12 июля сокрушительный удар под Прохоровной, белгородская ударная группировка немецко-фашистских войск еще несколько дней создавала видимость продолжения наступления на Курск, а затем, прикрываясь заслонами, стала отходить на юг, к Белгороду, на прежние позиции. Отсюда начала она свое наступление во второй половине дня 4 июля. Сбивая заслоны, советские войска неотступно преследовали ее и 23 июля полностью очистили свои траншеи и окопы, которые занимали они до перехода гитлеровцев в наступление. Почти три недели ожесточенных кровавых боев закончились полным крахом замыслов гитлеровского командования.
А в это же время войска Западного, Брянского и Центрального советских фронтов с трех сторон штурмовали позиции немецко-фашистских войск на орловском плацдарме, с каждым днем стискивая и сужая его, надвигаясь на Орел с севера, с востока и с юга.
* * *
Четвертые сутки сопровождал Андрей Бочаров Никиту Сергеевича Хрущева в поездке по войскам Воронежского фронта. Он не однажды встречался и говорил с членом Военного совета фронта, но никогда еще не работал с ним так близко и столь длительное время. Поэтому, собираясь в поездку, когда генерал Решетников сказал ему, что Никита Сергеевич приглашает его с собой, Бочаров подготовил новенькую оперативную карту с самыми последними и точными данными обстановки. Он запасся также сведениями о состоянии и положении войск, штабов и тылов фронта, заново переписал и выучил почти наизусть список руководящего состава соединений и частей, захватил с собой вторую карту с маршрутами дорог и местами расположения командных пунктов.
Однако все эти приготовления оказались излишними. Хрущев удивительно точно знал не только расположение огромного количества войск и тылов Воронежского фронта, но и помнил фамилии и многие имена и отчества командиров корпусов, дивизий, бригад, полков, не говоря уже о командовании общевойсковых, танковых и воздушных армий. С какой-то совершенно непонятной Бочарову интуицией ориентировался Хрущев и на местности, часто опережая адъютанта и подсказывая шоферу, куда нужно ехать на самых запутанных перекрестках неисчислимых фронтовых дорог.
Перед выездом Хрущева в войска 23 июля была закончена разработка планов большого наступления Воронежского и Степного фронтов на белгородско-харьковском направлении с последующим выходом к Днепру и захватом плацдармов на его правом берегу. Проверка подготовки к этому наступлению и была целью поездки Хрущева в войска.
Участвуя в разработке планов операции, Бочаров был восхищен грандиозным замыслом и размахом этого наступления. Воронежский и Степной фронты начинали прорыв вражеской обороны силами двух общевойсковых армий и одного стрелкового корпуса, которые в первом эшелоне развертывали шестнадцать стрелковых дивизий, усиленных танками. Затем непрерывно наращивая усилия, они последовательно вводили в сражение первую и пятую гвардейские танковые армии, четыре отдельных механизированных корпуса и еще четыре общевойсковых армии, стоявшие на флангах главного удара. Напором всех этих сил вражеская оборона на огромном фронте от Белгорода до Сум за несколько дней должна быть взломана, подходившие резервы смяты, и вся белгородско-харьковская группировка немецко-фашистских войск, насчитывавшая в своем составе пятнадцать пехотных, одиннадцать танковых и одну кавалерийскую дивизию, разгромлена, и остатки ее обращены в бегство. На сотни километров, освободив Белгород, Сумы, Харьков, Полтаву, Ахтырку и множество других городов, должны были всего за две-три недели продвинуться советские войска.
Тогда, во время обсуждения планов этого наступления, Бочаров видел, как светлело, искрясь заразительным блеском разгоревшихся глаз, подсиненное усталостью, лицо Хрущева при упоминании городов и сел, которые должны были освободить советские войска, Бочаров видел также, как стремительно и порывисто бегал по карте его карандаш, прочеркивал пути движения дивизий, корпусов и армий, как задерживался этот карандаш, медленно обчерчивая границу украинских земель, на которые после двух лет вражеской оккупации вступят вскоре советские воины.
– Только не брать города и населенные пункты в лоб, – несколько раз повторял он. – Везде, где будет малейшая возможность, обходить их, блокировать, окружать вражеские гарнизоны. Так будет меньше разрушений и меньше жертв в войсках и среди местного населения.
Эту же мысль повторял он в каждом батальоне и полку, в каждой дивизии и бригаде, каждому командиру во время своей поездки в войска. Обычно спокойный и неторопливый, он сердился, когда докладывали ему о лобовых атаках и почему-то вошедших в особую моду штурмах городов и сел, которых было так много на пути наступающих войск.
– Штурм, штурм, – нетерпеливо оборвал Хрущев молодого командира дивизии, чеканившего план овладения большим селом на берегу реки Ворскла. – Зачем штурмовать, когда можно взять простым обходом через вот эти холмы и высоты. Село-то в низине, а вокруг возвышенность. Обрушьте весь огонь по этим высотам, захватите их танками и пехотой – и ни один фашист не усидит в селе. Садитесь-ка, полковник, с командиром дивизии, – сказал он Бочарову, – и переработайте весь план наступления. Никаких лобовых атак и бессмысленных штурмов! Обход, охват, удар с тыла – вот основа всех действий в наступлении. Как можно меньше жертв и разрушений, как можно больше ума, гибкости и воинского мастерства!..
– Итак: пятнадцать минут огня всей артиллерии, залп реактивных минометов – и город взят, – насмешливо говорил он другому командиру дивизии, – так что ли, Петр Андреевич?
– Так точно, Никита Сергеевич, – не поняв иронии Хрущева, с готовностью ответил польщенный его вниманием пожилой генерал. – Огневых средств достаточно, все сметем!
– Да, да. Теперь огневых средств достаточно. Не приходится, как в сорок первом году, каждую пушчонку учитывать, – задумчиво проговорил Хрущев и, приглушенно вздохнув, тихо спросил:
– А где твоя семья, Петр Андреевич?
– В Сибири, – совсем растроганно ответил генерал, – я же с дивизией оттуда приехал.
– Далековато, далековато, – с затаенной грустью проговорил Хрущев и, резко подняв голову, в упор посмотрел на генерала. – А как бы вы чувствовали себя, Петр Андреевич, если бы ваша семья жила не в Сибири, а вот в этом городке, на который вы нацелили более трехсот орудий и минометов и восемнадцать батарей «катюш».
Генерал багрово покраснел, судорожно дернул серебристой головой и невнятно пробормотал:
– Война же… Необходимость, Никита Сергеевич…
– Конечно, война, конечно, необходимость, – подтвердил Хрущев и, глядя прямо в растерянные глаза генерала, положил руку на его плечо.
– Вот что, Петр Андреевич, – мягко сказал Хрущев, – даю тебе в помощь полковника Бочарова. У него солидный опыт планирования наступления, да и генштабист он к тому же. Пересмотрите-ка с ним весь план действий дивизии. Тщательно, внимательно, критически пересмотрите. А я пока в полки ваши загляну, с людьми потолкую.
Объезжая одну дивизию за другой, Бочаров поражался кипучей неугомонности Хрущева. С рассвета и до темна неторопливой походкой ходил он по подразделениям, часами говорил с солдатами и офицерами, заглядывал на кухни, склады, медпункты, осматривал оружие и технику, терпеливо, то хмуря широкий лоб, то озаряясь заразительной улыбкой, выслушивал множество людей, часто говорил сам, то с той же веселой улыбкой, то резко и требовательно, подчеркивая и поясняя свои мысли меткими пословицами, поговорками, стремительными жестами подвижных рук. А как только сгущалась темнота, он уединялся с командирами, с политработниками, с хозяйственниками в землянках, в блиндажах, в скрытых лесами палатках, опять слушая, осаждая собеседника множеством вопросов, растолковывая и объясняя, как лучше и целесообразнее действовать, как поступить в конкретных условиях обстановки. И почти в каждой дивизии или бригаде, найдя какие-либо недостатки, он тихо, с затаенным недовольством в голосе говорил Бочарову:
– Займитесь, Андрей Николаевич, помогите товарищам.
– Вы не в обиде, Андрей Николаевич, что я столь обильно нагружаю вас работой? – возвращаясь в штаб фронта, с лукавой улыбкой спросил как-то Хрущев.
– Что вы, Никита Сергеевич, я так рад, – с жаром воскликнул Бочаров. – Это же… Это же настоящее, живое дело!
– А вы по живому делу, видать, всерьез соскучились. Надоело в больших штабах сидеть и все контролировать, контролировать? Правда?
Словно уличенный в недостойных мыслях, Бочаров отвел глаза в сторону и, стараясь говорить как можно спокойнее, смущенно проговорил:
– Работа у меня очень интересная и, я понимаю, очень нужная, только…
– Только хочется самому, засучив рукава, в полную силушку потрудиться, – закончил его невысказанную мысль Хрущев.
– Очень, – чистосердечно признался Бочаров.
– Законное, абсолютно законное стремление, – сказал Хрущев и смолк, с грустью глядя на плывшие навстречу машине изрытые окопами и избитые воронками пустынные поля.
* * *
Всю ночь со второго на третье августа 1943 года северо-западнее Белгорода по ходам сообщения с севера на юг, из тылов к переднему краю двигались стрелки, автоматчики, пулеметчики, бронебойщики, редкие группы саперов и связистов. Они старались идти как можно тише, не лязгать оружием и инструментами, не говорить и не кашлять. И все же, несмотря на жесточайшие предосторожности, в зыбкой полутьме куцей летней ночи от множества одновременно передвигавшихся людей плыл, все нарастая к тылу, странный на этих безводных просторах шорох, похожий на шум морского прибоя. В разных местах с юга, из траншей немецко-фашистских войск взлетали осветительные ракеты. Шорох замирал и, как только, отгорев, рассыпалась искрами ракета, вновь плыл, приближаясь к переднему краю и растворяясь там.
Дальше в тылах, в двух, трех, пяти километрах от переднего края, рокотали моторы, фыркали и стучали подковами лошади, приглушенно лязгал металл, стучали колеса, и уже, почти не таясь, переговаривались люди.
А еще дальше, так же с севера на юг, с открытыми люками ползли совсем черные в темноте колонны танков, броневиков, бронетранспортеров. В балках, в лощинах, реденьких рощах и жалких остатках разбитых сел они растекались в стороны и замирали точно так же, как замирало движение пехотинцев на переднем крае.
К рассвету все стихло. Когда брызнули первые лучи солнца, все обширное пространство северо-западнее Белгорода было безлюдно, словно за ночь ничего не произошло и все оставалось точно таким, как вчера, позавчера и в другие дни полуторанедельного затишья на этом участке фронта.
– Доложите командиру корпуса: «Дивизия и все приданные ей части заняли исходное положение и готовы к наступлению», – приказал генерал Федотов своему начальнику штаба и вышел из душного блиндажа.
В окопе наблюдательного пункта, опираясь локтями на бруствер, сутулился генерал Катуков. В такой же позе, напряженно глядя на закрытые дымкой вражеские позиции, стоял он и час назад, когда Федотов ушел в блиндаж, чтобы принять доклады командиров частей о занятии исходного положения для наступления.
– Вы бы вздремнули, Михаил Ефимович, – подошел к нему Федотов.
– Не могу, – шумно вздохнул Катуков, – уж кажется, черт знает, в каких только переделках не бывал. Как говорят, огни и воды и не только медные, а даже ржавые трубы прошел, но как только предстоят серьезные бои, совладать с собой не могу. И главное знаю же, точно знаю, что все сделано, все готово, причин для волнения нет, а нудит и нудит на душе, словно червяк подтачивает, не могу ни спать, ни есть, ни думать спокойно, пока бои не начнутся. Вот кому позавидуешь, – кивнул он на темное углубление окопа, где, закутавшись в плащ, свернулся опять прибывший в дивизию Федотова полковник Столбов, – храпит, как целый квартет оркестровых басов.
– Простите, товарищ генерал, – сбросив плащ, приподнялся Столбов, – может и дал небольшой концертик, но вот уже больше часу, как мои инструменты бессильно молчат.
– Что ж такое, рассохлись что ли? – подмигивая Федотову, усмехнулся Катуков.
– Тональность потеряли в предчувствии свиста, а не аплодисментов в сегодняшнем концерте, – оправляя китель и причесывая растрепанные волосы, ответил Столбов.
– Что вы говорите? – иронически воскликнул Катуков. – Неужели все так мрачно?
– Мрачно не мрачно, а все же хмарновато, – в тон Катукову ответил Столбов и, кивнув головой в сторону противника, настойчиво спросил:
– Сколько он своих зверей бронированных против каждых десяти ваших коробочек может выставить?
– Сколько точно будет их танков против наших десяти, сказать трудно, но в общем-то у нас танков в шесть-семь раз больше, – ответил Катуков.
– Во! – резко взмахнул крупной головой Столбов. – Вы в семь раз сильнее противника и все же говорите, что червячок вас подтачивает. И пушкари тоже, небось, охают да тревожатся. У них тоже беда: против каждой немецкой пушки они выставили шесть своих. Во! Шесть против одной! – еще резче встряхнув головой, подчеркнул Столбов. – А что нам, бедным авиаторам, делать? Не семь и шесть против одного, а всего лишь десять своих самолетов против девяти фашистских можем выставить мы. Десять против девяти! От такой арифметики не очень-то вздремнешь!
– Не горюй, полковник, не привыкай хныкать, – жилистой рукой дружески похлопал Катуков по плечу Столбова, – в сорок первом не десять против девяти, а один против десяти, а то и еще меньше бывало, но выдержали. И не только выдержали, а повернули их от Москвы и погнали назад. Я помню, – помолчав, с блуждающей на лице улыбкой продолжал Катуков, – перед Московским наступлением считали мы, считали, мозговали, мозговали и даже на самом главном направлении не могли сосредоточить и десяти танков на километр фронта. А сейчас мы бросим до семидесяти танков на каждый километр фронта и не на каком-то одном направлении, а в широченной полосе, которую и пушкой насквозь не прострельнешь.
– Да, под Москвой… – увлекся воспоминаниями и Федотов, – под Москвой мы еле-еле наскребли два десятка орудий и минометов на километр фронта.
– А теперь? – оживленно спросил Катуков.
– Чуть-чуть больше, – усмехнулся Федотов и, погасив усмешку, вполголоса добавил:
– Двести тридцать орудий и минометов на каждом километре всего фронта наступления.
– Во! – вновь с укоризной воскликнул Столбов. – Такой махиной не то что какую-то оборону фрицевскую прорвать, можно высоченные горы свернуть. А нам опять понатащили фрицы свежих авиационных частей со всей Европы и будь здоров – кувыркайся с ними в воздухе один на один.
– Ничего! – с жаром проговорил Катуков. – Вот войдут наши гвардейцы в прорыв и начнут аэродромы фашистские прочесывать, враз соотношение сил в воздухе изменится.
– Четыре сорок шесть, – взглянув на часы, озабоченно сказал Федотов, – сейчас дадим первый пятиминутный огневой налет всей массой артиллерии и минометов.
– А мы сразу же после этого удара бросим бомбардировщики на тылы и огневые позиции фашистской артиллерии, – сказал Столбов, прилаживая шлемофон.