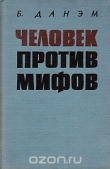Текст книги "Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика 1997 - 2015"
Автор книги: Игорь Смирнов
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 53 страниц)
О стульчаках, или Почему я патриот
Опубликовано в журнале: Неприкосновенный запас 2009, 3(65)
Есть два способа, посредством которых цивилизованно обустраиваются отхожие места. В одном случае рядом с канализационным отверстием настилают два ребристых упора для ног. Чтобы справить большую нужду, вы надежно садитесь орлом и испытываете, помимо облегчения, чувство близости к природе, даже если вы очутились в общественной уборной на Ленинградском вокзале в Москве, где толчки сконструированы по вышеописанному принципу. Другой способ более замысловат, но и более распространен. Это сантехническое сооружение включает в себя: а) унитаз и б) деревянное или пластмассовое сидение, называемое стульчаком. Вы располагаетесь в уборной со всеми удобствами, почти как в кинотеатре. Казалось бы, что в продвинутой цивилизацииtertiumnondatur. Но виртуозный русский гений нашел неклассический выход из примитивного дуализма (в согласии с тернарной логикой отца Павла Флоренского, обоснованной в «Столпе и утверждении истины» в пику формализму Бертрана Рассела). Если вы посещаете Государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Петербурге (ныне она носит симптоматичное в нашем случае название Российской национальной библиотеки), неспроста, видать, названную по имени великого русского сатирика, вы сразу поймете, о чем я говорю. Там в кабинках стоят унитазы, с которых аккуратно свинчены стульчаки. Почему они изъяты, не ясно для незадачливого ума. Очевидно, однако, что сесть на такой унитаз нельзя, а взгромождаться на него всем телом крайне опасно: того и гляди – соскользнешь в самозабвении с коварного пьедестала и то ли рухнешь головой о каменный пол, то ли попадешь ногой, хрустнувшей в кости, в фекалии.
Над русскими легко глумиться, чем они сами и занимаются, не дожидаясь критики со стороны. Похоже, что ни одна нация на Земном шаре не отрицала себя с такой же категоричностью, как наша. Петр Чаадаев окрестил Россию «лакуной», Владимир Соловьев предрек ей растворение в сообществе христианских народов, Максим Горький с ненавистью отозвался о ее корнях – крестьянстве. «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!» Я склонен думать, что представления о России как о спасительнице человечества – не более чем оборотная сторона нашей готовности к самоуничижению. Ведь все, для кого наше отечество было призвано нести миру истину – от Ивана Киреевского до Николая Данилевского и далее до евразийцев, – вели речь лишь о возможностях России, а вовсе не об ее актуальном состоянии. За рассуждениями о потенции страны просвечивает компенсаторное мышление: желание не быть в нехватке (не быть культурой с запоздалым возникновением философии, как того хотелось Киреевскому; не быть подражанием «романо-германскому» Западу, как на то надеялись Данилевский и евразийцы). Куда деваться из отсутствия, как не в навязчивое всеприсутствие, находящее себе выражение в идее нации, избранной Промыслом в качестве образцовой в планетарном масштабе? Мудрый Сталин, вероятно, ощущал возместительную ущербность русского мессианизма и поэтому сделал свою державу местом, в котором никогда не было недостачи, пусть хотя бы в (присвоенных ею) технических изобретениях.
Вопрос о том, почему русские относятся к себе как к дефицитарным существам, неотторжим от вопроса о том, почему унитазы в Публичке в приказном порядке лишены сидений (интересно, где они хранятся?). Дело не в том, что нам действительно чего-то не хватает, а в том, что нам – дабы обрести национальную идентичность и сохранять таковую – нужно бесперебойно утверждать отсутствие самого необходимого. До Григория Сковороды на Украине и до Чаадаева в Великороссии у нас не было оригинальной философии не потому, что восточные славяне не способны к отвлеченному мышлению (читали же они с увлечением переводы из Дионисия Ареопагита), а потому, что этот вершинный дискурс был намеренно (как стульчаки в храме Буквы и Духа) изгнан из обращения (старец Филофей гордился тем, что он, сельский человек, не обучен афинской мудрости). Петровские реформы проводились так, как если бы на Руси не было внутренних сил, чтобы держаться вровень с Западом (но они были: начиная со Смутного времени страна вровень с европейскими соседями переживала рост барочной культуры – как придворной, так и низовой). Славянофилы-романтики мечтали вернуться в допетровскую Русь, не видя вокруг себя национального своеобразия (оно состоит у нас в том, что его всегда ищут). Как только в Российской империи намечалось избавление от недостач, допустим, благодаря развитию промышленного производства, в протесте против незаслуженного благополучия крайне правые (обер-прокурор Синода Константин Победоносцев) объединялись с крайне левыми (революционными партиями), одинаково выступая борцами с капиталом. В конце концов, большевикам удалось создать долгосрочное общество тотального дефицита – вечной и бесконечной «очереди», изображенной в первом романе Владимира Сорокина. Тоталитаризм – кульминация русского самосознания, его наиболее адекватное воплощение. Но разве посттоталитаризм, грезящей если не о восстановлении сталинского сверхгосударства, то хотя бы о праве России иметь поодаль от себя зоны влияния, не все то же порождение нашей всегдашней неполноценности?
Не знаю, откуда она взялась. С княжения ли варягов, с церковного ли подчинения Киева Византии? Установление генезиса – важная задача, но ее решением можно пренебречь, когда дело касается неизбывной национальной черты, принципиально не меняющегося модуса русского существования. Пишущий этот текст – русский, чистопородней не придумаешь. Сообщаю это для того, чтобы у читателей не сложилось впечатления, что у меня есть позиция по ту сторону этноса, который я обсуждаю. Я недостаточен вместе со всеми моими соотечественниками – и как раз поэтому провел значительную часть жизни в чужеязычной немецкой среде в роли того, кто не может отождествить себя с большинством, встроиться в общество уже по праву рождения. Не из этого ли же стремления к пребыванию в меньшинстве, в положении слабого и обездоленного все накатывавшие одна за другой волны русской эмиграции? У нее были и политические, и экономические причины, но, сверх того, она подтверждала глубоко русскую уверенность в том, что жизнь есть бедствие. Одних это убеждение гнало в рассеяние, других толкало к проведению автогеноцида – к государственному террору, направленному на нигде не виданное уничтожение народонаселения в одной отдельно взятой стране.
В социальном плане недостаточная экзистенция запечатлевается в деформациях общественного договора. Попросту говоря, его у нас нет. Русский человек так или иначе не признает в Другом партнера, равного себе. Наша необязательность – притча во языцех. Опоздание на встречу – норма. Неотдачу долга нельзя превозмочь ничем, кроме расстрела заимодавца. Ведут себя по понятиям, а не по закону (я 30 лет вожу автомобиль, как все на дороге, не зная правил уличного движения). Современный русский язык одаривает нас множеством слов, обозначающих обман: «кидалово», «подстава», «откат», «отмыв», «разводка», «лохотрон». Но и прежде он был богат на них: «кукла», «пачка», «лапа», «фарца» и так далее. Мы ценим Руссо за то, что он прославил отприродного человека, но вовсе не заcontratsocial. С власть имущими договариваются с помощью взятки (слава Богу, берут охотно). Проксемика (есть такой термин, обозначающий поведение человека в пространстве) у русских такова, что идущий вам навстречу грозит сбить вас с ног, если вы не уступите ему дорогу. Уступить обязан Другой. Взаимодействие основывается парадоксальным образом на пересиливании того, с кем можно было бы поддерживать обменные отношения. Кропоткинская этика кооперации родилась в стране, которая особенно остро нуждалась в сотрудничестве, вовсе не ведая его в качестве вотчинной (Ричард Пайпс) монархии. Там, где нет соблюдаемых всеми социальных конвенций, есть насилие. Его содержание – непрерывный передел собственности, которая включает в себя и владение собственной жизнью. Если кто-то думает, что этот передел затеяли большевики-экспроприаторы, то он ошибается. Уже Иван Грозный изымал боярские владения в опричнину. Но и он не был оригинален. Владимир Святой похитил и увез из Корсуни церковные драгоценности, чтобы учредить православие на Руси. Так что у Гайдара-Чубайса, отдавших госдостояние в руки жадных предпринимателей, как и у путинского мужского клуба, допустившего генералов ФСБ и МВД до прибыльного рэкета, есть перспектива (упирающаяся, страшно подумать, но легко представить, в поджог загородных вилл богатеев по образцу уничтожения дворянских усадеб в 1917 году).
Ох, мне! И дернул же меня черт родиться в этой стране. В Ленинграде, на улице Маяковского. Хотел бы я появиться на свет в другом месте? Нет, нет, нет! Потому что нигде не думается и не созидается так хорошо, как из пустого места, из черной космической дыры, которой являешься ты сам, из России. Изобретают с нуля, а не с единицы. Икс с ними, со стульчаками: нужно будет, как-нибудь опорожнимся, организм заставит.
О стульчаках, или Почему я патриот
Есть два способа, посредством которых цивилизованно обустраиваются отхожие места. В одном случае рядом с канализационным отверстием настилают два ребристых упора для ног. Чтобы справить большую нужду, вы надежно садитесь орлом и испытываете, помимо облегчения, чувство близости к природе, даже если вы очутились в общественной уборной на Ленинградском вокзале в Москве, где толчки сконструированы по вышеописанному принципу. Другой способ более замысловат, но и более распространен. Это сантехническое сооружение включает в себя: а) унитаз и б) деревянное или пластмассовое сидение, называемое стульчаком. Вы располагаетесь в уборной со всеми удобствами, почти как в кинотеатре. Казалось бы, что в продвинутой цивилизацииtertiumnondatur. Но виртуозный русский гений нашел неклассический выход из примитивного дуализма (в согласии с тернарной логикой отца Павла Флоренского, обоснованной в «Столпе и утверждении истины» в пику формализму Бертрана Рассела). Если вы посещаете Государственную публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина в Петербурге (ныне она носит симптоматичное в нашем случае название Российской национальной библиотеки), неспроста, видать, названную по имени великого русского сатирика, вы сразу поймете, о чем я говорю. Там в кабинках стоят унитазы, с которых аккуратно свинчены стульчаки. Почему они изъяты, не ясно для незадачливого ума. Очевидно, однако, что сесть на такой унитаз нельзя, а взгромождаться на него всем телом крайне опасно: того и гляди – соскользнешь в самозабвении с коварного пьедестала и то ли рухнешь головой о каменный пол, то ли попадешь ногой, хрустнувшей в кости, в фекалии.
Над русскими легко глумиться, чем они сами и занимаются, не дожидаясь критики со стороны. Похоже, что ни одна нация на Земном шаре не отрицала себя с такой же категоричностью, как наша. Петр Чаадаев окрестил Россию «лакуной», Владимир Соловьев предрек ей растворение в сообществе христианских народов, Максим Горький с ненавистью отозвался о ее корнях – крестьянстве. «Пальнем-ка пулей в Святую Русь!» Я склонен думать, что представления о России как о спасительнице человечества – не более чем оборотная сторона нашей готовности к самоуничижению. Ведь все, для кого наше отечество было призвано нести миру истину – от Ивана Киреевского до Николая Данилевского и далее до евразийцев, – вели речь лишь о возможностях России, а вовсе не об ее актуальном состоянии. За рассуждениями о потенции страны просвечивает компенсаторное мышление: желание не быть в нехватке (не быть культурой с запоздалым возникновением философии, как того хотелось Киреевскому; не быть подражанием «романо-германскому» Западу, как на то надеялись Данилевский и евразийцы). Куда деваться из отсутствия, как не в навязчивое всеприсутствие, находящее себе выражение в идее нации, избранной Промыслом в качестве образцовой в планетарном масштабе? Мудрый Сталин, вероятно, ощущал возместительную ущербность русского мессианизма и поэтому сделал свою державу местом, в котором никогда не было недостачи, пусть хотя бы в (присвоенных ею) технических изобретениях.
Вопрос о том, почему русские относятся к себе как к дефицитарным существам, неотторжим от вопроса о том, почему унитазы в Публичке в приказном порядке лишены сидений (интересно, где они хранятся?). Дело не в том, что нам действительно чего-то не хватает, а в том, что нам – дабы обрести национальную идентичность и сохранять таковую – нужно бесперебойно утверждать отсутствие самого необходимого. До Григория Сковороды на Украине и до Чаадаева в Великороссии у нас не было оригинальной философии не потому, что восточные славяне не способны к отвлеченному мышлению (читали же они с увлечением переводы из Дионисия Ареопагита), а потому, что этот вершинный дискурс был намеренно (как стульчаки в храме Буквы и Духа) изгнан из обращения (старец Филофей гордился тем, что он, сельский человек, не обучен афинской мудрости). Петровские реформы проводились так, как если бы на Руси не было внутренних сил, чтобы держаться вровень с Западом (но они были: начиная со Смутного времени страна вровень с европейскими соседями переживала рост барочной культуры – как придворной, так и низовой). Славянофилы-романтики мечтали вернуться в допетровскую Русь, не видя вокруг себя национального своеобразия (оно состоит у нас в том, что его всегда ищут). Как только в Российской империи намечалось избавление от недостач, допустим, благодаря развитию промышленного производства, в протесте против незаслуженного благополучия крайне правые (обер-прокурор Синода Константин Победоносцев) объединялись с крайне левыми (революционными партиями), одинаково выступая борцами с капиталом. В конце концов, большевикам удалось создать долгосрочное общество тотального дефицита – вечной и бесконечной «очереди», изображенной в первом романе Владимира Сорокина. Тоталитаризм – кульминация русского самосознания, его наиболее адекватное воплощение. Но разве посттоталитаризм, грезящей если не о восстановлении сталинского сверхгосударства, то хотя бы о праве России иметь поодаль от себя зоны влияния, не все то же порождение нашей всегдашней неполноценности?
Не знаю, откуда она взялась. С княжения ли варягов, с церковного ли подчинения Киева Византии? Установление генезиса – важная задача, но ее решением можно пренебречь, когда дело касается неизбывной национальной черты, принципиально не меняющегося модуса русского существования. Пишущий этот текст – русский, чистопородней не придумаешь. Сообщаю это для того, чтобы у читателей не сложилось впечатления, что у меня есть позиция по ту сторону этноса, который я обсуждаю. Я недостаточен вместе со всеми моими соотечественниками – и как раз поэтому провел значительную часть жизни в чужеязычной немецкой среде в роли того, кто не может отождествить себя с большинством, встроиться в общество уже по праву рождения. Не из этого ли же стремления к пребыванию в меньшинстве, в положении слабого и обездоленного все накатывавшие одна за другой волны русской эмиграции? У нее были и политические, и экономические причины, но, сверх того, она подтверждала глубоко русскую уверенность в том, что жизнь есть бедствие. Одних это убеждение гнало в рассеяние, других толкало к проведению автогеноцида – к государственному террору, направленному на нигде не виданное уничтожение народонаселения в одной отдельно взятой стране.
В социальном плане недостаточная экзистенция запечатлевается в деформациях общественного договора. Попросту говоря, его у нас нет. Русский человек так или иначе не признает в Другом партнера, равного себе. Наша необязательность – притча во языцех. Опоздание на встречу – норма. Неотдачу долга нельзя превозмочь ничем, кроме расстрела заимодавца. Ведут себя по понятиям, а не по закону (я 30 лет вожу автомобиль, как все на дороге, не зная правил уличного движения). Современный русский язык одаривает нас множеством слов, обозначающих обман: «кидалово», «подстава», «откат», «отмыв», «разводка», «лохотрон». Но и прежде он был богат на них: «кукла», «пачка», «лапа», «фарца» и так далее. Мы ценим Руссо за то, что он прославил отприродного человека, но вовсе не заcontratsocial. С власть имущими договариваются с помощью взятки (слава Богу, берут охотно). Проксемика (есть такой термин, обозначающий поведение человека в пространстве) у русских такова, что идущий вам навстречу грозит сбить вас с ног, если вы не уступите ему дорогу. Уступить обязан Другой. Взаимодействие основывается парадоксальным образом на пересиливании того, с кем можно было бы поддерживать обменные отношения. Кропоткинская этика кооперации родилась в стране, которая особенно остро нуждалась в сотрудничестве, вовсе не ведая его в качестве вотчинной (Ричард Пайпс) монархии. Там, где нет соблюдаемых всеми социальных конвенций, есть насилие. Его содержание – непрерывный передел собственности, которая включает в себя и владение собственной жизнью. Если кто-то думает, что этот передел затеяли большевики-экспроприаторы, то он ошибается. Уже Иван Грозный изымал боярские владения в опричнину. Но и он не был оригинален. Владимир Святой похитил и увез из Корсуни церковные драгоценности, чтобы учредить православие на Руси. Так что у Гайдара-Чубайса, отдавших госдостояние в руки жадных предпринимателей, как и у путинского мужского клуба, допустившего генералов ФСБ и МВД до прибыльного рэкета, есть перспектива (упирающаяся, страшно подумать, но легко представить, в поджог загородных вилл богатеев по образцу уничтожения дворянских усадеб в 1917 году).
Ох, мне! И дернул же меня черт родиться в этой стране. В Ленинграде, на улице Маяковского. Хотел бы я появиться на свет в другом месте? Нет, нет, нет! Потому что нигде не думается и не созидается так хорошо, как из пустого места, из черной космической дыры, которой являешься ты сам, из России. Изобретают с нуля, а не с единицы. Икс с ними, со стульчаками: нужно будет, как-нибудь опорожнимся, организм заставит.
Экономика спама
Опубликовано в журнале: Звезда 2009, 4
Понятие информации, которому Клод Шеннон придал в 1948 г. математическое выражение, сделало во второй половине XX в. головокружительную карьеру – как в теории, так и на практике. Ответ на вопрос, как рассчитать пропускную способность в техническом канале связи, вдруг обрел почти магическую силу и перешел из ведения специалистов по коммуникации в просторную сферу общего пользования и школьной образованности. Вероятность события в системе с заданными элементами, что подразумевала шенноновская “информация”, не стала бы занимать собой спекулятивные и прагматические головы, если бы на то не было социоисторического заказа. Он состоял в движении общества прочь от износившейся надежды на полную предсказуемость будущего, в каких бы образах оно ни рисовалось: в виде тысячелетнего Рейха, светлой дали коммунизма или – в ослабленном англоамериканском варианте Кейнеса и Рузвельта – в качестве преодолимости рецессии в национальной экономике с помощью государственной финансово-хозяйственной программы[ы]1
Несмотря на разницу либеральнодемократических и тоталитарных режимов, все же знаменательно, что главный труд Джона Мейнарда Кейнеса “The General Theory of Employment, Interest and Money” уже через год после появления в Великобритании (1935) был переведен на немецкий и издан в нацистской Германии.
[Закрыть]. Информация стала волшебным словом, заклинавшим духов тоталитаризма и этатизма. Оно вводило в картину мира неожиданность, которую до того отрицала вера в планируемость жизни, и вместе с тем обуздывало случай в статистической модели, представлявшей заглядывание в неизвестность в двоичной форме: как либо верное, либо ошибочное. Чем менее предсказуемо течение процесса, тем выше его информационная ценность, которая, однако, вовсе сходит на нет, если он не канализуем в своей прихотливости и хаотичности. Идея информации сама несла в себе максимум информации, ибо охватывала и знание и незнание, противопоставляя истину вкупе с мыслительным промахом энтропии – неупорядоченности – тому, что вообще не поддается постижению. Знание, включавшее в себя незнание и исключавшее тем самым всякое конкурентное знание, не только ломало наличную научную парадигму – оно предвещало наступление нового этапа в попытках человека самоустроиться и самообосноваться. Объявив кибернетику “лженаукой”, марксизм сталинского закала обнаружил не слепоту, в которой обвиняла его советская либеральная интеллигенция, а, напротив, прозорливую чувствительность к грозившей ему смертельной опасности.
Так называемое постиндустриальное общество быстро превратилось из рынка услуг, каковым оно было поначалу, в 1950—1960-х гг., в доходное предприятие по торговле информацией (на которую оказались падкими и обыватели и менеджеры). Этому, разумеется, способствовало небывало широкое внедрение в быт медиальных машин – телевизоров, факсимильных и ксерокопировальных аппаратов, магнитофонов, видеокамер, радиотелефонов, персональных компьютеров. Но ведь самые важные из только что названных приборов (телевизоры, компьютеры) были изобретены и опробованы еще до конца Второй мировой войны. Техническая база информационного общества существовала – in potentia – до его возникновения. Чтобы оно состоялось, требовалось нечто большее, чем инженерное обеспечение, а именно – такая концепция, которая была бы способна заразительно проникнуть в разные области мышления, сообщить ему единообразность и тем самым внушить ему чаяние социальной адекватности, мобилизовать его на порыв к жизнестроительной инициативе. Информация поднялась над себестоимостью, то есть стала заслуживающей продажи и покупки, после того как этим понятием принялись мерить все что ни возьми. В истории побеждает не идея, овладевшая массами, а идея, более универсальная, чем прочие (в выигрыше всегда остается философия с ее неизбывной претензией на общезначимость суждений, пусть и меняющих смысловую наполненность).
Глава чикагской экономической школы и бескомпромиссный противник кейнесианства, Милтон Фридман, сопоставил в 1967 г. (в докладе “Value Judgments in Economics”) участников не регулируемого государством рынка с партнерами по диалогу: и там и здесь взаимодействие выгодно обеим сторонам. Товарное обращение выступило приравненным к обмену информацией, которому отсюда был открыт – в порядке обратной связи – доступ в хозяйственно-предпринимательскую деятельность. Жан-Франсуа Лиотар мотивировал свою модель общества, ведущего “языковые игры”, организованного полиморфно, тем, что оно информативно богаче, нежели социум, единоцелостно заданный мифоподобным “большим повествованием” (“La condition postmoderne”. Paris, 1979). Никлас Луманн усмотрел источник политической власти в строгом “бинарном схематизме” дискурсов, господствующих над нашим сознанием: юридическая речь подразделяет все поведение на правовое и противоправное, экономическая покоится на различении обладания и необладания собственностью и т. п. (“Macht”. Stuttgart, 1975). Власть растет из отбрасывания альтернатив, конституирующего типы речепроизводства. Двоичный код, посредством которого Шеннон измерял мощность информационных каналов, воцарился у Луманна над обществом, перешагнул границу математической операции, чтобы учредить собой социальность. В “Лекциях по структуральной поэтике” (1964) Ю. М. Лотман определил литературу как контрастирующее с естественным языком устройство по переработке избыточного сообщения в такое сверхинформативное, в котором повтор элементов таит в себе их противопоставленность. Философия Жиля Делеза вменила любому – не только эстетически функционирующему – повтору различительную силу (“Logique du sens”. Paris, 1969) и таким – парадоксальным – образом утвердилась в предположении, что нет ничего, кроме информации.
Приведенные примеры (их число было бы легко умножить) хорошо известны по отдельности. Собранные вместе они, однако, приподнимают завесу над тем, что само по себе не слишком очевидно, – над переходом понятия информации в неинформативное, в повсеместно приложимое, инфляционно безбрежное, утрачивающее отграниченность от одного из своих противочленов – от тавтологии. По мере все расширяющегося интеллектуального спроса на теорию информации она и изнутри (не только во внеположном ей применении) перестала быть стройным и однозначным учением, распалась на филиации. Выкладки Шеннона уже очень скоро после обнародования потребовали дополнения, поскольку они не учитывали семантический вес информации, ее соотнесенность с фактическим положением вещей. Постепенное развитие научных моделей, связавших информацию поначалу с “возможным миром”, а позднее – с конкретной ситуацией, откуда она берется, также не было вполне удовлетворительным, ибо оно обходило стороной интерпретатора данных, субъекта знания. Технический (или синтаксический) и семантический подступы к информации нуждались в еще одной – прагматической – добавке. Но, как выяснилось, эти три точки зрения не сводимы к общему знаменателю. “Унифицированная теория информации” в лучшем случае – дело будущего, как полагает итальянский эпистемолог Лучиано Флориди (Luciano Floridi. “Information”.– In: “The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information”. Ed. by L. Floridi. Malden, MA / Oxford, UK, 2004, 40–61). В представление об информации просочилась неопределенность, которую та – по своему существу – призвана уменьшать. Мало того, что информация более не схватываема единым мыслительным усилием, исследовательский интерес последних лет сместился к тому, что она как раз исключает, к энтропии, образование и образ которой толкуют теории хаоса и фракталов (множеств, состоящих из взаимоподобных слагаемых).
Пока Шеннон и его преемники еще были чарующе влиятельными, философия в качестве руководства для научно выверенного постижения социофизической реальности все более впадала в кризис. Теория информации обескровливала теорию познания. Первую вовсе не занимал способ доказательства истины (экспериментальный или аргументативный), на котором была целеустремленно сосредоточена вторая. В трактате “Против метода” (его первая редакция увидела свет в 1975 г.) Пауль Файерабенд – вразрез с веками оттачиваемой гносеологией – призвал науку анархически нарушать любые предустановленные правила и взять за эталон игру, грезу, искусство. В рассуждениях об информации, как бы они ни освещали свой предмет, истина дана или не дана, существует заведомо – до их начала. Вместо того чтобы разрабатывать метод по обретению знания, Мишель Фуко постарался в нашумевших в свое время “Словах и вещах” (1966) лишь демистифицировать разные, следующие одна за другой по ходу истории, стратегии в гуманитарных дисциплинах – “эпистемы”, эпохальные системы компетенции, и провозгласил в итоге конец наук о человеке. “Эпистемы”, разобранные Фуко, информативны, но, будучи не более чем одинаково самодостаточными конфигурациями смыслонесущих элементов, они не поддаются ни эмпирической проверке, ни сравнительному измерению по разрешающей (объяснительной) силе.
Инструмент исторической изменчивости, мировоззренческого обновления, с одной стороны, идея информации была, с другой, менее всего предназначена для того, чтобы направлять внимание своих адептов на происхождение знания, без чего не может обойтись подлинно историческое мышление (Фуко подчеркнуто отказался прослеживать генезис выявленных им “эпистем”). Модели, характеризующие передачу и релевантность информации, игнорировали ее творческий отправной пункт, ее становление. Они не были приспособлены к прояснению генеративных начал, обеспечивающих неустанное движение культуры и цивилизации. Информационное общество осознало себя постисторическим. Оно довольствовалось “презентизмом”[2]2
Можно подумать, что этому противоречили труды Жака Деррида, опровергавшего “метафизику присутствия”, которая, по его убеждению, развивается из абсолютизации устной речи. Сам Деррида постарался в “Грамматологии” (1967) создать философию письма – присутствияв-отсутствии (субъекта). Но разве praesentia-in-absentia не являет собой “презентизм” высшей меры, выламывающийся даже за рамки, которыми здесь и сейчас ограждают наше пребывание в бытии?
[Закрыть]. Информация, раз она поступает из ниоткуда, попросту есть: “Information is present in the World” (Manuel Bremer, Daniel Cohnitz. “Information and Information Flow. An Introduction”. Frankfurt am Main / Lancaster, 2004, 161). Под этим углом зрения такой источник информации, как, допустим, газета, представляет собой то, что продается в киосках и пересылается абонентам, но не то, что делается журналистами, выуживающими сенсации из потока фактов и предпринимающими разного рода разыскания. Поскольку у бытования значений были обрублены его корни, постольку философия ударилась в рассуждения о самообоснованности то того, то иного феномена. Так, философия живописи Жана-Люка Нанси проводит мысль о том, что на картине самое вещи предстает как отдифференцированное от себя: живописно-графическое произведение внутренне мотивировано уже одной своей выделенностью из окружения (Jean-Luc Nancy. “Au fond des images”. Paris, 2003). Когда черед дойдет до разговора о неудаче, постигшей банковское перепроизводство ценных бумаг, у меня еще будет повод, чтобы сказать о том, с какими тягостными материальными последствиями сопряжена как будто не более чем мозговая игра, отказывающаяся от фундаментализма.
Чтобы получить информацию, необходимо перевести реальность из рутинного в остраненное состояние. Закладывая в “Новом Органоне” фундамент для классической теории познания, Френсис Бэкон советовал “рассекать” природу, иначе не выдающую свои тайны. Можно найти в этой рекомендации наследственную связь с пыточными дознаниями. Можно говорить и о том, что пытка сдавала свои правовые позиции в качестве средства по добыче информации в той мере, в какой насильственный эксперимент монополизировался наукой Нового времени (выполнявшей ею самой не подозреваемое гуманистическое задание)[3]3
Далеко не случайно, что Чезаре Беккариа в своем прославленном выступлении против пыток и телесных наказаний будет прибегать к физическим категориям, взятым из теории гравитации, и поставит весь трактат “О преступлениях и наказаниях” (1764) под эпиграф из Бэкона.
[Закрыть]. Но можно взглянуть и на допрос с пристрастием, и на лабораторные опыты с той высокой степенью обобщения, которая позволит утверждать, что сведения, находящиеся в нашем распоряжении, расширяют свой объем и прогрессируют качественно только тогда, когда обступающий нас мир перестает быть возвращением того же самого, делается другим, чем есть, подвергается историзации. Гносеологический акт приводит и природу в соответствие с создаваемой человеком историей. В том, что касается самого человека, особой значимостью для исследователей обладают его выпадения из нормы: будь то культуры, альтернативные родной, свойской, – для антропологов, душевные болезни и иррациональное поведение – для психологов, всяческие переживаемые обществом катастрофы – для социологов (которые выстроили свою науку, собственно, как ответ на Великую французскую революцию). За всеми этими инакостями и аномалиями просвечивает история – символического ли порядка, неравномерно развертывающегося в разных частях Земного шара, психического ли недуга или коллектива, энергия которого то нарастает до взрыва, то иссякает без остатка. Жорж Батай отождествил профанное с поддержанием жизни, с самосохранением, а сакральное – с тем, что противоречит репродуцированию. Над знанием, если принять эту концепцию, возносится аура, коль скоро оно ломает обыденщину.