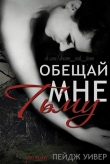Текст книги "Роман моей жизни. Книга воспоминаний"
Автор книги: Иероним Ясинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Глава шестьдесят шестая
1917
Приглашение в Кронштадт. Свидание с Луначарским. В Кронштадте. Поездка в Выборг. Интеллигенция и октябрьский переворот.
Выбитый из седла февральскою революциею, я был посажен в седло великим Октябрьским переворотом. Депутация от Кронштадтских матросов обратилась ко мне с просьбой приехать в крепость и прочитать лекцию о большевизме в литературном его освещении. По-видимому, от меня Кронштадт потребовал художественного изображения большевика. Матрос Писахов[595]595
Степан Григорьевич Писахов (1879–1960) – писатель, этнограф, сказочник, художник, «певец русского Севера». В 1915 г. был призван в армию, служил ратником ополчения в Финляндии, в 1916 г. переведен в Кронштадт, где его застала Февральская революция. С первых дней работал в Кронштадтском Совете рабочих и солдатских депутатов, в качестве художника оформлял первомайскую демонстрацию 1917 г. Записывать свои рассказы начал еще до революции по совету И. Ясинского.
[Закрыть], когда-то бывавший у меня на Черной Речке, заявил мне, что в Кронштадтском Совете им уже были прочитаны какие-то мои статьи и фельетоны, отображающие более или менее нашу современность. Я пообещал, что приеду.
В городе повсеместно уже водворился порядок.
Вдруг, вошла Клавдия Ивановна и объявила, что приехал автомобиль из Зимнего Дворца. Вслед за нею вбежал Игнатов, тот молодой товарищ, с которым в двенадцатом году мы производили неудачно закончившийся опыт организации на частные средства пролеткульта на Серпуховской улице.
– Комиссар народного просвещения т. Луначарский командировал меня пригласить вас к нему для привлечения вас к общественной работе.
– А вы что же делаете сейчас? – спросил я Игнатова.
– А я комендант Зимнего Дворца[596]596
Василий Васильевич Игнатов (1884–1938) – актер Суворинского театра в Петрограде, драматург. Один из активных деятелей Пролеткульта. Состоял главным хранителем ценностей Зимнего дворца, а затем был назначен правительственным комиссаром Зимнего дворца, Эрмитажа, Таврического дворца.
[Закрыть].
Веяло сыростью и уже заброшенностью от длинных, широких и пасмурных коридоров исторического дворца, по которым мне пришлось идти. Наоборот, кабинет, в котором принял меня товарищ Луначарский, оказался уютной небольшой комнатой, украшенной маленькими голландскими картинками в потускневших рамках.
Раньше с Луначарским, когда он работал в «Дне», я знаком не был. Первый раз видел я его. Если бы я пришел к редактору какого-нибудь вновь затеваемого журнала, он, вероятно, оказал бы мне такой же литературный прием. Прежние царские министры, когда к ним приходилось «являться» по какому-либо делу, старались так обойтись с литератором, чтобы не особенно испугать его и выказать себя по возможности снисходительно ласковыми и как бы исполняющими приятный долг знакомства с представителями чуждого им мира. Тов. Луначарский совсем не походил на министра, и, хотя он был несомненный министр и член очень могущественного правительства, казалось, что он конфузится. Он улыбался, а глаза его, очень яркие и наблюдательные, были устремлены на меня.
– Не очень-то нас любят в Петрограде, – начал он, усадив меня. – Интеллигенция нас, кажется, совершенно отрицает. В «Биржевых Ведомостях», где вы сотрудничали, я прочитал недавно фельетон Любоша[597]597
С. Любош – псевдоним журналиста Семена Борисовича Любошица (1859–1926).
[Закрыть]: он подозревает, что в нашей партии нет ни одного сильного и даровитого человека, и он ждет только гибели для России от нашего торжества. Иные же противники удивляются, как могли мы успеть завладеть властью; но если вы еще не знаете, то скоро прочитаете подробности ухода, или, выражаясь высоким слогом, свержения временного правительства в бездну небытия. Его власть разложилась и сгнила еще скорее царской. Та держалась века, а эта буржуазная власть не просуществовала и восьми месяцев. Совершенно верно, что гораздо труднее будет построить новую Россию, и в самом деле мало людей, а кругом себя мы видим только враждебные лица, бойкотируют целые учреждения, не доверяют нам… время, конечно, покажет, кто прав, мы или они. Сейчас мы занимаемся подсчетом наших сил, и вы попали в регистрацию… Вы хорошо знаете языки? – спросил он меня, и на мой ответ, что я бегло не говорю ни на одном иностранном языке, он выразил сожаление. – Мне казалось, что вы могли бы быть полезным республике на дипломатическом поприще, в крайнем случае корреспондентом при каком-нибудь посольстве. Но и то сказать, нас, вероятно, еще не скоро признают. Мне сейчас сказал Игнатов, что вас приглашают в Кронштадт. Поезжайте. Вас, значит, знают там и хотят вас?
Из Зимнего Дворца в автомобиле Луначарского меня повезли на Балтийский вокзал, оттуда в Ораниенбаум, а из Ораниенбаума на пароходе в Кронштадт. Еще не замерз залив, но снегу было много, и весь Кронштадт покрыт был белым саваном. Однако, было что-то веселое в этой зимней белизне. Чем-то новым, и молодым веяло от Кронштадта. Матросы встретили меня и проводили на броненосец «Народоволец».
Я вошел в кают-компанию, и как-то странно было увидеть, непривычно для глаза, – морских офицеров, почти застенчиво обращавшихся с матросами, хотя по внешности всё еще сохранялась у них командная поза. Все-таки облако тоскливой – приниженности не сходило с лиц офицеров и тогда, когда нижние чины покинули кают-компанию из вежливости, а не из дисциплины. Среди офицеров солидно держал себя судовой священник. Тогда еще священники не были упразднены во флоте. Он первый, единственный вступил со мною в разговор о том, что будет, или чего можно ожидать для русской интеллигенции. Должно быть, ответы мои не очень понравились священнику.
– Но все-таки бог останется? – допытывался он.
– Бог останется, – отвечал я, – но только другой будет бог. Мы создаем себе бога, – в зависимости от наших взглядов, убеждений, знаний, симпатий и наших отношений к людям. Полагаю, что бог большевиков во всем не будет похож на того бога, который был в ходу в царское время.
– Фейербаховщина, фейербаховщина, – проговорил священник. – Я, впрочем, и сам увлекался Фейербахом, – и, подумав, прибавил, принимаясь за поданную матросами снедь: – но только все это суета. Как бы сказать: – суемудрие!
После чая матросы пригласили, меня к себе, в свою кают-компанию.
– Скажите-ка нам, товарищ, свою, – попросили они.
– Давайте-ка лучше так поговорим. В живой беседе свободнее рождается слово. Вы о чем хотели, бы поговорить сейчас, например?
– А вот все о том, на чем же нам остановиться? У нас много эс-эров. Почитай, что вся братва, но мы за большевиков. Кроме того, есть у нас анархисты. Товарищ Ярчук у нас хорошо говорит. Мы хотим, чтоб вы к нам завтра в Совет пришли и там бы что-нибудь на этот счет сказали.
– Я ведь не пророк и не очень глубоко стою в потоке новой жизни, который бурлит, шумит и опрокидывает ветхие здания. Я только вижу и знаю, что история идет неуклонно – вперед, – и, как в земле древнейшие слои почвы и коры сменяются, с течением веков и тысячелетий, новыми слоями и так называемыми формациями, так в человеческом обществе одни – общественные периоды уступают место другим: старые новым, а новые новейшим. Феодальное право сменяется буржуазным, а буржуазное смещается пролетарскими порядками. Пришла буржуазия и потопила дворянство или обуржуазила его на свой лад, а вот идет пролетариат, и что же, в конце концов, не покорится его силе? Сидел Илья Муромец тридцать лет сиднем и вдруг встал. Поднялся великан. Горы трещат, и моря кипят. Расплескивают их шаги великана. Без коммунизма не обойдется, товарищи, дело, и не сегодня, завтра, а уж кончено – начался поток, а когда земля обсохнет, кто останется жив, не узнает – такими яркими цветами загорится она и так преобразится.
Матросы довольны были моей беседой. Они отвели меня в какую-то директорскую каюту, из трех отделений, где имелась даже особая ванна, и отдали ее в мое распоряжение на ночлег.
На другой день, вечером, в огромном зале инженерного училища я должен был прочитать лекцию. Я остановился на большевизме, в свете ницшеанской философии, но, правду сказать, поставленную мною кверху ногами. Мне казалось, и до сих пор кажется, что применение к большевизму ницшеанства – наиболее подходящая его философия.
Перед началом лекции я был приглашен к Кронсовет. Мне оказали честь, отведя место на трибуне, у президиума, и я, в кратком слове приветствуя Кронштадт, высказал несколько пространнее о грядущем коммунизме то, что намечено было мною в беседе с матросами «Народовольца».
Состав Кронсовета был в партийном отношении преимущественно эс-эровский. Но в то военное время еще не – обострялись партийные расхождения, по крайней мере в Кронштадте. Масса матросов, причисляя себя в эс-эрам, благодаря производившейся усердной агитации партийных работников, не отделяли себя в то же время от большевиков, и, когда мною было произнесено с трибуны Кронсовета, что очень скоро разовьется, если уже не развивается, над русскою страною, в первую голову, коммунистическое знамя, в рядах членов совета произошло движение, и эти слова были встречены рукоплесканиями, и только часть депутатов хранила молчание.
Голос у меня небольшой, и меня страшила колоссальность зала. Афиши были развешены только утром, но публики, тем не менее, было много. Зато погода с утра и до полночи неистовствовала. Это был настоящий шторме Только Виктор Гюго мог бы передать переливы громов, ураганных раскатов и стоны и вой бури, которая, как шутили матросы, тоже прилетела послушать, что я буду говорить о большевизме.
Три часа с перерывами читал я лекцию и, чем дальше, тем я больше убеждался, что меня слушают, что буря не мешает, а, напротив, как-то поднимает настроение и лектора и слушателей, и что в зале, очевидно, великолепный резонанс. Матросы, сидевшие на последней скамейке, у задней стены, передавали мне потом, к моей великой радости, что ими не было упущено ни одного слова.
Ночью в моей каюте несколько матросов, угощая мня чаем, рассказали мне подробности кронштадтского избиения морских офицеров.
– Может-быть, сгоряча и были убиты немногие, которых следовало бы пощадить, как сохранена была жизнь другим, – говорили они, – но уж очень тяжела была офицерская лапа. Так что не очень разбирали на первых порах. Не выносили, если вдруг заругается, вместо того, чтоб повиниться. Ну, и как вспомнишь товарищей, которых расстреливали… И, оно, конечно, нашими же руками… Эх, единодушия не было у нас!.. Кажется, чего проще, а между тем, бывало, товарищ, которого приговорили к расстрелу, сам просит: цельте, братцы, в сердце, чтобы не мучиться… И мы все это терпели! Адмирал Вирен приказывал честь отдавать его дому – даже его лошади! Ежели по-человечески идешь со своей дамочкой под руку – и вдруг попадешь ему на глаза – тридцать дней ареста!.. Еще у нас тринадцать палачей проживало – так мы их тоже порешили.
Матросы, Щекин и др., между прочим, рассказали мне, что между собою они образовали товарищество, в котором насчитывается уже несколько десятков человек: они не пьют, не курят, не произносят скверных слов и ведут целомудренную жизнь.
– Что же, и выдерживают? – спросил я.
– Пока выдерживаем, друг от друга скрыть не можем, а у нас строго. Мы по глазам узнаем.
В самом деле, лица у них были свежие, чистые, как у девушек.
Странно было видеть и не хотелось верить, что эти прекрасные, добродушные и даже помыслами старающиеся не грешить молодые люди могли собственноручно казнить неугодных им офицеров. Но ведь точно так же и эти погибшие офицеры были тоже «прекрасными» молодыми людьми, многие из них добродушные, светские, влюбчивые и даже сентиментальные юноши; но однако же они, даже не в революционном порыве, а обдуманно, хладнокровно и с сознанием, что это необходимо для благополучия их дворянского класса, били матросов по «мордам», изводили их арестами, расстреливали, и, расстреляв, бросали в море.
И еще особое впечатление произвел на меня в тот приезд Кронштадт: повторяю, он был какой-то новенький, совсем не такой, как раньше, в дореволюционное время, словно ему надо было пролить кровь нескольких сот человек, чтобы обновиться, помолодеть, расцветиться радужными надеждами.
Увы, не бывает бескровных революций, и еще гораздо ужаснее (потому что кровопролитие не приносит плода, а напротив убивает жизнь в зародыше) – контр-революция.
Сейчас, после Кронштадта, я получил приглашение от Выборгского отряда красноармейцев и вместе с товарищем Егоровым отправился в Выборгский военный клуб, где прочитал в сжатом виде то, что было мною читано о большевиках и большевизме в Кронштадте.
На нашем вечере присутствовало много посторонних слушателей – не только красноармейцев. Между прочим, было много финских коммунистов. Они подходили к нам и дружески, жали руку. Кстати, сообщали, что в Финляндии большевистский переворот встречен сильною в этой стране буржуазною партиею враждебно, и она возлагает надежды на иностранную помощь. Но Финляндия встретит контр-революцию мужественно.
Тогда, правду сказать, еще не верилось в контр-революцию. Еще радужно настроены были революционеры и примкнувшие к революции.
А гроза над Финляндией уже собралась. Да и в России было не благополучно.
В Петербурге «бойкот» начался почти сейчас же после 25 Октября и, почти сейчас же обнаружил себя. Первосортная интеллигенция – профессора и литераторы подали пример маленькой интеллигенции, которая, в сущности, интеллигентна была только потому, что она была, сколько-нибудь грамотна и, сама будучи пролетарски неимуща, была настолько тупа, что не могла осознать своего унизительного положения в этом столкновении буржуазии с пролетариатом. Эта жалкая интеллигенция была похожа на тех безземельных дворовых людей, которые в эмансипацию продолжали служить господам и получать от них пощечины, гордясь своим собачьим инстинктом преданности.
Так называемая свободная печать, которую большевики, овладев властью, долго не трогали, всячески разжигала в массах интеллигентской черни ненависть к новым советским порядкам.
Позволю себе сделать здесь замечание, обще-политического характера. Много зла принесла России восставшая интеллигенция и вызванная ею, во всяком случае, необычайно усиленная ею, контрреволюция разных Колчаков, Юденичей, Деникиных, Врангелей и других отечественных Редедей[598]598
Метафорическое использование имени касожского (черкесского) князя Редеди (XI в.), известного из русских летописей (Лаврентьевской и Никоновской) как противника в единоборстве с тмутараканским князем Мстиславом Владимировичем Храбрым.
[Закрыть] и бандитов, но не бывает худа без добра. Наш пролетариат приобрел закалку духа в этой гигантской борьбе на всех фронтах шестой части света, на которой раскинулась Россия, и проявил величие этого духа, приобретшее ему, в конце концов, мировую славу и историческое значение. Несомненно, с другой стороны, что если бы интеллигенция сразу приняла октябрьский переворот и не только признала бы, но и прониклась бы идеологиею пролетариата, она искривила бы линию его политического и экономического направления к той вселенской великой цели, к которой он теперь устремлен роковою силою революционного разбега. Интеллигенция внесла бы в пролетарскую идеологию свою оглядчивость, свой скептицизм, недоверие к своим силам, благоговение перед изжитыми формами либеральных общежитий, перед обветшалыми научными авторитетами, свою изломанность сердца, свою достоевщину, которая так пришлась по вкусу западно-европейской интеллигенции и которая нравится еще мне лично, потому что я все же, хоть и коммунист, но не могу отрешиться от многих слабостей и уклонов древней русской интеллигенции, но которая – достоевщина – по моему глубокому убеждению должна быть чужда нашему молодому пролетариату, а если будет принята им, то может подействовать на него, в известной степени, как яд.
Глава шестьдесят седьмая
1917–1918
Вопрос о моем большевизме. Мои занятия в Наркомпросе и Пролеткульте. Журнал «Красный Огонек». Мое свидание с Володарским. Пролеткультская столовая. Издания Пролеткульта. Товарищ Ионов.
Целая литература возникла в современной печати по поводу такого незначительного факта, как мой, показавшийся внезапным, большевизм. На самом деле, редактированный мною «Новый Журнал для всех», издававшийся братьями Дабужскими, о чем я уже писал, весь буржуазно-революционный сезон семнадцатого года велся исключительно в большевистском направлении, и не моя вина, что издатели, под влиянием Амфитеатрова, который редактировал другое издание их «Бич», хотя и набирали все статьи, которые я посылал в типографию, даже отливали их для стереотипа, однако трусили выпускать журнал в свет при временном правительстве. Для меня, поистине, это была трагедия. Каждый день Дабужские обнадеживали меня, что журнал будет выпущен сразу, и каждый день надували. За свои статьи я денег не получал от конторы, хотя статьи сотрудников оплачивал. Между прочим, у меня на руках остался талантливо написанный роман Марка Криницкого «Черные флаги»[599]599
Марк Криницкий (псевд.; наст, имя и фамилия Михаил Владимирович Самыгин, 1874–1952) – писатель, драматург. В 1916–1918 гг. вышло в свет собрание сочинений Марка Криницкого в 16 томах. Роман «Черные флаги» в печати неизвестен.
[Закрыть], в котором была изображена группа анархистов, завладевших дачею Дурново. А сыр-бор загорелся после того, как в «Известиях Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», в номере 228, недели через две после переворота и моей поездки в Кронштадт, появилась статья народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, под названием «Сретение».
Я знал несколько языков, как переводчик, и улавливал дух языка и стиль писателя, но не владел живою речью, и даже французский язык стал меня затруднять под конец жизни. А. В. Луначарский предлагал мне занятия при дипломатической миссии в Берлине, но пришлось отклонить предложение – не позволила воспользоваться им простая добросовестность. По возвращении из Выборга, я приглашен был в Наркомпрос и стал заниматься в Пролеткульте, как редактор. Через меня прошел ряд сборников. Все это были пролетарские произведения, среди которых более выдающиеся принадлежали товарищам: Кириллову, Маширову, Поморскому, Безсалько, Арскому и многим другим. Из беллетристов крупные надежды подавал Безсалько, преждевременно скончавшийся от тифа, молодой человек, происходивший из низшего духовного сословия и работавший в пятом году в Екатеринославской губернии: он сослан был в Сибирь, затем эмигрировал в Париж. Его роман «Катастрофа», вышедший с моим предисловием и под моей редакцией, свидетельствует о значительном даровании этого беллетриста, не успевшем расцвесть.
Еще в царское время графиня Панина, ставшая впоследствии при Керенском министром народного просвещения[600]600
Графиня Софья Владимировна Панина (по мужу Половцева, 1871–1956). Владелица крупных поместий в Подмосковье, Смоленской, Воронежской губерниях и в Крыму. Не одобряла самодержавие, за что была прозвана в правых кругах «красной графиней». Председатель ряда благотворительных обществ, член ЦК партии кадетов, товарищ министра государственного призрения во Временном правительстве. С 1920 г. в эмиграции.
[Закрыть], основала нечто в роде народного университета, который был хорошо обставлен – и учебными средствами, и был не беден преподавателями. Кружок рабочих, посещавших Панинский университет, несомненно, с большою пользою для себя был проникнут социалистическими идеями и задумал издавать свой орган под названием «Грядущее»[601]601
«Грядущее» – первый пролетарский литературно-художественный журнал, издавался в 1918–1921 гг. в Петрограде, являлся органом Пролеткульта. В журнале сотрудничали: Аксень-Ачкасов (И. Садофьев), П. Бессалько, В. Кириллов, А. Луначарский, А. Поморский, Н. Тихомиров, Пер. Ясинский и др.
[Закрыть]. Печатался журнал тощими тетрадками с разгонистой печатью, но в нем попадались искры, обещавшие не погаснуть.
Председателем Пролеткульта был товарищ Федор Калинин – подпольная кличка его была Аркадий – милый человек, когда-то бывший мальчиком в типографии «Биржевых Ведомостей». Секретарем же пролеткульта был товарищ Игнатов, молодой человек, уже опытный в ведении просветительного дела в рабочей массе, так как он был секретарем в обществе «Страда», где я был председателем. Оно преследовало такие же цели и задачи, только в меньшем, разумеется, масштабе. На мою долю выпало не только просматривать рукописи пролетарских писателей, но и редактировать «Грядущее». Товарищ Игнатов вскоре нашел возможным перевести Пролеткульт из здания Наркомпроса у Чернышева моста в огромное здание бывшего Благородного Собрания на Екатерининской улице, переименованной поэтому в Пролеткультскую.
Одно время жизнь закипела в Пролеткульте. Найдены были огромные склады великолепной бумаги, и Пролеткульт стал издавать не только журнал, но и книги. Деятельным сотрудником Пролеткульта явился поэт Садофьев[602]602
Илья Иванович Садофьев (1889–1965) – русский поэт, переводчик. Был рабкором газеты «Правда», состоял в петроградском Пролеткульте, входил в литературную группу «Космист».
[Закрыть]. Он стал товарищем председателя, а председателем, после Федора Калинина, был избран поэт Кириллов[603]603
Владимир Тимофеевич Кириллов (1890–1937) – русский советский поэт, принадлежал к так называемой «пролетарской поэзии». В 1918 г. работал в петроградском, затем тамбовском, а в конце 1919 г. московском Пролеткульте. В 1920 г. перешел в литературное объединение «Кузница», затем стал первым председателем Всероссийской ассоциации пролетарских писателей (ВАПИ).
[Закрыть], в то время блиставший яркостью и смелостью своих образов и провозгласивший, что «мы растопчем Рафаэля». Эта поэтическая дерзость пленяла молодые умы.
В числе поэтов, ставших печатать свои стихотворения в «Грядущей» следует назвать Ионова и Тихомирова[604]604
Илья Ионович Ионов (наст, фамилия Бернштейн, 1887–1942) – российский революционер и издательский работник; поэт, знакомый Сергея Есенина. Тихомиров Никифор Семенович (1888–1945) – рабочий (машинист турбин), поэт; сотрудничал в «Правде», «Петроградской правде», «Красной газете», в журналах «Грядущее», «Красный журнал для всех», «Пламя» и др.
[Закрыть], кроме упомянутых выше. У нас часто устраивались в великолепном зрительном зале чтения, и ставились спектакли артистами Мгебровым и Викторией Чекан[605]605
Александр Авельевич Мгебров (1884–1966) – советский театральный режиссер и актер. В 1918 г. совместно с руководителем Пролеткульта П. Бессалько организовал театр «Художественная арена Петропролеткульта», впоследствии – Рабочий революционный героический театр. С 1920 г. работал под руководством Мейерхольда в Первом Театре РСФСР. Виктория Владимировна Чекан (1888–1874) – жена Мгеброва, актриса, театральный педагог и режиссер. В начале 1920-х гг. Мгебровы открыли у себя дома на Караванной, № 14 – «Литературный салон».
[Закрыть]. Товарищ Луначарский приезжал и говорил речи. Устраивались выставки, художественных работ.
И жена моя Клавдия Ивановна, отношение которой к пролетариату было известно еще за долго до переворота, благодаря ее участию в собраниях на Черной Речке в нашем доме, приняла приглашение занять место делопроизводителя в Наркомтруде, а когда Комиссариат переехал в Москву, стала делопроизводителем в Пролеткульте.
Время было какое-то весеннее, романтическое, полное грандиозных ожиданий, боевое. Со всех сторон, сравнительно небольшая территория, ни которой утвердилась Советская власть, была охвачена мощным натиском, белых, которых поддерживала вся Европа. Надвигалась чудовищная нищета. Тем не менее, не было уныния. В сердцах горело чувство жертвенности. Никто не отказал бы отдать не только имущество, да и жизнь. Энтузиазм, был преобладающим настроением трудящегося люда.
Но рядом с этим дрожал, как гремучий студень, едва сдерживаемый гнев против большевиков, переходящий в глухую ненависть в разнообразных слоях населения – и среди врачей и среди бывших домовладельцев, но еще владевших домами и надеющихся на возврат возлюбленной собственности из рук белых освободителей, и среди инженеров, и среди, писателей и литераторов, и, в особенности, среди торговцев. Мережковский, встречаясь со мной и порывисто целуясь, кричал голосом, как не бутылки: «А надо, надо бежать от антихриста! Несомненно, пахнет серой!». Другой очень видный беллетрист, и ныне здравствующий, за время пребывания своего в недрах отечества, по-видимому, переменивший взгляды и отвергнувший факты, которые считал неопровержимыми, совершенно убежденно доказывал тогда мне, сойдясь как-то на улице, что единственная цель засилья большевиков – германизировать Россию, и что не дальше, как через полгода, у нас воцарится Вильгельм. В семье доктора, ординатора больницы, и присутствии его самого (и он не опровергал!) рассказывали мне, что среди детей ходит эпидемия сапа их изолируют и расстреливают: таким образом, на днях было расстреляно более тридцати малюток. Слухи самые вздорные передавались из уст в уста в лавках и столовых.
Тем временем росла дороговизна, а то, что выдавалось бесплатно, или почти бесплатно, во всю эпоху военного коммунизма, совсем не удовлетворяло аппетитов, самых скромных, хотя иные ловкие люди ухитрялись получать по несколько пайков. Был у меня сосед по дому, инженер, так тот привозил себе на дом продукты целыми возами. Он получал их на тысячу рабочих, которых он, по контракту с казною, держал на срочных земляных работах. Обыкновенно, человек двести он отпускал на день, на два, а то и на неделю, в деревню на побывку, а пайки их забирал себе и торговал ими; и вероятно оставалось у него в кармане и их жалование, так как официально они числились на работе. Он привозил также – мне было видно из окна второго этажа – грузовики с роскошной мебелью и с такими огромными коврами, что их тут же, не внося в комнату, разрезали на меньшие. Однажды инженер был арестован, и ко мне прибегала его жена с просьбой о покровительстве, оказать которое я не мог, а если бы и мог, то не оказал бы. Подружившись с каким-то «комиссарчиком», он налетел на гостиницу «Москва» и разобрал каменную стену, за которою спрятано было большое количество заграничного вина. Захватить вино им не удалось, потому что налетел на них комиссар постарше. Все-таки сосед благополучно отвертелся от этой уголовщины.
На фоне страшной нужды и нищеты совершались такие проделки смелыми, дерзкими и жадными людьми довольно часто. Их принимали за правительственных агентш и беспрекословно подчинялись их требованиям трусливые мещане, окончательно убеждаясь, что это и есть большевизм-.
Кроме занятий в Пролеткульте, типография «Герольда» предложила мне редактирование еженедельного журнала, который был назван мною «Красный Огонек». Тогдашний комиссар печати, покойный Володарский[606]606
В. Володарский (псевд., наст, имя и фамилия Моисей Маркович Гольдштейн, 1891–1918) – деятель российского революционного движения. В 1918 году комиссар печати, пропаганды и агитации в Союзе коммун Северной области. На этом посту руководил репрессиями в отношении оппозиционной прессы, особенно активизировавшимися в мае 1918 г., когда он был главным обвинителем на публичном процессе против нескольких небольшевистских вечерних газет. Застрелен 20 июня 1918 г. по дороге на митинг.
[Закрыть], пригласил меня к себе в бюро. Минуты две мне пришлось его подождать. Он вошел в комнату, несколько тяжеловатой походкой. Был это совсем молодой человек.
У Володарского не было в обращении европейского лоска и европейской любезности товарища Луначарского. Происходило все это не из застенчивости, а от частого соприкосновения с рабочей массой в Америке, куда он эмигрировал в свое время и откуда приехал.
– Я хотел вам сказать, – начал он деловым тоном, и скорее суховато, чем сочувственно, – что ваш «Красный Огонек» я отношу к изданиям, хотя и не вполне пролетарским, но вполне благоприятствуемым властью. В виду этого, узнавши, что ваш издатель меньшевик, я предложил бы вам не обращать внимания на его директивы, буде он таковые уже вам предъявляет.
– Нет, – возразил я, – издатель не вмешивается в ведение журнала.
– В таком случае, почему же вы как-будто избегаете поставить наш девиз на обложке журнала?
Я отвечал, что мною уже сделано соответствующее распоряжение.
– Хочу вас также предупредить – заготовить несколько тысяч лишних экземпляров «Красного Огонька», так как наша экспедиция намерена покупать у вас пока по пяти тысяч журналов. Затем позвольте пожелать вам успеха.
Я больше не встречался с Володарским: вскоре его убили.
Служба моя в Пролеткульте не требовала от меня утреннего пребывания в редакции. Что же касается Клавдии Ивановны, то она должна была являться ровно в десять часов. При большой дороговизне, и при невозможности купить что-нибудь, иногда, очень часто за отсутствием необходимого, деньги не являлись неотложно нужными. Более или менее, без них можно было обойтись. То, что у нас реквизировали в Московском банке десять тысяч, нас не огорчало. Но Клавдии Ивановне хотелось, во что бы ни стало, служить Республике и нести общественные обязанности… Наша домашняя экономика поэтому обменялась своими функциями в некоторой степени: жена уезжала с Черной Речки в Пролеткульт, а я спешил сделать кое-какую черную, домашнюю работу, в уверенности, к тому же, что после пяти часов мы вернемся, прихватив с собою какого-нибудь товарища и будем пить у себя чай и ужинать после скудного пролеткультского обеда. Это не избавляло Клавдию Ивановну однако от такой черной работы, к которой у меня не было привычки и в которой не было сноровки. Вечер она отдавала мелкой стирке и чистке своего костюма на следующий день. Прислуги у нас давно уже не было, а когда нас не бывало дома, то мы оставляли свой хуторок на произвол судьбы, и ни разу не случилось ни одной пропажи. Работал я в Пролеткульте через день, и через день в «Красном Огоньке», так, что обе работы друг другу, не мешали.
Я назвал пролеткультский обед скудным. Но его столовая, на первых порах, отличалась от всех других столовых обилием и некоторой даже изысканностью. Имелись большие запасы продуктов в упраздненном Благородном Собрании. Зато, как только истощились запасы, обеды стали хуже, и уже к половине восемнадцатого года можно было сколько-нибудь сносно пообедать в Пролеткульте за пятнадцать рублей, тогда как жалованья мы получали всего по пятисот рублей в месяц. Следует вспомнить, впрочем, что одно время и народные комиссары получали столько же, наравне с низшими служащими. Буржуазная публика среднего достатка, во всяком случае, валом валила в нашу столовую. Часто бывала, между прочим, у нас артистка Барятинская (Яворская)[607]607
Лидия Борисовна Яворская (по мужу княгиня Барятинская, 1871–1921) – актриса; играла на сценах московского Театра Корша и Суворинского театра в Петербурге; в 1901 г. организовала в столице Новый театр. В 1918 г. эмигрировала в Англию.
[Закрыть] и кисло улыбалась.
Иногда в Пролеткульт заглядывал молодой, с худощавым лицом интеллигентного рабочего, еще недавний политический каторжанин, товарищ Ионов. Он познакомился со мною, и первое впечатление от него было, что он, истинный любитель и знаток хороших книг. Он и носил всегда в кармане какой-нибудь умопомрачительный томик.
Наше издательство щеголяло великолепными бумагами, но нельзя, оказать, чтобы книги печатались со вкусом. Их однообразная обложка отличалась бедной прямолинейностью и в то же время отсутствием изящной простоты. Только-что выпущенная в свет поэма моя «Последний бой» встречена была юмористическим взглядом товарища Ионова.
– Советская книга должна будет, – сказал он, – манить к себе глаз читателя, прежде чем он доберется до содержания, которое тоже должно быть на высоте внешности книги. Смотрите, вот стихотворения Суинберна[608]608
Алджернон Чарльз Суинберн (Swinburne, 1837–1909) – английский поэт. Организационно был близок к кружку прерафаэлитов, но не разделял их эстетической программы. Эпатировал буржуазного читателя дерзкой трактовкой запретных тем, апологией чувственности, языческим гедонизмом.
[Закрыть]: еще не прочитаешь, а книжка уже нравится, даже помимо популярности поэта – тянет к себе.
Товарищ Ионов заведывал «Издательством Петр. Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов». Издательство только-что начиналось и существовало всего полгода. Тогда все было молодо. Он предложил мне издать мои стихотворения, выбрав из них такие, которые более отвечали бы времени. Книжка, под названием «Воскреснувшие сны», действительно, была издана превосходно. Затем предполагалось, что я возьму на себя обязанности комиссара Первой Государственной типографии. Но тут неожиданно постигло меня страшное горе.