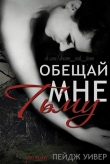Текст книги "Роман моей жизни. Книга воспоминаний"
Автор книги: Иероним Ясинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Глава сорок седьмая
1887
Иванов-Козельский. Посещение тюремного замка. Предупреждение.
Недалеко от ворот стоял извозчик. Из калитки вышел актер Иванов-Козельский[446]446
Митрофан Трофимович Козельский (псевд.; наст, фамилия Иванов, 1850–1898) – драматический актер. На сцене с 1869 г. Трагедийная сторона дарования Иванова-Козельского проявилась в ролях Гамлета, Шейлока («Гамлет» и «Венецианский купец» У. Шекспира), Уриэля Акосты («Уриэль Акоста» К. Гуцкова), Кина («Гений и беспутство» А. Дюма-отца) и др. Творчество Иванова-Козельского было переходной ступенью от героического искусства его предшественников – П. Мочалова и Н. Рыбакова к искусству актеров-«неврастеников» XX в., ярчайшим представителем которых был почитатель и ученик Иванова-Козельского П. Н. Орленев (см.: Театральная энциклопедия: В 5 т. М., 1963. Т. 2. Стлб. 236–238).
[Закрыть], знаменитый в то время провинциальный трагик, игравший в шекспировских драмах и трагедиях, по отзывам провинциальных критиков – наследник Мочалова с темпераментом военного писаря. Он, впрочем, и был когда-то военным писарем. Талантливая российская натура, и, в промежутках между спектаклями, горький пьяница и Дон-Жуан. Его легко было узнать при свете луны.
Была упоительная теплая ночь.
– Смотрите же, не забудьте, завтра я вас буду ждать с ужином, – услышал я женский голос – голос Марии Николаевны.
С Козельским я лично знаком не был, но он оказался знакомым Ольги Михайловны и, садясь на извозчика, раскланялся с нею с пьяной грацией.
Пролетка покатила, из калитки выглянула Мария Николаевна. Как раз с луны слетело облачко, и мы и Мария Николаевна очутились друг против друга в ярком луче серебряного света.
Точно так же, как Иванову-Козельскому Мария Николаевна, сказала мне Ольга Михайловна:
– Ну, так до завтра – до утра… смотрите же, не забудьте.
Она быстро повернулась и ушла, а я почувствовал на себе гневный взгляд пары прекраснейших в Киеве глаз.
– Скажите, пожалуйста, – начала Мария Николаевна, с небывалой до сих пор раздражительностью в голосе: – это что же за особа?
Я хотел взять под руку Марию Николаевну, но она отдернула руку.
– Не прикасайтесь ко мне.
– В таком случае позвольте спросить вас, а это что за господин, которого вы приглашаете к себе на ужин? Кажется, следовало бы пригласить и меня.
Никак не ожидал я: Мария Николаевна сделала тут же, еще во дворе, нехорошую мне сцену. К загадкам женской психологии относится, между прочим, эта странная двойственность души: – женщина уже разлюбила, а все-таки продолжает, заявляя об этом отвергаемому мужу, ревновать его даже в грубой форме. Или это желание выгородить себе еще большую свободу, или это еще остаток прежнего чувства?
Я шел и недоумевал. В комнатах Мария Николаевна совсем разнервничалась.
– Возьмите ваш рояль, я не прикоснусь к нему. Подарите его вашей новой возлюбленной! – кричала она.
Комично было бы оправдываться.
– Но, если она придет завтра к вам, – продолжала Мария Николаевна, – я велю ее вышвырнуть с лестницы.
– Вы этого не сделаете! – громко и холодно сказал я.
– Я это сделаю! – заявила Мария Николаевна и ушла, хлопнув дверью.
Утром, впрочем, она равнодушно встретила Ольгу Михайловну и даже приказала Анисье подать нам завтрак в кабинет.
Но завтракать было некогда.
В тюремном замке офицер, переговорив со смотрителем, долго сносился по телефону с Новицким, и только часа через два неприятного ожидания было разрешено ей и мне, выдавшему себя за родственника покойного мужа Ольги Михайловны, свидеться с политическим, арестантом Аренковым[447]447
Яков-Соломон Абрамович (Михайлович) Аренков (1866 – после 1904) – участник освободительного движения. В 1885 г. создал в Киеве народовольческий кружок из рабочих. Организовал совместно с другими лицами 17 ноября 1885 г. в Киеве без разрешения начальства вечеринку в пользу политических заключенных. Арестован в Киеве 28 ноября 1885 г. и привлечен к дознанию при Киевском жандармском управлении. По высочайшему повелению от 25 сентября 1886 г. выслан под гласный надзор в Восточную Сибирь на четыре года. Судя по приведенным данным, мемуарист ошибается, датируя посещение Аренкова в тюремном замке 1887 г.
[Закрыть].
Сравнительно недавно этот Аренков служил земским врачом, не помню в каком уезде, в Петербургской губернии; он благополучно вернулся из Сибири, где отбыл наказание. Но тогда, в 80-х годах, каждый заключенный имел основание ожидать, что ему уж нет возврата.
Аренков был юноша, и мне приятно вспомнить, что тем не менее он, разговаривая со мной через две решетки, не унывал, вел себя бодро и посылал сестре воздушные поцелуи: То, что было захвачено нами по дороге в магазинах и что не было исключено из списка дозволенных предметов, смотритель обещал передать по назначению.
– У нас нет варварства, мы не тираны, – уверял он, – мы, по возможности, бережем молодых людей. Они еще сделаются полезными гражданами, – пророчествовал он. И, прищуривая один глаз, признался вполголоса: – Когда-то и я, читывал «Колокол» Герцена и стишки Полежаева[448]448
Александр Иванович Полежаев (1804–1838) – опальный поэт, сосланный в солдаты по распоряжению Императора Николая I за поэму «Сашка» (1826), продолжающую традиции декабристской поэзии. Поэма впервые была опубликована в сб.: Русская потаенная литература XIX столетия. Лондон, 1861 (предисловие Н. П. Огарева).
[Закрыть]… был и я тово…
Прошло несколько дней. Почти каждый день Ольга Михайловна бывала у брата и через неделю объявила мне, что поезд с политическими отходит завтра, во столько-то часов. Их направляют в пересыльную тюрьму. В числе прочих едет, конечно, и брат.
– Он передал мне, что политические желали бы видеть в числе провожающих и вас.
Иван Петрович ждал от этих проводов беды для меня. Однако, проводы состоялись мирно, и я отметил их в маленьком очерке, вошедшем в собрание моих рассказов («Семидесятые годы») под тем же названием. Было это трогательное зрелище. Как на картине Ярошенко, арестанты смотрели сквозь решетчатые окна на платформу[449]449
Николай Александрович Ярошенко (1846–1898) – русский живописец, художник-передвижник, один из руководителей Товарищества передвижных художественных выставок. Имеется в виду картина «Всюду жизнь», написанная в 1888 г. (находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве).
[Закрыть], а молодые люди, как голуби, стояли группами на платформе, и солнце освещало всё и всех – и революционеров, и жандармов, и генерала Новицкого, вышедшего из первого класса, где он завтракал.
Он скосил глаза в мою сторону и что-то приказал своему адъютанту.
Тот через некоторое время любезно приблизился ко мне с рукой под козырьком.
– Вас мы просили бы не произносить никаких напутственных речей отъезжающим и затем, простите, пожалуйста, за нескромность, не можете ли вы осведомить нас, когда вы сами намерены уехать из Киева?
– Что вас так интересует мой отъезд? – спросил я.
– Мы не хотели бы замарать штемпелем ваш паспорт и огорчить вас.
Тем временем пробил второй звонок. У вагонов сгрудилась публика. Водворилось глубокое молчание. Вдруг поспешно и необычно громко забил третий звонок, и поезд двинулся. Вслед за ним по платформе двинулась молодежь, потрясая шапками, колыхались многоцветные зонтики, воздух прорезался женским плачем. Это рыдала Ольга Михайловна.
Глава сорок восьмая
1887
Ликвидация киевской жизни.
– Когда же вы уедете? – неоднократно спрашивала меня Мария Николаевна.
А я в самом деле собирался, Я только колебался между имением Василия Петровича Горленко, Ярошенко и Одессой, то-есть лиманом, куда меня тянуло не потому, что Мария Николаевна советовала лиман, а потому, что она там только-что была, и мне хотелось взглянуть, хотя бы издали, на Алексея Ивановича, который, по ее словам, там проживает по каким-то торговым делам своим, а пожалуй, может-быть, и поговорить с ним и поссориться.
Ничего не скрываю. Было и это. Легко писать романисту о себе в третьем лице. Но когда книга воспоминаний является вместе с тем и романом жизни их автора, то, правду сказать, писать трудно. То и дело спрашиваешь себя: а что если это исключить, потому что это ужасно личное? Но тогда, если исключить, нет исповеди, а есть какое-то лицемерное умолчание…
Я взял билет до Одессы, и последний вечер провел со своими крошечными сыновьями.
Заходило солнце, кидало, на паркет оранжевые пятна золотого света, а детишки кувыркались по ковру и щебетали, подражая птичкам, бросились ко мне, хотели стащить меня с дивана, и в особенности забавен был еще не твердо державшийся на ножках Яша.
Внезапно вошла Мария Николаевна, забрала детей, – им надо было уже спать – и в дверях напомнила мне, что вещи мои еще не уложены, и что мне поможет Матильда, которая ожидает приказаний.
– Вещи я сам уложу, – сказал я и пошел к Ивану Петровичу.
– А ты знаешь, – сказал он мне, – я-таки был тогда на вокзале и видел, как ты хотел говорить, да тебя остановил жандарм. Я, разумеется, сейчас же удрал, но пари держу, что Новицкий меня тоже заметил и на ус меня намотал. Как ты полагаешь, уместно ли мне, судебному следователю, с тобой теперь в публичном месте показаться?
– Я и не собирался с тобой идти на «Минеральные Воды».
– Впрочем, ничего, – сообразил Иван Петрович со смехом. – Есть тут другой садишка, мы туда двинем. Там водка хорошая, и какая там, брат, девочка служит, как поет, если в отдельном кабинете!
Вяло прошел час с Иваном Петровичем. Выпил он при мне графинчик водки, признался у меня «а груди, что он пропил свой талант – сколько таких признаний: пришлось мне уже слышать в литературном мире! – и что он по «уши врезался» в новое божество, в эту очаровательную прислужницу, которая, однако, всем улыбается, «о недоступна, и до нее как «до звезды небесной далеко»[450]450
Строчки из стихотворения И. В. Гете «Утешение в слезах» («Trost in Tranen», 1803) в переводе В. А. Жуковского (1817):
Увы! напрасные слова!
Найдешь – сказать легко;
Мне до него, как до звезды
Небесной, далеко.
(Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1975. Т. 1. С. 261).
[Закрыть].
Я потому упомянул, между прочим, об этой девушке, тогда совсем молоденькой, что она впоследствии в Петербурге прославилась как певица под именем Вяльцевой[451]451
Анастасия Дмитриевна Вяльцева (по мужу Бискупская, 1871–1913) – эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница цыганских романсов, артистка оперетты. Сценическую деятельность начала в Киеве, в качестве статистки в балетной труппе С. С. Ленчевского (1887).
[Закрыть].
Рано утром я уехал в Одессу.
Ольга Михайловна дала мне письмо к своим родным, которые указали мне на Большой Фонтан, где стоит монастырь, а при монастыре есть гостиница с дешевыми номерами и со столом.
Тянуло на лиман, но когда явилась полная возможность побывать и, может-быть, встретить Алексея Ивановича, неведомого, таинственного и что если несуществующего или, пожалуй, сочиненного, я почувствовал отвращение к разведке, устыдился самого себя и весь отдался тоске одиночества и несказанным чарам Черного моря.
Возвратившись в Киев, я не сразу приехал домой, а остановился у Иванова. Побывал у Новицкого, и тот самый адъютант, который посоветовал мне выезд из города, расшаркался передо мною и своим сахарным голосом сказал мне, что, пока не оформлено это «чисто дружеское» предложение, я, разумеется, могу считать себя свободным, не торопиться и употребить, сколько мне надо времени, на ликвидацию моих дел в городе.
– Мое служебное положение не позволяет, а то я охотно приобрел бы сам кое-что у вас из мебели и из картин.
Наступил решительный момент.
Дома я Марию Николаевну опять не застал. Она уехала в Нежин, и рано утром, когда я только-что оделся, вошла ко мне в дорожном ватерпруфе и, стоя в дверях, начала таким мертвым голосом, каким в старину говорили крепостные барыни, перечисляя слугам их вины, прежде чем отправить их на конюшню.
– Ложь! Я не люблю других! Это вы можете любить других. Я люблю другого! Я люблю его с детских лет. Я отдалась вам, потому что увлеклась возможностью уйти из родительского дома, где трудно было переносить деспотизм матери и сухость ее сердца. В сущности, она свела нас в надежде на ваши средства, ей казалось, что вы богаты. И, пожалуй, мы были такие нищие. Еще, если б вы не уезжали в Петербург каждый сезон и не бросали бы меня одну. Разве вы не могли бы продолжать скромно работать в лоне семьи?
И т. д., и т. д.
Мария Николаевна умела говорить книжно, и прежде это всегда случалось, она впадала в этот напыщенный тон, когда выражала мне какое-нибудь неудовольствие. Бедняжка величественно поднимала при этом голову и старалась смотреть на меня сверху вниз.
Легкая улыбка невольно пробежала у меня по губам.
– Ну, так вот! – гневно, повышая тон, продолжала она. – Я люблю его – и еще сегодня была в его объятиях, и поклялась быть верной ему женой. Я люблю Эдуарда Шанца.
– Не смешите меня, Мария Николаевна.
– Вам смешно, а я говорю священные для меня слова. Я в высшей степени говорю серьезно. Я его люблю, а вас не люблю, хотя вы и обладаете такими достоинствами, которых у него нет. Еще потому не люблю, что, кажется, я вас и не любила. Понимаете, я притворялась.
– Хорошо, так в чем же дело, Мария Николаевна?
– От вас я имею детей. Я заберу с собой. Они должны быть при мне, пока они маленькие, а когда подрастут, вы возьмете их к себе и воспитаете. Но до тех пор вы должны высылать мне деньги на них. Для вас было бы унизительно, надеюсь, если бы на их содержание стал тратиться мой муж.
– Вы правы, Мария Николаевна. Что же дальше?
– На первых порах я найму отдельно себе домик с садом… я уже насмотрела, но мне нужна обстановка…
– Кстати, Мария Николаевна, я перешлю в особом вагоне, так что не будет поломки, решительно всю нашу обстановку: посуду, рояль, большую часть книг, картины, которые вы любите.
– Благодарю вас. Я возьму, для детей. Вы безалаберный человек, но я не сомневалась в вашей доброте, может-быть, именно потому, что вы безалаберный. Нужны деньги также на отъезд. Я не хотела бы, чтобы Эдуард тратился на меня, пока я не повенчалась с ним.
– Деньги есть. Я вам дам денег.
Мария Николаевна смягчилась. Кажется, она ожидала вспышки и мстительного порыва с моей стороны.
– Я пришлю вам детей. Проведите с ними день, пусть они помнят вас. Скажите, – она села на диван, – вы, приехавши, до сего дня ссорились со мною. Хорошо, все равно, не ссорились – но что-то в этом роде.
– Вы сами избегали меня.
– Положим, я виновата. Нам незачем быть вратами, когда мы можем расстаться как друзья. Вы не сказали мне, как в Петербурге живут мои сестры и мать. Вы посещали их?
– Посещал, и они часто бывали у меня. Сонечка служит кассиршей в магазине, и мать живет фантазиями, бродит по улицам и с утра до вечера: ищет денег. Нашла три копейки и бережет на счастье. Познакомилась во время своих исканий с другой старухой, которая ходит по адвокатам, чтобы предъявить иск северо-американскому правительству, так как ей принадлежит штат в Сиерра-Невада, Половину штата она из дружбы обещала подарить матери. На деньги, которые я дал, они купили великолепное трюмо и через неделю продали за пустяки. Маленькая Леночка добывает деньги надвязкой чулок.
– Довольно! – сказала Мария Николаевна, вскакивая с дивана. – Мне и без того на душе тяжело.
– Послушайте, – начал я, – можно было бы поставить крест на весь наш разлад.
Но она не дала мне договорить.
– Никогда! – вскричала она.
– Значит, я прикажу упаковывать мебель для вас?
Она кивнула головой, сделала было ко мне движение, пересилила себя и исчезла.
Через каких-нибудь два дня в квартире нашей лежала только куча сена, стояла моя железная койка, письменный стол и два стула. Я проводил детей и Марию Николаевну с прислугою, усадил в вагон и вернулся к себе с каким-то странным чувством облегчения.
Глава сорок девятая
1887–1888
Снова в Петербурге. Юбилей Шеллера. Плещеев. Поездки в Москву. Дорошевич. Амфитеатров. Приглашение в «Новое Время». Мережковские.
Последняя глава, посвященная, как и некоторые предыдущие, моей личной жизни, моему былому счастью и моим несчастьям, моим интимным переживаниям, может быть и не прочитана. Эти страницы я не выбрасываю только потому, что из песни слова не выкинешь, и потому еще, что если бы я их выбросил, то мне показалось бы, что я выбросил часть своей души. Меньше всего, конечно, я хочу себя оправдать в непостоянстве моих сердечных привязанностей и взвалить вину за непрочность моей связи с такой прекрасной женщиной, во многих отношениях даже замечательной и внушавшей, всем знавшим ее глубокое уважение, на нее одну; она отличалась природной одаренностью и несомненным литературным талантом; я бы, именно, просил читателя, который пожелал бы познакомиться ближе с этой стороной моей биографии, пристальнее вникнуть в смысл наших отношений, таких ярких, таких, долгое время, возвышенных, таких радостных и так плачевно угасших.
Беспристрастно взвешивая факты прошлого, уже лежащие в могиле, я должен принять, скорее, большую часть вины на самого себя. Конечно, возможно, что семейное счастье в ближайшем, или в более или менее отдаленном, будущем станет выражаться в совсем других формах и, во всяком случае, в иных, чем оно выражалось в восьмидесятых годах в среднем обывательском кругу – даже в литературном – даже в высокоинтеллигентном. Но с точки зрения будущего судить прошлое едва ли справедливо. Таким образом, я бы должен был не доводить до крайности свою «снисходительность» по отношению к поведению Марии Николаевны.
Как потом, через несколько лет, она в письме, исполненном трагизма и раскаяния, писала мне из Нежина в Петербург, мне следовало бы удержать ее и не делать ей уступок. Это правда. Не было ли тут умысла? Не даром же я подчеркнул, несколько строк назад, что, расставшись с Марией Николаевной, т.е. с тяжестью наших недоразумений и взаимных попреков, я испытал «какое-то странное облегчение». Для меня кабинетная литературная работа и вращение в литературной сутолоке по целым месяцам в самой кузнице идей и журнальных событий было дороже мирной жизни в спокойном провинциальном городе в объятиях очаровательной женщины.
В том письме, где было столько позднего раскаяния и которое я много лет еще спустя не в состоянии перечитывать без волнения, Мария Николаевна, отмечая, что она разочаровалась в «другом» и прогнала его, в конце-концов говорит, что она сделала это, потому что он не выдержал сравнения со мною.
Я приехал в Петербург с грузом тяжелых мыслей в сердце и написал роман «Свет погас». Не помню, где он был напечатан. Должно быть, в «Наблюдателе»[452]452
Роман Иер. Ясинского «Свет погас» был опубликован в 1889 г. в журнале «Наблюдатель» (№ 1–4).
[Закрыть].
Начались литературные вечера, концерты, спектакли, визиты. Прошел мирно, домашним порядком, но сердечно и, пожалуй, пышно двадцатипятилетний юбилей Шеллера.
В небольшую квартиру его с утра набилось много друзей, гостей и поклонников. Ему были поднесены серебряные и золотые подарки и, как водится, адреса. Вечером стали сходиться с ним на «ты» даже сравнительно малознакомые люди. Один из них, перед тем считавший за честь прикоснуться к руке этого писателя, как только допущен был к тыканью, хлопнул его по лысине и, обнимая, сказал:
– Ну, поцелуемся же, сукин сын!
– Вот, уж никак не ожидал, что на старости лет на моем юбилее удостоюсь такой фамильярности от человека, который до того ошеломил меня, что я сгоряча забыл даже, как его зовут! – сказал Шеллер, оставшись в кругу близких друзей. – Что за удивительный русский обычай!
На юбилее Шеллера утром был, между прочим, Минский, уже расставшийся с Юлией Безродной. Он спросил о Марии Николаевне. Я ничего не ответил.
За юбилеем Шеллера последовал вскоре и пятидесятилетний юбилей Майкова, торжественный, прекрасный и холодный, как вся поэзия Аполлона Николаевича, с поздравлениями от академических организаций, с награждением свыше, с пышными речами и с классическою декламациею юбиляра. Сердечнее прошел сорокалетний юбилей Плещеева[453]453
Неточность мемуариста: чествование сорокалетней литературной деятельности А. Н. Плещеева проходило в Петербурге и в Москве 15 января 1886 г.
[Закрыть], либеральный, лирический и без особой пышности. Не было такой речи и такого приветствия, в котором хоть однажды не было бы слова «свобода». Кто-то упомянул, однако, о Петрашевском[454]454
А. А. Плещеев был осужден в 1849 г. за участие в социалистическом кружке М. А. Буташевича-Петрашевского (1821–1866), первоначально приговорен к смертной казни, замененной на эшафоте ссылкой в Оренбург и службой рядовым солдатом.
[Закрыть]. Легкий шелест испуга пронесся по рядам поздравителей. Оратор смял речь и закончил ее общими фразами.
Через несколько лет после этого торжественного дня Плещеев получил миллионное наследство[455]455
В июле 1890 г. Плещеев получил огромное наследство от пензенского родственника Алексея Павловича Плещеева и поселился с дочерьми в роскошных апартаментах парижского отеля «Mirabeau», куда звал всех своих знакомых литераторов и щедро дарил им крупные суммы денег. Поэт внес значительную сумму в Литературный фонд, учредил фонды имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых писателей, стал поддерживать семьи Г. И. Успенского и С. Я. Надсона, взялся финансировать журнал Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко «Русское богатство».
[Закрыть]. Был он в родстве с каким-то патриархом времен Алексея Михайловича и случайно оказался старшим в роде. К нему в порядке преемственности и перешло плещеевское богатство. Салтыков-Щедрин сказал как-то:
– Алексей Николаевич (Плещеев) пропил уже одно состояние на содовой воде и разорился на лимонаде. С такой ненасытной жаждой и с таким брюхом, похожим на губку, он не задумается, пропьет и миллион, если получит.
На первых порах Плещеев довольно щедро раздавал друзьям по тысяче и больше. Кое-что досталось и на долю Петра Исаича Вейнберга, тоже большого либерала. Как были утопические социалисты, так были и утопические либералы. Петр Исаич был певцом такой утопической свободы. Кто ее тогда не хотел? И губернаторы, мечтавшие, в роде черниговского Анастасьева, о неограниченной свободе сечь крестьян и вообще по усмотрению – всех неблагомыслящих, и помещики, и ростовщики. Растяжимое было слово, а потому и терпимое цензурой.
Поселился я в квартире на Бассейной в доме Гербеля[456]456
Николай Васильевич Гербель (1827–1883) – поэт-переводчик, издатель-редактор. Переводил Шекспира, Гете, Шиллера, Шелли, Байрона, Бюргера и др. Современный адрес «дома Гербеля» – ул. Некрасова, № 8. Однако во второй половине 1880-х гг. он принадлежал уже не самому переводчику Гербелю, к тому времени умершему, а его наследникам.
[Закрыть], составившего себе состояние переводами классических писателей.
Потянулись – не скажу, чтобы очень скучные – недели, месяцы, годы, наполненные литературной работой, поездками то в Москву, то в пригородные местности, коллекционированием редких книг, рисунков и офортов, посещением театров, клубов, выставок, добыванием денег для отсылки детям, для друзей, цену дружбы которых я знал, но которым не мог отказать при виде нужды, одолевавшей их.
В Москве я познакомился, поехавши туда на несколько дней по литературному делу, с двумя фельетонистами: с Дорошевичем: и с Амфитеатровым[457]457
Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) – прозаик, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург, автор сатирических стихотворений.
[Закрыть]. Дорошевич жил в меблированной комнате, еще худенький, длинноносый молодой человек, прославившийся уже своими остроумными фельетонами.
Дорошевич был сыном московской бульварной романистки Соколовой[458]458
Александра Ивановна (Урвановна) Соколова (урожд. Денисьева, 1833–1914) – журналистка, прозаик, мемуаристка. Печаталась во многих изданиях, большей частью в газетах «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Современные известия», «Московский листок», «Новости дня», «Жизнь», «Московская летопись», «Петербургский листок», «Петербургская газета», «Свет», «Луч» и др.
[Закрыть]. По-видимому, он не получил никакого воспитания, и история великих людей застает его уже в шестнадцать лет писцом в полицейском участке. Раннее столкновение с жизнью в ее уличных и полицейских отображениях кладет свою печать на душу будущего писателя. Он весел, игрив, за словом в карман не лезет, если нужно, скажет дерзость, а не то многозначительно промолчит, что иногда бывает красноречивее слов.
Отсюда у него вырабатывается стиль, состоящий из коротеньких в одну или пол-строчку фразой, нередко колючих, как иголки. События дня и даже минуты для него имеют прелесть и занимательность только до событий следующего дня. Есть существа в природе, которые живут, только пока заходит солнце. Но ничто не сравнится с жизнерадостностью их танца в сиянии умирающего солнца. Дорошевич был такой эфемеридой.
Та девушка, которая, славилась своей красотой в Киеве и способностью нежно сближаться только с теми, кто ей нравился, а нравились ей многие, как и она многим, и с которой Бибиков списал героиню «Чистой любви»[459]459
Роман В. И. Бибикова «Чистая любовь» вышел отдельным изданием в Петербурге в 1887 г. и имел посвящение И. И. Ясинскому.
[Закрыть] (Михайловский похвалил роман), очутилась уже в Москве и жила с Дорошевичем. Сожительство, впрочем, было непродолжительное, Дорошевич не признавал еще длинных фельетонов и не писал еще больших книг, вроде книги о Сахалине[460]460
В 1897 г. Влас Дорошевич предпринял путешествие на Восток, написал книгу очерков о Сахалине и о Сахалинской каторге, первоначально публиковавшихся в «Одесском листке» (1897–1898), затем в газетах «Россия» и «Русское слово» (последний очерк «Политические на Сахалине» – 1906. 24 июня... 2 июля). Отд. издание: Дорошевич, Влас. Сахалин. (Каторга). М., 1903 (Сахалин. I. Каторга. II. Преступники. 4-е изд. М., 1907).
[Закрыть]. Со мной он был немного застенчив, пригласил взять экипаж и поехать всем вместе в какой-то сад, но мне было некогда, я был не расположен и отказался. Во всяком случае, мы расстались приятелями.
В «Лоскутной» гостинице у Иверских ворот я застал у себя Амфитеатрова.
– Я только-что приехал, пообедал в ресторане и, узнав, что вы здесь, зашел к вам, – начал он. – Хорошо, что мы с вами не разминулись в коридоре. Я целый день езжу на своей лошади, потому что не могу терять ни минуты. Уйму зарабатываю и столько же проживаю. В конце концов долги. Время – деньги, совершенно верно. Но как вы поживаете, что пишете, что намерены делать в Москве, для чего приехали? Что вы думаете о «Новостях Дня», о «Московском Листке», о «Русском Обозрении» князя Цертелева?[461]461
Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) – философ, поэт, публицист, литературный критик. В 1890 г. основал в Москве ежемесячный литературно-политический и научный журнал «Русское обозрение», который редактировал в 1890–1898 гг.
[Закрыть] Когда вы уедете обратно в Петербург?
Он забросал меня вопросами. Мы вошли в номер, я смотрел на него, на его коренастую высокую фигуру молодого человека со втянутою в плечи шеею, близорукого и, тем не менее, всё, казалось, видящего и крайне наблюдательного.
– Ах, закис я в Москве, – начал он. – Провинция-матушка! Хотелось бы на голубятню, на колокольню, чтоб кругозор был пошире. Но позвольте спросить, вы знакомы с моими фельетонами?
– Мне присылают «Новости Дня».
– Не спрашиваю у вас мнения. В глаза трудно сказать. Однако, я пишу иначе, чем Дорошевич; во всяком случае я пишу серьезнее. Для большой газеты! А «Новости Дня» уже не для меня, будем прямо говорить!
Он рассказал мне, что был певцом, что мечтает о романе, о драме, что владеет стихом, что отец его – протопоп. Повез меня к себе, угощал, познакомил с своей женой, уже немолодой, бывшей артисткой, был удивительно словоохотлив и всё тосковал о большой газете, всё тянуло его в Петербург.
При встрече с Сувориным через несколько недель в «Литературном Общества» я рассказал ему об Амфитеатрове в ответ на его жалобу, что он не может найти хороших фельетонистов.
– Чорт их дери, я позволил бы им писать что угодно, лишь бы они не трогали меня; да и меня пускай хватают за икры, но не ссорятся с Бурениным; а то ведь полемика внутри газеты хоть может быть и занимательна для публики, но я еще пока не хотел бы допускать.
Суворин всем писателям, которых он приглашал, говорил приблизительно эти же слова и обыкновенно заключал:
– У меня не газета. Вы хотите вместе с Салтыковым подсказать: а «чего изволите»?[462]462
«Чего изволите?» (обычная фраза, с которой лакеи обращались к господам, ожидая приказание) – так М. Е. Салтыков-Щедрин саркастически называл газету А. С. Суворина «Новое время» (см. циклы: «В среде умеренности и аккуратности», «Господа Молчалины», «Круглый год»).
[Закрыть] Но, если серьезно посмотреть, то не «чего изволите», а литературный парламент.
Амфитеатров заинтересовал Суворина, во всяком случае, и зимой я увидел в «Новом Времени» фельетоны, подписанные псевдонимом old Gentleman.
«Серьезный элемент» из «Новостей Дня» перекочевал в «Новое Время».
Ничем я так себе не повредил в либеральном лагере, как напечатавши, о чем я уже упоминал, несколько небольших рассказов, «чтоб Чехову не было одиноко», в органе Суворина. Некоторое время спустя ко мне приехал Суворин вместе с Чеховым и предложил постоянное сотрудничество. Условия, что называется, были блестящие.
– У вас темперамент, задор. Вы можете писать каждый день, сколько хотите. Такой сотрудник «Отечественных Записок» как Сергей Атава у меня пишет, что ему взбредет на ум, а иногда и целый месяц ничего не пишет, и великолепно обставлен. Ваши сочинения потребуют со временем полного издания, и я буду вашим издателем. Все это вы должны принять в соображение. А либералы вам все равно хвост уже прищемили, и если бы вы знали, чьи статьи печатаются в «Новом Времени» как передовые, в защиту православия! У меня лежит сейчас подлинная рукопись, под псевдонимом, которую я не счел возможным напечатать, и которая принадлежит вашему хваленому киевскому философу – атеисту К. Давайте для опыта, напишите что-нибудь маленькое, фельетонное, самое что ни на есть радикальное, и пришлите мне. Даю слово, напечатаю без изменений.
В самом деле, я послал заметку полемического характера против «Нового Времени». Суворин сдержал слово и напечатал, а на другой день поднялась такая буря в «Новом Времени», что о дальнейшем преображении «Нового Времени» в литературный парламент Суворин уже не помышлял.
– Нелюдимо наше море[463]463
Первая строка песни «Моряки», написанной композитором К. П. Вильбоа (1853) на текст стихотворения Н. М. Языкова «Пловец» (1829).
[Закрыть], – пропел Сергей Атава своим тоненьким голосочком, столкнувшись со мною во фруктовом магазине. – Вы счастливо отделались. Теперь житья вам не будет, а меня засосало, поглотил кит и не на три дня, а переварит меня и не изблюет вовеки[464]464
Аллюзия на сюжет ветхозаветной Книги пророка Ионы.
[Закрыть].
На Бассейном в доме Гербеля меня посетили и стали у меня бывать, а я у них, юные супруги Мережковские[465]465
Поэт, драматург, прозаик, литературный критик и религиозный философ Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) и поэтесса Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) венчались 8 января 1889 г. в тифлисской церкви архангела Михаила.
[Закрыть]. Ей было тогда около семнадцати лет, а ему, должно-быть, немногим больше двадцати.
Лет семь или восемь перед тем критик Введенский принес мне его стихотворения, написанные в неприемлемом стиле Жуковского. Они были гладки и сладки, но уже видно было, что из него выйдет писатель. И, действительно, он довольно скоро выработался и стал разносторонней литературной силой – и романистом, и стихотворцем, и критиком, и философом.
Зинаида Николаевна Мережковская, урожденная Гиппиус, была прехорошенькой девочкой, в коротеньких платьицах, с длинной русой косой, наивная и кокетничавшая своей молодостью.
С мужем, в ожидании гостей, она ложилась на ковер в гостиной и увлекалась игрою в дурачки или же являлась с куклою-уткой на руках. Утка эта должна была символизировать разделение супругов, считавших пошлостью брачную половую связь.
Мережковские завели у себя журфиксы, на которых бывали: неизбежный Бибиков, поэт Андреевский, Фофанов, Плещеев, Волынский, Кавос («литературный гость»), Минский, и впервые появился со своими стихами – на литературном горизонте еще не печатавшийся Тетерников (Федор Сологуб)[466]466
Федор Кузьмич Сологуб (псевд.; наст, фамилия Тетерников, 1863–1927) – поэт-символист, прозаик, драматург. Первая публикация в столичной прессе – стихотворение «Вечер» в № 2 журнала «Северный вестник» за 1892 г.
[Закрыть].
Дам Мережковская не признавала. Исключение делалось только для Соловьевой-Аллегро[467]467
Поликсена Сергеевна Соловьева (псевд.: Allegro, 1867–1924) – поэтесса, прозаик, детская писательница, издательница. Дочь историка С. М. Соловьева, сестра Вл. С. и Вс. С. Соловьевых. С осени 1898 г. посещала «пятницы» К. К. Случевского, где сблизилась с петербургскими символистами, прежде всего с Зинаидой Гиппиус, которая посвятила ей несколько стихов и с которой у них завязались многолетние дружеские отношения.
[Закрыть]. Бывал также брат Мережковского, потом казанский профессор, прославившийся своими изнасилованиями крохотных девочек и бежавший за границу[468]468
Константин Сергеевич Мережковский (1855–1921) – ботаник, зоолог, философ; с 1906 г. исполнял обязанности экстраординарного профессора Императорского Казанского университета (утвержден в должности в 1908 г.). В 1914 г. после «газетного скандала», в результате которого его обвинили в педофилии, К. Мережковский был вынужден бежать из России за границу. Умер в Женеве.
[Закрыть]. Тетерников служил учителем и смотрителем городской школы на Васильевском Острове[469]469
Ошибка мемуариста, приурочившего это свидетельство к концу 1880-х гг.: до 1892 г. Сологуб служил учителем в Крестцах Новгородской губернии; с 1892 по 1899 г. преподавал в Петербурге в Рождественской гимназии на Песках и лишь в 1899 г., будучи уже известным писателем, перевелся в Андреевское народное училище, где состоял не только учителем, но и инспектором, получив при училище казенную квартиру (соврем, адрес: Васильевский остров, 7-я линия, дом № 20).
[Закрыть], где имел квартиру; женат он не был и жил с сестрой, был уже сед. Приютил его у себя «Северный Вестник», напечатавший его рассказ «Тени»[470]470
Рассказ Ф. Сологуба «Тени» был напечатан в №2 «Северного вестника» за 1894 г.
[Закрыть]. Содержание «Теней» понравилось критике; Венгеров восторгался, а состояло оно в том, что мать, делая из пальцев зайчиков на стене своему ребенку, сама проникается суеверным ужасом к игре теней и сходит вместе с сыном с ума.
Волынский, редактор «Северного Вестника», стал печатать также и рассказы Гиппиус, поощряя молодое дарование.
У Мережковских бывало молодо, литературно и как-то декадентски весело и странно. В темноватой гостиной на письменном столе Зинаиды Николаевны попадались иногда крайне неприличные заграничные издания.
– Зинаида Николаевна! – вскрикивал Андреевский. – Это что же у вас за книжки?
Она перелистывала их, точно в первый раз, и говорила:
– Но это мне очень нравится, потому что оригинально и нелепо.
Кавос, обыкновенно, лежал у ее ног на ковре со страшной экземой на лице, которое казалось густо осыпанным пудрой, неизменно веселый, с французскими фразами на устах и острословный. Сологуб читал, слегка картавя, стихотворения с философским содержанием, Минский также читал свои поэмы, и вопил Фофанов, с безумным восторгом рифмуя свой триолет, который отличался от обыкновенного триолета тем, что растягивался чуть не на триста стихов.
Однажды Фофанов пришел к Мережковским на вечер в огромном белом воротнике, резко выделяющемся на черной блузе. При ближайшем рассмотрении воротник оказался вырезанным из бумаги. Смешное и жалкое впечатление производил он в этом костюме; но он был вдохновенно настроен, так что впечатление это скоро изгладилось. Мережковская затем выдумала игру, повинуясь своему резвому темпераменту девочки. Она пряталась за опущенные портьеры в амбразуре глубокого окна и вызывала поочередно к себе гостей, словно на исповедь, которая продолжалась не больше полуминуты. Она что-то спрашивала и надо было ей что-то ответить. Детская игра эта была прервана внезапным криком Фофанова, который с выпученными глазами выскочил из-за портьеры и ринулся прямо в переднюю и на лестницу. Бибиков погнался за ним, Фофанов, одним словом, внезапно сошел с ума и явился к Репину. С большим трудом Репину и Бибикову удалось проводить его домой; но на другой день он уже был в больнице чудотворца Николая[471]471
Неточность мемуариста: описанное психическое заболевание Фофанова имело место не в конце 1880-х, а в марте 1890 г. Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца располагалась на набережной реки Мойки (соврем. № 126).
[Закрыть]. Долго просидел он там и вышел на свободу лишь через несколько месяцев.
– На чем же ты помешался, Костя? – спрашивали мы его.
– На мухе! – отвечал он еще с оттенком ужаса – в глазах. – Мне муха представилась, огромная муха величиной во все окно! Она меня преследовала и в моей памяти, и я не знал, куда от нее деваться. Я понял, что околдован, и выдумал молитву против мухи. Каждый день я тридцать три раза повторял ее. Смотрю, на другой день муха уже съежилась; становилась все меньше и меньше; наконец, уже в мае месяце, совсем крохотная стала, засохла и прилипла к стеклу. Тут ясно стало, что колдовство с меня сошло. Нет, я никогда больше не приду к Гиппиус. Конечно, я не верю в волшебниц, теперь не такой век, но знаете, господа, что-то есть. Я боюсь Гиппиус. Подальше от нее!
Помню, один тоже крупный поэт, уже не первой молодости, грозил, что застрелится, если Гиппиус будет играть им.
На самом деле Гиппиус как женщина была так же холодна и добродетельна, так же занята исключительно собою как и в своих стихах и рассказах. В ее поэтическом даровании всегда преобладал элемент игры, рассудочности, желания заинтриговать, а под конец, когда она пришла не только в солидный, но в возраст более чем зрелый, она ударилась в ханжество, стала членом религиозно-философского общества[472]472
С.-Петербургское религиозно-философское общество было основано в 1907 г. (просуществовало до 1917 г.). В собраниях Общества принимали участие Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, А. В. Карташев, П. Б. Струве и др.
[Закрыть], проповедовала какую-то религиозную революцию; вспыхнул семнадцатый год и загремел октябрь, и на ее лире задрожали самые черные струны, а ее поэтический язык не гнушался проклятий красным матросам, напомнивших грязь, которою обливали с балконов парижские буржуазии арестованных коммунаров.