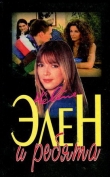Текст книги "Решающее лето"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Глава седьмая
Возможно, именно потому, что я был возмущен незаслуженной обидой, которую нанесли Чармиан, я вдруг потянулся к ней, чем немало удивил ее. Мне казалось, что я должен как-то исправить то зло, которое ей причинили или могли причинить. Она же, будучи человеком, который способен поверить в зло только тогда, когда сам сталкивается с ним, и притом в его самой грубой и откровенной форме, догадывалась, что я неспроста уделяю ей столько внимания, но склонна была объяснять это тем, что меня беспокоят ее семейные неурядицы.
Разумеется, я не собирался считать Элен врагом Чармиан. Какая-то своя обида, какие-то свои ассоциации заставили ее так резко осудить Чармиан. В словах Элен не было ничего, направленного лично против Чармиан. Так рассуждал я всякий раз, когда рассуждал здраво. Однако мне доставляло удовольствие злиться на Элен, это было моим недостойным утешением в те дни.
А Чармиан, которой очень понравилась Элен, говорила о ней с неизменной симпатией. Наконец-то, радовалась она, я встретил женщину, которая сможет стать мне хорошей женой. Чармиан мечтала видеть меня женатым.
Забота о моем будущем помогала ей забывать о своих невзгодах.
– Теперь, когда умерла мама, – как-то вдруг заявила она, – я обязана заботиться о тебе.
– Боже праведный! Неужели ты считаешь, что Хелена когда-нибудь заботилась обо мне? Все было как раз наоборот.
– Знаю, знаю. И однако она часто говорила мне, что хочет видеть тебя устроенным.
– Если ты имеешь в виду собственный счастливый пример, – заметил я, – то я предпочитаю оставаться неустроенным.
– У меня есть все, что мне надо, – горячо возразила Чармиан, – у меня есть ребенок.
– Разве я виноват, что у меня его нет?
– Я и не собираюсь тебя винить. Однако. – Она умолкла, а затем посмотрела мне в глаза – Ты разлюбил Мэг именно потому, что она не могла иметь детей? Разлюбил, когда узнал, что она скрыла это от тебя? Ты сам мне сказал. Не так ли? Для тебя действительно это много значит?
Ее черные с золотыми искорками глаза смотрели на меня с вызовом. Я знал, что мне не уйти от ответа, и потому не пытался уклониться от него.
– Думаю, что нет. Думаю, это было просто предлогом. Мы были очень разные люди, Мэг и я.
– Я знала это еще тогда, когда мне было всего шесть лет, – заметила Чармиан, и я подумал, как давно все это было.
– Если бы я тогда тебя послушал! Почему я был глух? Ведь устами младенца глаголет истина.
Она улыбнулась.
– Из всей нашей семьи только я одна наделена способностью разумно мыслить. Да, так вот, я уже сказала тебе, что Лора – моя награда за все мучения. Поверь, это действительно так. Ты знаешь, я, кажется, способна обращаться к ней со словами молитвы, как к богу.
По-настоящему ее состояние я понял потом, несколько дней спустя, когда рассказал ей эпизод, очевидцем и невольным участником которого я стал.
Возвращаясь от одного из клиентов Крендалла, я шел по переулку, которых такое множество между Эджвер– и Хэрроу-роуд. Навстречу по другой стороне шла женщина лет тридцати восьми в аккуратном твидовом костюме с кошелкой в руке. Она вела за руку маленькую девочку, а за ними, немного поодаль, плелся краснощекий мальчуган лет двенадцати. Он был слишком толстый и рослый для своих лет, и длинные серые брюки были явно ему тесны. На нем была малиновая школьная фуражка с кокардой и малиновый джемпер со школьной эмблемой на кармашке.
Когда нас разделяло всего шагов двадцать, женщина недовольно обернулась и сделала нетерпеливый жест рукой, словно хотела сказать. «Ну что ты плетешься, скорее!»
И тут произошло совершенно неожиданное: мальчишка остановился как вкопанный, с секунду смотрел на мать, а затем вдруг с угрожающим видом двинулся на нее. Она в испуге попятилась, а маленькая девочка громко заплакала. Мальчишка, приняв позу боксера, стал, приплясывая, теснить мать, не сводившую с него испуганного взгляда, и вдруг сделал выпад и нанес ей хорошо рассчитанный удар под сердце. Женщина побледнела, громко охнула и резко отпрянула назад.
Я перебежал через улицу и схватил мальчишку за руку.
– Ты что делаешь? Как ты смеешь бросаться с кулаками на мать!
Он вырывался, тяжело дыша и рыча, как звереныш. И тогда я сказал первое, что говорят в таких случаях.
– Вот сейчас позову полицейского, и он тебя заберет.
– Зови, зови! – злобно выкрикнул он. – Пусть забирает ее!
И, ловко вывернувшись из моих рук, он выхватил свой бойскаутский нож. Я вовремя успел снова схватить его за руку и уже не отпускал. Теперь я был не один, потому что к нам подошли седой мужчина с портфелем и маляр, красивший дом напротив.
Маленькая девочка громко и испуганно плакала, круглые слезы, словно горох, катились по ее щекам. Седой мужчина схватил мальчика за другую руку. Так мы крепко держали его за руки, а он повис между нами, словно на качелях, отчаянно брыкаясь, в бессильной ярости делая резкие, почти конвульсивные движения.
– Это уже не в первый раз, – задыхающимся голосом вымолвила мать, – уже не в первый раз. Отнимите у него нож, прошу вас.
Я расцепил мальчишке пальцы, вынул из них нож и отдал матери.
– Ах ты негодник! – возмущался седой господин с портфелем. – Надеюсь, твой отец проучит тебя как следует.
Маляр повел себя иначе. Он присел на корточки перед мальчиком, так что их лица почти соприкасались, и тихим голосом серьезно сказал:
– Я не знаю, что у тебя за обида, сынок, да и не хочу знать, но запомни: лучше матери нет у тебя друга.
Каким бы странным ни показалось в этот момент такое обращение к обезумевшему от непонятного приступа злобы мальчику, но оно возымело действие. Лицо мальчишки вдруг искривилось в жалкую гримасу, и он заплакал, сразу же превратившись из разъяренного зверька в обыкновенного обиженного ребенка. Мы отпустили его, и он побежал по переулку в сторону шумной улицы.
– Пусть, – сказала мать, – не трогайте его, теперь все обойдется, он успокоится. – Встав на колени, она обняла плачущую девочку и стала ее уговаривать. – Не надо плакать, детка, все прошло. Он просто пошутил, он не хотел сделать ничего плохого.
Седой господин попытался было о чем-то ее спросить, но женщина ничего не ответила. Торопливо поблагодарив нас, она поспешила за сыном, таща за руку девочку. Маляр пожал плечами.
– Должно быть, не все дома, – спокойно промолвил он и вернулся к прерванной работе.
Когда я рассказал об этом эпизоде Чармиан, я добавил что-то относительно материнской доли: как, должно быть, тяжело матери этого мальчишки – ведь он сущий волчонок.
К моему удивлению, Чармиан набросилась на меня.
– Ты только так и способен мыслить! Тебе, разумеется, ее жаль! Все вы такие, мужчины. А ты подумал о мальчике? Разве ты знаешь, отчего он такой? Почему хотел убить собственную мать? Ведь дети так ужасно страдают, – продолжала она, одновременно разгневанная и взволнованная – и никто этого не знает. Взрослые всегда заодно и всегда против детей. Как ты можешь осуждать этого бедного толстого мальчугана? Только представь, сколько ему пришлось вытерпеть, если он стал таким? Ведь всю правду ни ты, ни я никогда не узнаем.
– Разумеется, поэтому лучше не принимать так близко к сердцу эту историю. И ради бога, будь справедливой, не впадай в крайности. Дети, бросающиеся с ножом на родителей, право же, заслуживают наказания.
– Ах, ты совсем ничего не понимаешь, – продолжала она. Взяв на руки маленькую Лору и крепко прижав ее к себе, она взволнованно ходила по комнате. – Я на их стороне. Я всегда буду на стороне детей.
Я вдруг понял, что Чармиан бросает вызов миру взрослых, миру их любви и их ненависти. Она решила посвятить себя Лоре и добровольно отказаться от других радостей. Мальчишка в малиновой фуражке, разъяренное и одержимое злобой существо, столь быстро ставшее вновь беззащитным и беспомощным, символизировал для нее страх, живущий в душе каждого ребенка.
Тем, кто утверждает, что у истоков детства лежат страх и страдание, грозит плен. Здоровое начало, заложенное в естественном праве человека на счастье, служит великим вдохновителем всех его начинаний. Страдания двенадцатилетнего мальчика символизировали для Чармиан страдания детства, и она отождествляла их с собственной обидой. Она сама была мальчишкой с ножом в руках. Ей снова хотелось вернуться в детство, чтобы ничего самой не решать и не избирать меру наказания.
Это неожиданно возникшее между нами непонимание и новая отчужденность заставили меня подумать о том, чтобы уехать куда-нибудь ненадолго. Тоска по Элен была похожа на физическую боль и словно обручем все туже стягивала сердце. Я был полон решимости побороть ее во что бы то ни стало, избавиться, как от тяжкой болезни, и видел выход лишь в смене обстановки и в новых впечатлениях. Чармиан не нуждалась во мне, а галерея Крендалла в своем спокойном и неторопливом существовании не требовала особых забот. Поэтому, когда Крендалл упомянул как-то о богатой американке, коллекционирующей картины современных английских художников, и высказал мысль, что было бы неплохо установить с нею деловые контакты, я предложил вместо отпуска съездить на месяц в Нью-Йорк. Я мог себе это позволить и, таким образом, соединил бы приятное с полезным.
– Что ж, я не возражаю, – одобрил мою идею Крендалл, – поезжай. Меня это вполне устраивает. Я попрошу Макса Дэвидсона помочь мне, пока ты будешь в отъезде. Он сейчас не у дел, и думаю, что его знаний хватит, чтобы не наделать глупостей. Когда ты предполагаешь ехать?
– Как можно скорее, – ответил я, но, наведя справки, выяснил, что раньше середины мая уехать не удастся.
– Ну что ж, все равно у тебя впереди заманчивая перспектива, – утешал меня Крендалл, не подозревая, насколько мне необходимо уехать немедленно.
Вторая неделя апреля была на исходе, и весенний город сиял, словно осыпанный бриллиантовой пылью, а поздно зацветшие деревья в садах Чейэн-уока белели, будто шары из сахарной ваты, и наполняли воздух сладким ароматом. Весна была похожа на строгую мать, которая долго отказывала ребенку в удовольствиях, а затем вдруг неожиданно щедро осыпала его подарками.
Мысли о поездке в Америку так захватили меня, что тоска по Элен стала проходить. Возможно, она прошла бы совсем, если бы однажды вечером, возвращаясь домой и проходя мимо маленькой мастерской по ремонту радиоприемников, я не услышал мелодию, напомнившую об Элен.
Впервые я услышал ее в тот вечер, когда мы с Элен обедали у Гвиччоли. Это был необычайно теплый вечер, и мы сидели у открытого, окна, под которым уличный музыкант играл на флейте. Поначалу я почти не слышал его, ибо звук флейты был слишком слабый и его заглушал шум улицы. Думаю, что он не сразу привлек мое внимание. Теперь же, услышав эту мелодию, шумно исполнявшуюся на саксофоне, трубе и кларнете, мелодию, которая донеслась до меня из темного нутра маленькой лавчонки, я сразу вспомнил ее. Это была обычная джазовая музыка с надоедливыми повторами басов, под которую, тесно прижавшись друг к другу напряженными телами, конвульсивно подергиваются пары в переполненных дансингах. Но я услышал ее, когда был с Элен, запомнил, и теперь она показалась мне необыкновенной.
Остановившись как вкопанный на заполненном пешеходами тротуаре, я слушал банальный мотив, словно звуки хорала. Нет, пожалуй, хор ангелов не смог бы петь слаще. Только когда эту мелодию сменила другая, столь же же пошлая и банальная, я наконец обрел способность двигаться и продолжил свой путь.
В моем уме рождались хитроумные планы примирения с Элен, перебрасывались бесчисленные мостики через пропасть. Но поскольку я старался во что бы то ни стало обойтись без помощи Филдов, все они были практически неосуществимы. От некоторых я тут же сам отказался, понимая их явную нелепость. Например, я звоню Элен в министерство и задаю ей какой-нибудь вопрос, скажем, что требуется для того, чтобы открыть магазин (любой магазин). Или: я узнаю (бог весть каким образом), где она завтракает, и случайно оказываюсь там. Или: я пишу ей сухую и сдержанную записку, где спрашиваю, не оставила ли она у меня какую-нибудь пустяковину, ну, скажем, пудреницу или авторучку (для пущей правдоподобности я, разумеется, сам покупаю их в магазине). И наконец: я тяжело заболеваю и в бреду зову ее.
Идиотизм этого последнего плана, логически следующего за всеми остальными, не менее глупыми и нелепыми, заставил меня очнуться, я даже вновь обрел утраченное чувство юмора. А заодно вернулась и прежняя злорадная, ничем не оправданная уверенность в том, что Элен не меньше моего жаждет примирения, и я преподам ей хорошенький урок, если не буду с этим торопиться.
Разумеется, я все еще расценивал свое отношение к Элен как простое увлечение или флирт; ничего серьезного в этом я пока не видел. Продолжая наслаждаться внутренней свободой после смерти Хелены, я не был склонен снова осложнять свою жизнь.
Пока я строил нелепые и несбыточные планы примирения с Элен, время от времени по случайным воспоминаниям возрождая радостные и тревожные минуты наших встреч, в отношениях между Чармиан и Шолто произошли перемены.
Однажды утром Чармиан внезапно появилась в галерее. Посетителей не было, я был свободен, и она без обиняков сказала:
– Ты знаешь, Эван пьет.
– Ты говорила, что это бывает. Снова началось?
– Но теперь это серьезно. Он не бывает совершенно пьян, но и трезвым почти не бывает. Опять пропадает по вечерам, возвращается в полночь, отвратительно любезен и внимателен. Свекровь в восторге.
– Разве она не видит?
– О, нет. Она счастлива, что он галантен и мил. Она не знает, каким он бывает после полуночи.
Я почувствовал, как сжалось сердце от гнева.
– После полуночи?
– Нет, нет, он ничего себе не позволяет. Просто садится в ногах моей кровати и начинает доказывать, что во всем виновата я. Он говорит, что ему нравится пить, что он обязательно сопьется – и все из-за меня. Он не трогает меня. А утром ничего не помнит. У него даже голова не болит с похмелья.
– Почему ты не запираешь дверь спальни?
– Я попробовала однажды, но он так стучал, что разбудил свекровь и она примчалась в одной сорочке и в своем розовом ночном чепце. Мне пришлось успокаивать ее и убеждать, что все это просто шутка.
– Она не такая дура. Думаешь, она тебе поверила?
– Она хочет верить, а это главное.
– Ты и теперь не уйдешь от него?
– Сейчас я не могу, – ответила Чармиан с сосредоточенным и каким-то ребячески упрямым выражением. – У него нет ни гроша за душой.
– Он работает?
– О нет, – ответила она со спокойной и горькой иронией. – Уже нет. На прошлой неделе он отказался от места.
– Но… Черт!
– Он считает, что заслуживает большего. Теперь он обхаживает Джонни Филда, хочет, чтобы тот рекомендовал его Хэймеру. Он теперь каждый вечер пропадает у Филдов.
– Послушай, Чармиан. То, что он стал пить, меняет дело. Что тебе до того, как он будет жить без тебя. Ты не должна терпеть все это.
– Что подумает обо мне Лора, когда вырастет? – произнесла Чармиан с идиотской наивностью. – Если она узнает, что я отвернулась от ее отца, когда он был беден и попал в беду…
– Но почему ты так похожа на отца, господи? – воскликнул я. – Почему ты не унаследовала эгоизм Хелены! Мне тошно от твоих рассуждений!
– Дело не только в Эване. Ты знаешь, что свекровь спасает от богадельни только рента – тридцать фунтов в неделю. Я выяснила, оказывается, она по уши в долгах. По уши!.. – добавила Чармиан с неожиданным гневом.
– И ты, конечно, собираешься ее спасать? Моя дорогая, людей в таком положении слишком много.
– А что мне делать?
– Я думаю, что Шолто-мать и Шолто-сын сами о себе позаботятся, если ты перестанешь их опекать. Попробуй – и ты убедишься в этом.
– Неужели ты считаешь меня способной на это? – воскликнула Чармиан, а затем с неожиданным удивлением и нежностью сказала: – А почему ты так похож на Хелену, ведь ты не ее сын?
– Не будем задавать друг другу идиотских вопросов. Послушай, я не собираюсь с тобой спорить, но позволь мне хотя бы поговорить с Эваном.
– Говори, пожалуйста, – согласилась она. – Только он здесь ни при чем. Если хочешь его застать, приходи в субботу утром, потому что он куда-то уезжает на воскресенье. Не спрашивай куда, я не знаю. Знаю только, что его поезд отходит после двух. Приходи часов в одиннадцать, и ты, возможно, еще застанешь его. Меня не будет дома. Я уйду с Лорой в парк.
– Я не причиню тебе вреда, если поговорю с Шолто? – спросил я.
– Хуже быть уже не может. Может стать только лучше, в крайнем случае все останется по-прежнему. Возможно, он прислушается к твоим словам. А если нет, то это все равно ничего не изменит.
И, уже уходя, она вдруг обернулась и сказала:
– Ты знаешь, я последнее время так много думаю о маме. Она у меня из головы не выходит. Мне кажется, что она пытается помочь мне, подсказывает, как поступить, что сказать, подсказывает даже слова.
От неожиданности я не нашелся, что ответить, но потом, взяв себя в руки, спокойно сказал:
– Только не рассказывай мне историй о привидениях и духах. Хелена не из тех, кому придет такое в голову.
– Возможно, это от нее не зависит, – ответила Чармиан.
Меня встревожило поведение Чармиан. То, что такой разумный человек, как она, вдруг начал верить в общение с загробным миром, говорило о том, что Чармиан жила в состоянии огромного морального напряжения.
Я взял ее за руку.
– Выслушай меня внимательно, Чармиан. Мы все помним Хелену. Таких, как она, не забывают. Зная, как она умела здраво и разумно разбираться во всем, легко можно себе представить, как бы она поступила в том или ином случае, что сказала бы и что посоветовала. Но если бы ей предложили роль ангела-хранителя, право, она скорее предпочла бы отправиться в ад.
Мои слова, должно быть, возымели действие и вывели Чармиан из состояния подавленности и оцепенения. Она шутливо толкнула меня и рассмеялась.
– Я повидаюсь с Эваном, – сказал я. – Я постараюсь быть предельно тактичным в этом нелегком для меня разговоре.
– Прошу тебя, ради Лоры, – сказала она торопливо, – не ради меня.
– Мне кажется, его пьянство пока еще не отражается на Лоре?
– Нет, он только становится отвратительно сентиментальным, противно сюсюкает и дышит на нее винным перегаром. А я этого не выношу.
– Еще несколько месяцев назад ты умирала от любви к нему, – сказал я, – и не позволяла сказать о нем ни одного дурного слова.
– Да, – согласилась она. – Все это странно…
Она ушла.
Однако мне не удалось повидаться с Эваном в субботу, и он уехал, не подозревая о моих намерениях.
В половине одиннадцатого, когда я уже совсем было собрался к Шолто, неожиданно пришла Наоми Филд.
Она извинилась, что побеспокоила меня, затем смущенно умолкла, но через несколько минут повторила свои извинения.
– Если я не вовремя, вы скажите, я уйду. Но меня очень беспокоит Джонни, мне просто необходимо с кем-нибудь поговорить. Вы были так добры ко мне до моего замужества, всегда помогали советами.
Ничего подобного, разумеется, не было. Насколько я помню, мне довелось лишь однажды беседовать с ней до ее замужества, и то это был светский, ничего не значащий разговор.
– Что случилось? – прямо спросил я. Я видел, что она с трудом сдерживает слезы. В ее прическе и одежде была несвойственная ей небрежность. Мне даже показалось, что она не шла, а бежала.
Наоми села и расстегнула пальто, пригладила ладонями волосы, убирая их со лба.
– За эту неделю я чуть с ума не сошла от тревоги. Мне не к кому обратиться. Я знаю, что не имею права затруднять вас, но вы знаете меня, знаете Джонни.
Она вдруг умолкла и уставилась в окно застывшим взглядом, словно увидела там что-то такое, что заставило ее остолбенеть от ужаса. Она кусала губы, стараясь не разрыдаться.
Я зажег сигарету и насильно сунул ей в рот.
– Благодарю. Я сейчас успокоюсь. Что бы сказал Джонни, если бы узнал, что я пришла к вам? Но я не могла иначе, хотя мне теперь и стыдно.
Наоми была спокойной, уравновешенной женщиной, вовсе не склонной к истерике.
– Что случилось, Наоми? Может, все не так плохо, как вам кажется?
– Да, да, возможно. – Она немного успокоилась. Очевидно, страшное видение за окном исчезло.
– Клод, не правда ли, многие в наши дни добывают деньги не совсем честным путем, вернее, просто нечестным? Ведь их вынуждают к этому обстоятельства, правда? Джон ненавидит нищету, он не хочет, чтобы я в чем-либо нуждалась. Ведь в этом есть какое-то оправдание, как вы считаете?
– Что он натворил? – спросил я.
Она узнала это неделю назад, совершенно случайно. Филд разговаривал с кем-то по телефону – это был нескончаемый разговор, а Наоми собиралась к друзьям в пригород Лондона и ей необходимо было узнать расписание, поездов. Опасаясь, что она уже пропустила нужный ей поезд и пропустит следующий, она поднялась к соседке, с которой была едва знакома, и попросила разрешения позвонить на вокзал Ватерлоо. Соседка провела ее в гостиную и оставила одну. Наоми подняла трубку. Каким-то необъяснимым образом телефон квартиры Филдов подключился к телефону соседки, и Наоми невольно услышала все, о чем говорил Джонни со своим собеседником.
– Я положила бы трубку, если бы не слова, которые меня насторожили. Я решила дослушать до конца. Вы вправе презирать меня, Клод.
Наоми, женщина неглупая и разумная, долгое время не задавала себе вопроса, откуда это их неожиданное благополучие Ей было ясно, что у мужа появились «свободные» деньги, но, спрашивая его об этом, она не очень настаивала, чтобы он объяснил, как и откуда они появились. Она удовлетворялась его полушутливыми недомолвками.
Разговор, который она случайно подслушала, Джонни вел с неким Макнамарой – провалившимся на выборах кандидатом от партии социалистов. Теперь он был личным секретарем у члена парламента – лейбориста. Из разговора Наоми стало ясно, что Макнамара передает ее мужу какую-то информацию, а тот в свою очередь передает ее еще кому-то. Затем они поровну делят деньги, которые им платят за эти услуги.
Я был поражен тем, как быстро подтвердилась моя почти фантастическая версия, и буквально онемел от удивления и неожиданности. Наоми, решив, что я потрясен поступком ее мужа, тут же поспешила добавить:
– Я не знаю, что это за информация, но я уверена, что он ничего не делает плохого. Сама мысль о том, что Джонни может… О, что мне делать, Клод? Он ничего не подозревает, а я не могу сказать ему…
Она умолкла, затем робко спросила:
– Вы не могли бы осторожно намекнуть ему?.. Я хочу сказать, намекнуть, что надо немедленно прекратить это… – Она снова умолкла. – О, я понимаю, вы не можете этого сделать.
– Разумеется, не могу.
– Но как, по-вашему, что он делает? Ведь Джонни не способен на что-то дурное!.. Вы ведь знаете, он так щепетилен…
– На вашем месте я бы забыл об этом, Наоми.
– Нет, я не могу забыть. Ведь я люблю Джонни. – Наоми в эту минуту, должно быть, казалась себе романтическим воплощением Жанны д’Арк. – Мысль о том, что с ним может случиться что-то плохое, приводит меня в ужас, и кроме того… Нет, вы не должны считать меня ханжой, Клод, но я ненавижу ложь и нечестность, даже в мелочах. Я не выношу, когда не возвращают мелкие долги, или хотят проехать на автобусе без билета, или выудить чужую монету из автомата… – Она попыталась засмеяться. – Очевидно, я сказала глупость… особенно об автомате… – Она снова умолкла. – Да, я понимаю, вы не можете сказать ему. Только не говорите мне, Клод, что я должна все забыть. Не такой совет мне сейчас нужен.
– Вы сами знаете, что вам надо делать, Наоми.
– Нет, не знаю.
– Знаете. Самое лучшее – это сказать ему все и потребовать объяснения.
– Я не могу. – Она сцепила зубы и сжала руки на коленях так сильно, что обозначились побелевшие суставы.
– Почему не можете? Я не верю, что у вас не хватит мужества. Вы всегда были сильнее его. Он слаб и податлив, как трава, Наоми, и от этого вы никуда не уйдете.
– Я не могу сказать ему, – ответила она, – ведь если он узнает, что я ему не верю, то сам потеряет веру в себя. А ведь это то, что я ему дала. Ему необходимо верить в себя больше, чем кому-либо другому. Я не имею права отнять у него эту веру.
– Хорошо, – сказал я, – тогда забудьте обо всем.
Она поднялась в полном отчаянии, собираясь уйти, и дошла уже до двери, когда я наконец решился.
– Наоми, я знаю, чем занимается Джон. Не спрашивайте, как я об этом узнал, но я знаю. Он продает секретную информацию прессе, и если все станет известно, это грозит ему тюрьмой.
Лицо Наоми стало серым; я испугался, что она потеряет сознание.
– Поэтому вы должны немедленно сказать ему все и, добавьте, что я тоже об этом знаю. Скажите, что, если он не прекратит это, я сообщу его начальнику и начальнику этого, как его – Макнамары, тоже. Сделаю я это или нет – не так уж важно. Только постарайтесь внушить ему, что я обязательно это сделаю.
– Но разве вы… – прошептала она еле слышно, – разве вы хотите быть замешанным в этом?..
– Мне так часто приходилось бывать замешанным в делах Филда, что одним случаем больше или меньше, не имеет уже значения. Делайте так, как я вам сказал.
– Может, мне действительно лучше обо всем забыть, – панически заметалась Наоми.
– Теперь это уже невозможно, – сказал я, и она покорно поддалась на этот шантаж.
В пять, часов Джонни Филд был уже у меня; по-мальчишески смущенный и пристыженный, он выглядел почти трогательно. В своих объяснениях он был предельно краток.
– Наоми мне все рассказала об этой… кх-м… истории. В ней замешан не я один, поэтому я не буду все тебе объяснять. Ты должен поверить мне, все не так ужасно, как кажется на первый взгляд. Речь идет об общеизвестных фактах, ничего секретного и, разумеется, никаких нечестных сделок…
– Однако тебе за это неплохо платят.
Джонни помрачнел. Он глотнул воздух, словно человек, который задохнулся от незаслуженного оскорбления. Но тут же поспешил заверить меня:
– Все уже кончено, даю честное слово, Клод. Я не подозревал, что на это можно посмотреть как-то иначе, пока Нао не передала мне твое мнение. Послушай, это может показаться тебе смешным, но я чертовски тебе благодарен. Ты помог мне во всем разобраться. Кажется, это не в первый раз, но, клянусь тебе, в последний. Ты можешь забыть этот случай, как забыл все остальное? Ради Наоми, если не ради меня?..
– Можешь быть уверен, что если я сделаю это, то уж, во всяком случае, не ради тебя, – ответил я.
Приняв это как согласие на примирение, он энергично тряхнул мне руку, с силой хлопнул по плечу и ушел, прежде чем я успел что-либо сказать или возразить.
Наоми пришла поблагодарить меня.
– Вы не представляете, насколько мне теперь спокойней. И ему стало легче, поверьте мне. Его так легко обмануть, втянуть в любую неприятность, и он так благодарен, когда ему помогают выпутаться.
– Теперь, я думаю, нам лучше поскорее забыть об этом и никогда не вспоминать, – сказал я.
Она ответила мне благодарной улыбкой, и мы заговорили о чем-то другом.
Разбирая шкаф, я нашел сделанный пером портрет Сесиль Арчер. Его как-то набросал мой приятель Биркленд, теперь Бирк, известный карикатурист. Это был превосходный рисунок, легкий и изящный, как портрет Режан Бердслея [8]8
Портрет французской актрисы Габриэль Режан (1850–1920), выполненный известным английским графиком Бердслеем.
[Закрыть]. Теперь, когда я снова мог смотреть без боли в сердце на фотографии и портреты Сесиль, я решил отдать рисунок наклеить на картон и окантовать. Он лежал у меня на столе, и Наоми его увидела.
– Можно мне взглянуть? – спросила она. Взяв рисунок в руки, она, не удержавшись, воскликнула: – Господи, ведь это Элен! Нет, нет, я ошиблась, не Элен. Но как похожа…
Удивленный, я взял из ее рук портрет Сесиль и внимательно вгляделся в него. Наоми была права. Пожалуй, труднее было бы найти женщин, менее похожих друг на друга по манере держаться, цвету лица, глаз и волос, чем Сесиль и Элен. И однако четкие и правильные черты, маленькая точеная головка, характерный изгиб губ делали их странно похожими.
– Это мой близкий друг, – объяснил я Наоми. – Ее уже нет в живых, она умерла. Да, они действительно похожи с Элен. Раньше я этого как-то не замечал. Это дочь сэра Даниэля Арчера.
– Неужели это Сесиль? – воскликнула Наоми, которая, по-видимому, слышала о ней, и с новым интересом посмотрела на портрет.
Мысль о том, что я и сейчас все еще ищу черты Сесиль в других женщинах, усилила беспокойное желание увидеть Элен и устранить все нелепые недоразумения между нами.
Весь вечер и следующее утро я опять обдумывал планы возвращения Элен, подробно разбирая то один, то другой, охваченный таким лихорадочным нетерпением, что готов был приняться за осуществление самого нелепого из них, как вдруг сама Элен разрешила мои сомнения.
Я был в галерее. Раздался телефонный звонок, просили Крендалла.
Я поинтересовался, кто говорит.
Решительный и незнакомый голос ответил:
– Миссис Эштон. Собственно, мне нужен мистер Пикеринг.
– Я у телефона.
Голос сразу изменился и стал прежним голосом Элен, чистым, мягким, несколько напряженным, пожалуй, даже более напряженным, чем обычно.
– О Клод, я вас не узнала.
– И я вас тоже.
– Это Элен, – зачем-то пояснила она.
Я спросил, как она поживает.
– Хорошо, Клод. Я позвонила, чтобы сказать… – Она на мгновение умолкла, а затем торопливо продолжала, – чтобы извиниться за все, что наговорила тогда о Чармиан. Это не мое дело, вы правы. Я очень сожалею. – Наступила долгая пауза. Я был так счастлив, что утратил способность говорить. И я торжествовал; мне стыдно признаться, но это было так.
– Ну вот и все, что я хотела вам сказать. До свидания.
– Подождите, – крикнул я, словно она была за сотни миль от меня, в каком-то другом мире. – Вернитесь, Элен!
– Я здесь.
– У Гвиччоли, в семь?
– Сегодня?
– Да.
– Я не смогу сегодня.
– Сможете, если захотите. Вы придете, да?
Она ответила почти шепотом, словно в комнату кто-то вошел и она не хотела, чтобы ее слышали:
– Я постараюсь. Хорошо, я приду. Только я, возможно, опоздаю.
Но, как всегда, она пришла раньше. Когда я подходил к ней, она встала и сделала несколько шагов мне навстречу. Лицо ее светилось радостью.
Мы ни словом не обмолвились о Чармиан, о нашей размолвке и о радости этой встречи, более теплой, чем все, что были до сих пор. Мы говорили о книгах, новых фильмах и о политике. Я рассказал ей о Филде, и она не поторопилась, как обычно, вынести свое категорическое суждение, а лишь посмеялась и сказала, что, пожалуй, не очень удивлена. Во время ужина мы не касались ничего, что могло больше всего нас интересовать; в этом не было необходимости. Наш разговор, о чем бы он ни шел, был лишь хрупкой завесой, за которой прятались невысказанные слова, волнующие и полные значения.
После ужина я, как обычно, спросил, куда бы она хотела пойти.
– Чудесный вечер, – сказала она, – давайте пройдемся… и помечтаем.
В полном молчании мы спустились по шелковистой траве парка к Темзе и смотрели на разноцветные огни, дробящиеся в воде, и золотисто-серебряную цепочку автобусов на мосту Ватерлоо.