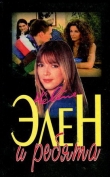Текст книги "Решающее лето"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
Я ощущал непонятный страх и восторг: страх открытия и радость оттого, что оно сделано.
Элен тоже, должно быть, испытывала нечто похожее, ибо вдруг торопливо, словно защищаясь от чего-то, стала подробно рассказывать мне о каких-то сложных интригах в министерстве, которые могут отразиться на положении Эйрли, а следовательно, и на ее положении тоже. Я не отвечал, ибо почти не слушал ее. Мы повернули к Стрэнду, через Сен-Мартин-лейн и Лестер-сквер вышли на Пиккадилли, вошли в темный в блестках фонарей Грин-парк и побрели прямо по траве.
– …И если до понедельника не состоится заседание и Эйрли не удастся переговорить с Картером, а Картер не согласится взять на себя часть ответственности за решение, принятое Конвеем, во всяком случае, ту часть, которая касается его, тогда вся эта история…
Она вдруг умолкла, словно то, что она говорила, внезапно потеряло всякий смысл. Мы остановились, почти изнемогая от усталости. Напряжение между нами звенело, как натянутая струна, которой коснулись пальцем. Я положил руку ей на плечо. Она повернулась ко мне. Мы словно вновь узнали друг друга.
Элен рассмеялась. Мы оба беспричинно смеялись, потом Элен сказала:
– Господи, мы прошли, должно быть, не меньше ста миль. Я падаю от усталости.
– Сейчас мы поймаем такси, – сказал я, и, бережно поддерживая друг друга, словно каждый шаг стоил нам усилий, мы вышли из парка на ярко освещенные улицы. Мы были пьяны от радости примирения, чувства новой близости, которая установилась между нами. Но мы не торопились заменить ее откровенной радостью высказанной любви.
Часть 2
Глава первая
Я знаю, что не смог передать словами всю прелесть обаяния Элен. Больше того, я был просто несправедлив к ней. Я создал образ самоуверенной, лишенной чувства юмора молодой особы с острыми чертами лица и не менее острым язычком. И тем не менее Элен была обаятельной женщиной, и известная доля ее обаяния заключалась именно в этих ярко выраженных недостатках: способности преувеличивать, бурно выражать симпатии и антипатии, в непримиримости и стремлении яростно отстаивать свое мнение, вплоть до ссоры и разрыва, лишь бы никто не посмел заподозрить ее в малодушии и трусости. Эти недостатки, несколько сглаженные нашей новой близостью, казались мне теперь загадкой, а порою вообще чем-то непостижимым. Уславливаясь о встрече, я никогда не знал, в каком настроении увижу Элен.
Помню, как однажды в начале мая она вошла в залитый серебристо-розовым светом зал ресторана Гвиччоли и, протянув мне руки, радостным и каким-то необычайно молодым и звонким голосом воскликнула, привлекая всеобщее внимание: «Не правда ли, когда мы встречаемся, это всегда какие-то необыкновенные вечера?» Вспоминаю также, как мы ссорились, негромко, но яростно – не помню уже по какому поводу, – и она, посмотрев на меня, вдруг серьезно сказала: «Мне кажется, нам надо немедленно прекратить это. Я хочу, чтобы сегодня мы расстались друзьями».
Я был влюблен в Элен и хотел на ней жениться; однако радостное чувство свободы удерживало меня от решительного шага. Я так наслаждался этим преддверием любви, что не спешил перешагнуть через порог. Элен тоже, казалось, упивалась сладостью дружбы, когда чувственная любовь спрятана в руке, как давно обещанный драгоценный подарок.
Мы виделись ежедневно, и я обрадовался, когда узнал, что моя поездка в Нью-Йорк откладывается до июня.
Однажды вечером Элен пригласила меня к себе. Мать Элен умерла, и теперь они с отцом жили в большой квартире на Бэйзуотер-роуд.
Стивену Коупленду, отцу Элен, было за семьдесят. Это был грузный, вялый человек, подверженный приступам ипохондрии.
– Никогда не говорите при нем о болезнях, – предупредила меня Элен, – не то он тут же обнаружит их у себя.
В мой первый визит он был одержим мыслью, что заболел ангиной Винсента, и тщательно следил за тем, чтобы мы не перепутали приборы за столом, не взяли бы его нож, вилку, тарелку или чашку.
– Я сам их вымою, Нэлл, – заявил он, – добавь только дезинфицирующего раствора в воду. Не мешает соблюдать осторожность. Ты не знаешь, где мое полоскание?
Он то и дело исчезал в ванной, где полоскал горло и разглядывал десны с помощью двух карманных зеркалец, взятых у Элен.
– Бедный папа, – сказала Элен. – никогда не жаловался на зубы, пока соседка не рассказала ему, как во время войны заболела ангиной Винсента. Теперь он будет мучиться, но ни за что не покажется врачу. Видите ли, врач может сказать, что он совершенно здоров, а тогда ему взбредет в голову, что если это не ангина, то что-нибудь еще хуже.
И она засмеялась грубоватым добродушным смехом, как смеются дети над причудами впавших в детство родителей. Она любила отца, но его капризы и странности, очевидно, были нелегким испытанием для нее.
Это был один из тех вечеров, когда нам почти не о чем было говорить. Мы вели какую-то тягостную беседу, прерываемую булькающими звуками, которые доносились из ванной, где отец Элен полоскал горло. Он даже не потрудился закрыть дверь ванной, чтобы мы, не дай бог, не забыли, как он, бедняжка, мучается.
Элен включила радио. Передавали танцевальную музыку.
– Вам не мешает? – спросила она.
– Нет, я люблю, когда где-то далеко играет музыка. Вы слышите эту мелодию?
– Да. Что это?
– Не знаю, но она всегда напоминает мне о вас.
– Почему? – засмеялась она. – Не потому ли, что она такая монотонная?
– Разве вы не помните, где мы впервые услышали ее?
– Нет.
– Однажды вечером, в ресторане Гвиччоли. Уличный музыкант играл под окном.
Она задумалась на секунду, но потом отрицательно покачала головой.
– Нет, не помню. Да и уличного музыканта что-то не помню.
И обаяние мелодии вдруг исчезло. Могло ли быть иначе? Ведь она ровным счетом ничего не значила для Элен. В одно мгновение ее прелесть угасла и для меня.
Комната Элен мне понравилась и явилась даже в известной степени неожиданностью. Я представлял себе, что Элен и аккуратность – вещи совершенно неотделимые. В действительности же мне очень скоро пришлось убедиться, что она была ужасно беспорядочным человеком и аккуратность ее проявлялась только там, где это касалось ее работы и внешности. Как выяснилось, она любила яркие цвета и вместе с тем никогда не носила платья ярких тонов. Однако стены ее комнаты были выкрашены в ярко-желтый цвет, занавеси на окнах были желтые в черных узорах, ковер ярко-синий. На каминной доске, кресле, тумбочке для радиоприемника – всюду в беспорядке валялись книги, журналы. На стенах, приколотые булавками, висели дешевые репродукции – Элен явно не хватало художественного вкуса.
Однако это был какой-то милый и уютный беспорядок, и в свой второй визит к Элен я уже чувствовал себя здесь совсем как дома. В этот раз Стивена не было, и Элен держалась более непринужденно. Нас вдруг охватило непонятное смущение. Я старался подолгу не задерживаться взглядом на Элен, она тоже избегала смотреть на меня. Был чудесный тихий вечер. Цепочка фонарей убегала в сумерки, словно в спокойную синюю даль моря. Детишки, которым давно уже пора было спать, громко кричали за окном, и их высокие звонкие голоса доносились до нас, будто далекое эхо курантов; где-то на соседней улице играла шарманка, и сквозь уличный шум до нас долетали обрывки грустной мелодии.
– Элен, расскажите мне о вашем муже, – попросил я.
Мы не зажигали электричества, и в квадрате окна я видел ее темный силуэт.
– Рассказывать нечего.
– Хорошо, тогда не рассказывайте.
– Не будьте идиотом. Я не то хотела сказать. Просто действительно нечего. Не прошло и месяца, как я уже разлюбила его. Он находился в это время в Линкольншире, я жила поблизости. Мы так поспешно поженились, что потом, одумавшись, я горько пожалела об этом.
– В чем же была его вина?
– Ни в чем! – яростно воскликнула она.
Она замолчала. Шарманка, доиграв мелодию, умолкла.
– Ни в чем, – повторила она уже спокойно. – Во всем была виновата одна я. Понимаете, он был необычайно красив, непостоянен и остроумен. А я решила, что красота, непостоянство и остроумие – это именно то, что мне нужно.
– Что же, в самих этих качествах нет ничего дурного.
– Согласна. Только он умудрялся оставаться таким даже наедине со мной. Он вел себя со мной так, как вел бы себя в кабачке с первой встречной. Он всегда оставался случайным знакомым. Он ухаживал поголовно за всеми женщинами, на глазах у всех, открыто и не стесняясь, и так же вел себя со мной, когда мы оставались одни. Разница была лишь в том, что он еще и спал со мной. Между нами не было искренности, не было ничего нашего… сокровенного… Я не знаю, как это вам объяснить… Словом, у нас не было ничего, что было бы известно только нам двоим. И от меня он требовал, чтобы дома я вела себя с ним так же, как в кафе или в баре. Более веселую и бесшабашную особу, чем я в то время, трудно было сыскать. Я старалась быть такой, какой он меня хотел видеть. А потом вдруг поняла, что не выдержу. – Огни проходящего автобуса упали на лицо Элен. Оно показалось мне постаревшим от горечи и самоосуждения.
– Однажды мы были в баре – Эрик, я и наши друзья; все немного выпили. Посторонних было всего несколько человек, Эрик ухаживал за всеми женщинами сразу – легко, бесстыдно и бездумно, как только он один умел это делать. Рядом со мной сидела девушка из войск противовоздушной обороны, голубоглазая, с желтыми кудряшками. Она сказала: «Я могу сразу сказать, кто здесь с кем. А вот об этом – не могу. Раз он такой ничейный и свободный, я решила – пусть будет мой». Тогда я сказала ей: «Если уж на то пошло, то это мой муж». – «Подумайте, вот уж никогда бы не сказала», – ответила она простодушно. На той же неделе Эрик получил назначение.
– Ну хорошо. А что же все-таки послужило причиной окончательного разрыва?
– Собственно, разрыва не было. Мы часто ссорились, вернее, я кричала, а он слушал и улыбался. Он требовал, чтобы я всегда была веселой. И лишь однажды вышел из себя. Мы ждали гостей, а у меня вдруг разыгралась мигрень. Он сказал мне: «Черт побери, прими таблетку аспирина и забудь о своей дурацкой головной боли». Он не выносил, когда у меня было плохое настроение.
Она закурила и бросила мне сигарету.
– Когда я попросила у него развод, он только рассмеялся. Но я продолжала настаивать. Наши отношения окончательно испортились, однако для всех мы продолжали оставаться дружной, веселой и остроумной супружеской парой. Накануне своего последнего вылета вечером он вдруг сказал: «Господи, какой же ты будешь унылой вдовой. Слава богу, я не увижу тебя в этой роли». А я, я ему ответила…
Она говорила громко и словно заново переживала эту сцену, которая казалась такой банальной, когда ее пересказывали, но для нее была полна мучительных воспоминаний.
– …я ему ответила: «Тогда мне по крайней мере никто не запретит головные боли».
Она внезапно встала и выключила свет.
– Зачем вы об этом думаете? Почему так любите сгущать краски и преувеличивать?
Она задохнулась от удивления.
– Что преувеличивать?
– Все. Особенно свою вину. Что это за глупость вы мне как-то сказали, будто Эрик сам искал смерти? Это все вздор. Я не верю, чтобы он вас так любил.
– Не верите? – На мгновение в ее голосе послышалось огромное облегчение. Но лишь на мгновение. – Но это так! Я не имела права не любить его. Ни одна женщина не имела права так вести себя в то время.
– Не говорите чепухи! При чем здесь право? Есть вещи, которые сильнее нас.
– Нет, – воскликнула она тихо и убежденно, – нет, неправда. Даже такое чувство, как любовь, поддается контролю. Я знаю. Это известно немногим, но я знаю. – Она остановилась у камина, опершись локтем на каминную доску и поставив ногу на решетку. Ее хрупкая фигурка казалась четким, тонким рисунком. – Это было мне уроком.
Я посмотрел на нее, и наши глаза встретились. Она была на грани слез.
– У вас способность из всего делать трагедию, – сказал я. – Вы не умеете рассуждать здраво. Смерть Эрика простая случайность. Если бы он остался в живых, вы продолжали бы ссориться, пока ему самому все это не надоело бы, и тогда вы бы преспокойно развелись.
– Нет, – ответила она и провела пальцами по туго стянутым волосам. Руки ее дрожали.
Чтобы успокоить ее, я начал расспрашивать ее о муже – кем он был до войны, о его планах на будущее. Она отвечала почти механически, а затем сказала:
– Эрик и я, мы были люди разных политических взглядов. И это тоже было одной из причин… Он был на стороне франкистской Испании во время гражданской войны и даже сражался там. Я узнала это лишь потом, когда мы поженились.
– Итак, совершенно ясно, что между вами мало было общего, не правда ли? Зачем же так терзать себя?
Она внезапно вся напряглась и повернулась так резко и неожиданно, что я даже привстал.
– Я уже говорила вам, что просто ненавижу эту вашу черту!
– Черт побери, какую?
– То, как вы умеете лишать меня всякой уверенности! Что вы рассказали мне о себе? Что я о вас знаю?
– Никто не заставляет вас отвечать на мои вопросы, если вам это неприятно, – сказал я, думая, как бы вывести ее из этого опасного состояния.
Она воскликнула с гневным пренебрежением:
– Вы-то прекрасно знаете, что я буду отвечать на все ваши вопросы. Вы знаете, что я хочу вам все рассказать. Почему же вы сами не откровенны? Какая эта дружба, если вы все время отмалчиваетесь? Почему вы так невеликодушны?
– Хорошо, – сказал я. – Я расскажу вам все, только не сегодня, во всяком случае не сейчас, когда вы так разъярены. Когда вы в таком состоянии, я едва ли смогу быть с вами откровенным.
Послышался шум отпираемой двери. Это был отец Элен. Он вошел, не заметив нашей ссоры.
– Здравствуйте, ночные совы! – с шутливой бесцеремонностью сказал он. Было всего лишь без четверти десять.
– Да, да, – воскликнула Элен с деланным оживлением, – уже поздно. – И она решительно подтолкнула меня к двери.
Она была настолько непреклонна в своем намерений выпроводить меня, что я решил отомстить ей и поцеловал, поцеловал впервые за все время – в лоб. Я знал, что этот отеческий поцелуй приведет ее в бешенство, и не ошибся. Она целую неделю отказывалась видеть меня.
Наступило редкой прелести лето. Я считал его даром богов, летом из древнегреческой мифологии. Как зачарованный следил я за плывущими облаками, которые внезапно сменялись то серыми и черными тучами, сулящими гром и дождь, то снова ослепительно чистой голубизной умытого неба. Так и казалось, что с него вот-вот спустится кудрявое румяное божество в белоснежных одеждах; тугие завитки его волос, ногти рук и босых ног и огромный сноп пшеницы в руках будут сверкать, заново выкрашенные золотой краской. Излучая сияние, бог коснется земли – и она покроется цветами, пышными, как кроны деревьев, а деревья станут сказочными замками.
Я нарисовал эту картину Суэйну, но он, разумеется, только высмеял меня. Лично ему мое божество представлялось в виде толстого, обрюзгшего буржуа, бесцеремонно отстегивающего воротничок сорочки где-нибудь на набережной в Маргейте [9]9
Приморский курорт в Англии.
[Закрыть].
– Пшеничный сноп? Что за блажь? Ручаюсь, что ты не узнал бы самого господа бога, даже если бы столкнулся с ним нос к носу. В наше время бог ходит в брюках. Чем я не бог, когда счастлив и доволен?
В это лето я был так счастлив, что даже стыдился этого. Я не выполнил своего обещания и не поговорил с Шолто, хотя Чармиан сказала, что ничего не изменилось. Я, пожалуй, совсем забыл бы о нем, как забывают о потерянном ключе или монете, если бы не увидел его однажды в одном из наихудших его состояний.
Чармиан устроила обед и пригласила меня, Эдгара и Джейн Кроссмен и Айвса Элвордена с женой.
Эдгар не пришел, – он вывихнул ногу и вынужден был лежать.
– Воображает себя молодым, – возмущалась Джейн, – по лестнице – только бегом, вот и допрыгался. «Для кого ты стараешься? – спрашиваю я его. – Кто на тебя смотрит?» Но ведь он обязательно должен порисоваться. – В ее глазах запрыгали лукавые бесенята. Она была по-прежнему красива, золотистую башню волос украшала голубая бархатная лента, нелепая и очаровательная. – Клод! – взвизгнув от удовольствия, повернулась она ко мне – Что я вижу, компот из ананасов?
– Посылка из Америки, – пояснил я. Это действительно была посылка от Хэтти.
– Ах ты негодник, негодник! – Она подцепила ломтик ананаса и, попробовав его, закатила глаза от удовольствия. – Прелесть! Хочешь попробовать, Мэри?
– О да, пожалуйста, – ответила жена Айвса. Она знала всего несколько слов по-английски. Айвс не знал ни китайского, ни другого восточного языка, и я удивлялся, как они умудряются объясняться. Мэри было двадцать два года: золотисто-смуглое, тонко очерченное скуластое личико, черные глаза, маленький нежный рот.
– Клод и рис получил тоже, – таинственным шепотом сообщила Чармиан, – и дал мне целый фунт.
– Он не только это тебе дал, – заметила миссис Шолто, восстанавливая справедливость. – Он дал тебе еще и шоколад, изюм, масло и муку для кекса.
– О, шоколад! – прошептала Мэри, закрыв глаза от удовольствия.
– Я дам вам немного, – пообещала Чармиан. – Напомни мне перед уходом, Айвс, чтобы я не забыла.
– Ужасно мило с твоей стороны, но как же твоя малышка? – спросил он, изобразив легкое смущение.
– Ей еще нельзя есть шоколад.
– А мне? – обиженно протянула Джейн. – Неужели мне ты не дашь ни кусочка? О, это несправедливо!
– Ты и так слишком толста, – пошутила Чармиан. Джейн обиженно хихикнула.
Эван появился перед самым обедом. Лицо у него было багрово-красное, но он был настроен добродушно и держался вполне корректно. Вместе с нами он выпил стакан австралийского хереса и отказался от пива. Однако за те полчаса, что мы сидели за столом, он не произнес ни слова, сидел как-то неудобно, боком и равнодушно ковырял вилкой в тарелке. Потом вдруг неожиданно громко сказал:
– Чарм, не будь сукой.
Чармиан сделала вид, будто не слышит. Джейн вскинула на него испуганные глаза, Айвс покраснел, а Мэри, ничего не поняв, встревоженно посмотрела на мужа.
– Я помню, – сказала миссис Шолто своим звонким переливчатым голоском, – как любил ананасы мой отец. Разумеется, свежие ананасы. Помню, как он приносил их домой, огромные, перевязанные лентой. Это был целый ритуал, когда он разрезал ананас серебряным ножом. Только серебряным.
– Чарм, – еще громче произнес Эван, – не будь сукой.
– Ну как ты можешь? Она совсем не… – запротестовала Джейн, повернувшись к нему с широкой улыбкой. – Уж я-то знаю, поверь мне, женщине.
– Ну хорошо, хорошо, – тихо увещевала его Чармиан.
– Я не понимаю, – продолжала миссис Шолто, делая явное усилие над собой, – почему серебряным? Может, кто-нибудь знает почему? Я уверена, что Клод знает.
– Как вкусно, – промолвила Мэри, слизывая липкий сок с пальцев.
– Тебе нравится, детка? – спросил Айвс, нежно заглядывая ей в глаза.
Разговор о серебряных ножах и ананасах кое-как поддерживали все, пока не закончился обед и со стола не была убрана посуда. Тогда Чармиан извинилась и ушла посмотреть на Лору. Я вышел вслед за нею в спальню. Она стояла на коленях возле кроватки Лоры, прижавшись лицом к щеке ребенка. В спальне горела небольшая лампа под высоким белым абажуром. Пахло жженым парафином.
– Что с тобой?
– Ничего. Пожалуйста, уйди. Я сейчас приду. Когда он такой, я прихожу сюда, чтобы набраться сил. Пожалуйста, уйди.
– Но, послушай…
– Я сказала тебе, уходи. У него сегодня новое словечко, это всегда так ужасно, пока не привыкнешь.
Я вернулся к гостям. Беседа стала более оживленной. Айвс рассказывал о голландской колониальной системе. Мэри одобрительно кивала головой после каждой его фразы. Джейн делала вид, будто слушает, а миссис Шолто время от времени высказывала свое принципиальное несогласие. Шолто сидел в одиночестве подле письменного стола и что-то чертил на листке бумаги.
Наконец вошла Чармиан, неся поднос с кофе, и весело воскликнула:
– Извините, что так долго! Подвиньте мне этот столик, мама. Мне удобнее будет разливать. Тебе черный или с молоком, Джейн?
– С молоком, – ответила Джейн, – хотя я и толстая. – Она поняла, что неудачно съязвила, и тут же поспешила исправить свою оплошность: – Я очень люблю твой кофе, Чарм, ты так вкусно его готовишь. У меня получается много осадка, как бы я ни старалась, и Эдгар злится.
– Не будь сукой, Чарм, – вдруг снова произнес Шолто.
– Хороший кофе надо уметь варить, – в полном отчаянии воскликнула миссис Шолто. – Хочешь кофе, дорогой? – Она схватила чашку, предназначавшуюся для Мэри, и засеменила через комнату к сыну, перехватив взгляд его налитых кровью глаз.
– Как Элен? – спросила меня Чармиан. Нас всех охватило чувство странной легкости, словно мы могли сейчас, как эквилибристы, выделывать любые фигуры на натянутой проволоке.
– Хорошо. Она часто спрашивает о тебе.
– Ты должен как-нибудь привести ее к нам. Почему ты этого до сих пор не сделал?
– О, вы говорите об Элен Эштон! Ты мне рассказывала о ней, Чармиан, – воскликнула Джейн. – Эдгар знает ее начальника, Чарльза Эйрли. Я нахожу его просто обворожительным. Очень высокий, несколько полноват, пользуется невероятным успехом у женщин. Когда ты рассказала мне об Элен, мне показалось, что я что-то слышала о ней, но что именно – не помню.
– Да, это она, – ответил я.
– Пусть она навестит меня, – сказала Чармиан, передавая мне чашку. – О, какой ты неловкий. Все расплескал на блюдце.
– Ничего, если я вылью обратно в чашку?
– Ах ты, свинтус, свинтус, – пожурила меня Джейн, – как ты плохо воспитан! Я тоже хочу познакомиться с Элен. Это что, – она сделала многозначительную паузу, – серьезно?
– Кто знает! – ответила Чармиан, – Клод ужасно скрытен. Иногда его скрытность меня просто бесит.
– Не будь сукой, Чарм, – опять очень громко сказал Эван. Он встал и глядел на нее в упор.
Чармиан, выдержав его взгляд, спокойно сказала:
– Успокойся, милый. Все хорошо.
Джейн поднялась и с видом опытной укротительницы, собирающейся приручить свирепого зверя, которого не удалось усмирить другим, решительно направилась в тот угол комнаты, где стоял Эван.
– Эван, дорогой, ты не должен вмешиваться в разговор женщин. Разве ты не знаешь, что мы кусаемся?..
– Джейн… – произнесла Чармиан, но так тихо, что Джейн не услышала ее.
– Все вы, женщины, суки, – сказал Эван.
– Он ужасно устает, – обращаясь ко мне, драматическим шепотом произнесла миссис Шолто. – Ему нужен отдых. Врач так считает, я знаю.
– Конечно, конечно, милый, – успокаивала Эвана Джейн. – Все женщины такие. А теперь выпей кофе и побеседуй с Айвсом о политике. Ему не терпится поспорить с кем-нибудь.
– Ты красотка, Джейн, – заявил он, и та, желтая, тоже ничего. А кто она?
Айвс, взбешенный, вскочил со стула. Мэри бросила испуганный взгляд на мужа.
– Эван! – промолвила Чармиан. – Джейн! – У нее был голос усталой, немолодой, много изведавшей на своем веку женщины. – Эван, тебе надо лечь в постель. Джейн, я хочу показать тебе свое новое платье. Оно не совсем хорошо сидит, ты должна посмотреть. Мама, проводите Эвана в спальню.
Эван встал, пролив кофе на письменный стол, и, не промолвив ни слова, вышел из комнаты. Воцарилось неловкое молчание. Миссис Шолто выбежала за сыном.
Остаток вечера можно было бы назвать почти удачным, если бы он не был столь коротким. Как только позволили приличия, Айвс увел жену. Джейн чуть задержалась, чтобы извиниться за брата. Она сделала это с наилучшими намерениями, но, как всегда, на удивление неловко.
– Понимаете, он считает, что Мэри нанесено оскорбление. Это идиотизм, конечно, и я ему объясню, но так уж он устроен. Он всегда был глуп. Он сам потом будет жалеть, когда узнает, как огорчил вас.
– О, меня теперь не так-то легко огорчить, – напряженно улыбаясь, сказала Чармиан, – поэтому не расстраивайся, Джейн, и ничего не говори Айвсу. Ему в особенности ничего не надо говорить.
Когда мы остались одни, она повернулась ко мне и сказала:
– Ну, что ты на это скажешь?
– Чудовищно. Я должен поговорить с ним.
– Сомневаюсь, чтобы это помогло. Тебе было стыдно за меня, да? Больше всего меня бесит сочувствие людей и то, что им, видишь ли, стыдно за меня. А мне вот ни капельки не стыдно, понимаешь?
– Тебе и нечего стыдиться.
– Если бы я хотела сохранить видимость семейного счастья, тогда другое дело. Но ведь я не собираюсь делать этого.
Вернулась миссис Шолто, задыхающаяся и решительная, с плотно сжатыми губами.
– Чармиан, – сказала она, – ты не должна думать то, что, я уверена, ты подумала об Эване… что будто… будто он не совсем трезв.
– Что же с ним в таком случае? – спросила Чармиан с пугающей вежливостью.
– Он нездоров. У него острое пищевое отравление… – Старая леди вся дрожала. Крепко стиснутые руки были иссиня-бледные, как снятое молоко.
– Мама, Эван мертвецки пьян, и вы это отлично знаете. Он возвращается пьяным каждый вечер, и вас это тревожит не меньше, чем меня. Не лучше ли, если мы будем смотреть правде в глаза?
– Он обедал с мистером Паркером. Они заказали эскалопы, и Эван сразу же почувствовал себя худо. Он мучился весь день, ты просто не понимаешь, как ему плохо.
– Его вырвало, вы это хотите сказать? – спросила Чармиан с равнодушием ветеринара.
– О, как ты зла, Чармиан! – воскликнула старая леди, и слезы заблестели у нее на глазах – Ты не должна так говорить о нем. Он твой муж, и он болен. Ему нужна врачебная помощь.
– Сомневаюсь, чтобы Эван согласился показаться в таком виде врачу, – вмешался я.
– Он очень не любит их, это верно. Всегда не любил. Но если бы вам удалось уговорить его.
– Я не собираюсь говорить с ним сегодня, – категорически заявила Чармиан и, собрав грязные чашки, ушла в кухню.
Миссис Шолто посмотрела на меня. В глазах ее были настороженность и вопрос. Она хотела знать, может ли она и дальше играть эту комедию.
– Вам ведь тоже не очень хочется вызывать врача? – сказал я – Вы прекрасно знаете, что он скажет.
Она бессильно упала на стул.
– Это она виновата. Она сделала его несчастным.
– Тогда почему он не дает ей развод?
– Нет! – сказала она – Нет и нет. В нашей семье такого не бывало. Они венчались в церкви, они должны снова научиться быть счастливыми.
– Они никогда не будут счастливы, – сказал я.
– Вы хотите сказать, что она даже не попытается? Вы это хотите сказать? Она нарочно делает его несчастным, поэтому он, поэтому он…
– Пьет, – помог я ей.
Я мог бы сказать ей сейчас все, что думал о ней и ее сыне, о том, почему они ни за что не согласятся выпустить из своих рук Чармиан, но у меня не хватило смелости. Мы не подозреваем насколько мы трусливее, чем сами думаем. Наша способность действовать порой почти равна нулю. Обличение в духе третьего акта драмы столь же претит нам, как и дешевые остроты. Мы только думаем, что способны на это. Не видя миссис Шолто, я думал о ней как о паразитирующей, злобной старухе. Когда же видел ее, то невольно испытывал жалость и трусливо пасовал перед старостью при виде этого дряблого подбородка, резких складок у рта, хрупких, почти бескровных рук. Сама правда отступила бы перед подобной беззащитностью.
– Вы должны остановить его, – сказал я.
– Я никогда не могла остановить его, он всегда делал что хотел. Это вы должны заставить Чармиан вести себя иначе. – И слезы бессильного гнева брызнули из ее глаз. – Она очень, очень злая.
Я понял, что спорить бесполезно, и отправился искать Чармиан. Она снова сидела у кроватки Лоры, еле различимая в полумраке спальни. Она сменила платье на длинный красный халат, и ее черные волосы струились по плечам, как темная вода. Редкие блики света падали на алые складки халата и золотую цепь, которую Чармиан забыла снять, на темные с каштановым отливом волосы, и это напомнило мне полотна Гонтхорста или Сурбарана. Мне вдруг показалось, что Чармиан получает известное удовольствие от драматизма обстановки.
– Я думаю о Хелене, – прошептала она. – Как бы поступила она?
– Ушла бы, вот и все.
– Нет. Что сделала бы она, если бы не могла уйти?
– Все равно ушла бы.
– Не говори так громко, разбудишь Лору. Клод, тебе не следует начинать этот разговор с Эваном.
– Почему?
– Сначала я сама с ним поговорю. Если не поможет, тогда я, может быть, попрошу тебя. – Она минуту-две молчала. Запах парафина показался мне слишком сильным, и я прикрутил фитиль лампы. Громко тикали часы, отсекая время, как удары топора.
– Она все еще продолжает утверждать, что Эван отравился?
– Нет.
Слава богу. Бедная старуха. Теперь она уберет за ним, чтобы Агнес завтра утром, не дай бог, не увидела.
Чармиан устало поднялась, тяжело опираясь на кроватку Лоры. Она потянулась, высоко вскинув руки.
– Лучше уж мне это сделать. Зачем обманывать себя? Ведь никуда не денешься, он мне все-таки муж.
– Что ты собираешься делать?
– Убрать за ним, – сказала она с гримасой отвращения.
– Не смей, слышишь! Лучше уж я. Я не брезглив.
Она запротестовала, но я отправил ее спать, а сам, совершенно подавленный всем случившимся, направился в ванную. Здесь уже было чисто, хотя отвратительный резкий запах еще не выветрился. Мокрый кафель блестел. В углу я обнаружил грязную тряпку, которую Эван забыл выбросить, и, взяв ее кончиками пальцев, вышел в кухню, чтобы бросить в топку.
Вошла миссис Шолто.
– Что вы делаете, Клод?
Я объяснил ей.
– Эван сам все убрал. – На ее щеках вспыхнули темные пятна. То, что Эван пьет, могло огорчать и сердить ее, но не казалось столь постыдным, как то, что в пьяном виде он мог быть грязным или отвратительным. Это было для нее мучительнее всего.
– И тем не менее – сказал я и, захватив чистую тряпку и дезинфицирующий раствор, опять ушел в ванную. Лишь после этого я зашел к Эвану. Он спал, улегшись прямо в одежде на кровать.
– Столько сейчас случаев пищевого отравления, – в отчаянии лепетала миссис Шолто, когда я собрался уходить. – Столько людей стали жертвами. Мне так неприятно, что вам пришлось этим заниматься. Благодарю вас, Клод.
– Если утром ему не станет лучше, пригласите доктора Стивенса, – сказал я.
– Эван еще так молод.
– Он достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за свои поступки.
– Вы, должно быть, считаете, что я не понимаю.
– Я знаю, что вы все понимаете, и мне вас жаль. Но…
– Вам жаль меня? – вдруг перебила она. И легкая ироническая усмешка мелькнула на ее губах.
– Да, жаль. Но жалости не станет, если вы не поможете Чармиан.
– Что я могу сделать?
– Уговорите Эвана дать ей развод.
– Нет, – сказала она твердо и совершенно спокойно, словно теперь все зависело только от нее. – Я никогда этого не сделаю.
И словно назойливого коммивояжера, она выставила меня на лестницу, закрыла за мною дверь и, как бы окончательно закрепляя свою победу, накинула цепочку.
Как всегда, когда невзгоды Чармиан особенно удручали меня, я искал утешения у Элен. Мы ужинали у Гвиччоли, и я наконец рассказал ей все о себе, Мэг и Сесиль.