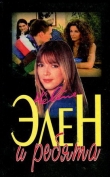Текст книги "Решающее лето"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Я начал прощаться.
– Когда мы снова увидимся? – спросил меня Филд.
Я выразил сомнение в том, что это удастся в ближайшее время: я буду занят.
– Ну что ж, если найдешь минутку, – сказал он, – черкни, я дам тебе адрес. – Он записал адрес и почти насильно сунул его мне в руку. – Не будем терять друг друга из виду, а? – просительно произнес он. – Конечно, если ты не против.
В его просьбе было столько искреннего простодушия и дружелюбия, что я почти готов был тут же условиться о новой встрече, но вовремя удержался. Я слишком хорошо знал Джонни Филда.
– Итак, – сказал он, когда мы вышли из кафе, – нам с Наоми надо еще успеть в театр, поэтому мы с вами прощаемся.
– Вам куда? – спросил я Элен.
– К Пиккадилли.
– Я провожу вас.
Какое-то время мы шли молча. Наконец я спросил, почему она не любит танцевальную музыку – она так демонстративно отказалась принять участие в общем разговоре.
– Что вы, я очень люблю танцевать, – сказала она без особого энтузиазма.
– И часто вам это удается?
– Теперь нет. Очень редко.
– Знаете, меня поразило замечание Наоми о том, как много значат для нас некоторые из довоенных мелодий. Мне кажется, что у меня почти каждое значительное событие связано с какой-нибудь песенкой, которая была популярна в то время. Хотя раньше она могла даже не нравиться мне.
– Я вас понимаю, – сказала Элен. У нее была какая-то особая, очень изящная походка – она делала маленькие шажки и ступала так осторожно, будто шла босиком по густой и высокой траве, где ее могли подстерегать всякие опасности. – У меня тоже так. Иногда до боли знакомая мелодия воскрешает в памяти то, что хотелось бы забыть. – Она взглянула на меня. Она чувствовала себя теперь гораздо свободнее, чем в обществе Филдов, и с готовностью поддержала разговор.
– Это верно, – согласился я, – и даже не потому, что она воскрешает неприятные воспоминания. Она может напоминать о вполне счастливых мгновениях, которые были слишком короткими.
– Не всегда. Иногда она самым непосредственным образом связана с откровенным поражением.
– Не представляю, чтобы вы могли в чем-либо потерпеть поражение, – сказал я просто так, чтобы вызвать ее на дальнейшую откровенность.
– Иногда бывало. – Она чуть-чуть ускорила шаг.
– Филд представил мне вас как миссис Эштон? Кажется, я не ослышался?
– Да. Мой муж погиб в сороковом году.
– Война?
– Он служил в авиации, – ответила она.
– Тогда очень многое должно вам об этом напоминать, – сказал я с неожиданным чувством неловкости.
– Да.
– Простите.
– Это было очень давно, – ответила она и поспешила переменить тему разговора. – Ваша галерея открылась в среду, не так ли?
Мы поговорили о галерее, о Крендалле, я поделился сомнениями относительно того, стоит ли мне становиться его компаньоном. Так мы дошли до станции метрополитена у Грин-парка. Здесь мы распрощались, и она ушла.
Меня заинтересовала Элен Эштон, ее нервная ирония, резкость суждений, беспощадность к себе и несомненное одиночество. Она относилась к числу тех женщин, которым с годами становится все труднее быть откровенными, но которые продолжают неизменно испытывать жгучую потребность в этом. Поэтому Элен прибегала к хитростям и уловкам и сама создавала ситуации, при которых ее вынуждали бы к откровенности. Ее замечание о «до боли знакомых» мелодиях явно противоречило ее поведению в кафе во время моего разговора с Наоми. Оно было столь же неожиданным и странным, как если бы министр финансов, прервав свой официальный доклад о бюджете, пустился в воспоминания о первой юношеской любви. Элен столь же необъяснимо, прямолинейно и не очень искусно придала нашей вежливо-банальной беседе откровенный характер, а ведь ее никак нельзя было упрекнуть в том, что она лишена такта. Просто ей необходимо было рассказать о себе, о своем прошлом, и она сделала это, как могла.
За все время я лишь трижды видел улыбку на ее губах, но это была неожиданно искренняя и щедрая улыбка, идущая откуда-то изнутри, будто Элен тихонько и незлобиво подтрунивала над собой. Я подумал о ее муже; когда он погиб, ей было не более двадцати двух. Какой была она в свои двадцать два года, прежде чем окончательно сформировалась в ту Элен, которую я знаю теперь? Когда надела на себя эту личину строгости? Какую прическу носила тогда? Какие из мелодий, которые мы с Наоми и Джоном припоминали, пробудили в ней горькие воспоминания о любви и поражениях?
Я долго думал о ней в тот вечер, а затем необъяснимо легко забыл.
Утром я получил письмо от Хэтти Чандлер. Оно было на четырех страницах. Мне казалось, ее письмо должно обрадовать меня. В действительности же я обрадовался ему не более, чем обрадовался бы, скажем, письму Крендалла. Письмо было живое, остроумное, написано в шутливо-дружеском тоне, однако с прозаической припиской. В ней-то и заключалось то главное, что она хотела сказать:
«Я не забыла о посылке, а вы не забывайте об обещанном обеде. Не забудете? Только посмейте!»
Мой ответ был вежливым и осторожным. Я мог припомнить, как была одета Хэтти Чандлер, помнил даже цвет ее волос, но я решительно не помнил ее лица.
Элен Эштон снова завладела моими мыслями, когда я неожиданно увидел ее во сне. Этот сон мог означать и все что угодно, и ровным счетом ничего. Он снова заставил меня думать об Элен. Почти все утро я представлял себе, как она вдруг появляется в галерее (мог же в ней, например, неожиданно пробудиться интерес к искусству), и настолько увлекся этим, что почти уверовал, будто так оно и будет. Ощущение того, что она живет со мной в одном мире, в одной стране, в одном городе было настолько острым, что я не мог себе представить, что она не испытывает сейчас того же. Не может быть, чтобы и ей не хотелось меня видеть.
Крендалл, получивший предложение от комиссионера с Кондуит-стрит продать картину Бонингтона, злился, что я совершенно безучастен к решению такого важного для него вопроса.
– Да перестань ты витать в облаках и скажи мне наконец, что ты думаешь об этом предложении! Ведь я могу получить раз в восемь больше того, что заплатил за нее. (Он всегда безбожно преувеличивал, ибо был не в ладах с арифметикой, но неизменно гордился результатами своих подсчетов.) С другой стороны, мне, возможно, никогда уже не купить такой картины. Она мне чертовски нравится, а я суеверен. Может, она принесет счастье. Как ты думаешь?
– Не знаю. Решай сам.
– Он требует, чтобы я дал ответ сегодня же. Как бы ты поступил на моем месте?
– Продал бы ее.
– Хорошо, – заявил Крендалл с самым решительным видом, – тогда я продаю. – Он спустился вниз и громко хлопнул дверью. Через пять минут он снова был в зале. – Нет, не могу. Подумай хорошенько. Ты уверен, что продал бы ее?
– Абсолютно уверен.
– Хотел бы я быть так уверен, как ты, – проворчал он и совсем убитый снова спустился вниз, а я стал с надеждой смотреть на дверь, веря, что сейчас придет Элен.
Но Элен, разумеется, не пришла. В этот день в галерее было довольно много посетителей, и Крендалл упустил покупателя, потому что никак не мог решить, продавать ли ему Бонингтона. Надо сказать, что мы оба в этот день: он – из-за своей глупой нерешительности, а я – погруженный в нелепые мечты и ожидания, – были никудышными дельцами.
К пяти часам я уже окончательно пришел в себя и смог наконец сказать Крендаллу, что если он хочет аккуратно выплачивать аренду за галерею – тысячу двести фунтов в год, – он должен немедленно позвонить на Кондуит-стрит и дать согласие на продажу картины. На это он ядовито заметил, что я вынуждаю его продавать Бонингтона, потому что из ослиного упрямства не желаю стать его компаньоном и дать ему какую-то жалкую тысячу фунтов для нашего общего дела. А кроме того, он терпеть не может, когда на него «нажимают». Так и не поняв, чего он от меня хочет, я ушел домой.
Всегда нелегко расставаться с мечтой. Она цепка, словно лишайник на камне. У меня не было никаких оснований думать, что я могу заинтересовать Элен Эштон – основанием мог послужить разве что мой собственный интерес к ней. Ну а можно ли это принимать всерьез?
Если бы головка Элен Эштон не выплыла во сне из темноты, в ожерелье из странных металлических пластин, на фоне черного бархата, словно голова манекена в витрине парикмахерской, ее образ, возможно, так же быстро стерся бы в моей памяти, как образ Хэтти Чандлер. Но во сне я ясно увидел лицо Элен – тонко очерченное, чистое и печальное, и мои руки почти ощутили нежную кожу ее щеки. Я убеждал себя, что друзья Филда не могут быть без изъянов, что где-то в ней прячется дурное, но тут же успокоил себя, подумав, что у славной и доброй Наоми могут быть хорошие друзья. Затем я подумал, что Элен наверняка обручена или по крайней мере влюблена в кого-нибудь. Но нежелание расставаться с мечтой тут же услужливо подсказало: она похожа на влюбленную.
Я попытался отыскать номер ее телефона в телефонной книге, но там его не было. Хорошо, подсказывал мне все тот же голос, а что мешает тебе позвонить ей в министерство? Послушай, не стоит делать глупостей! – тут же одернул я себя. Разыскивать приглянувшуюся тебе особу по телефонам министерства торговли – на что это похоже? Голос, смирившись, умолк, и я на время освободился от плена нелепой фантазии.
Но я пользовался свободой всего два дня, ибо, возвращаясь после ленча, на Хэймаркете нос к носу столкнулся с Элен. Она шумно приветствовала меня, словно старого друга, и улыбка, характерно изогнувшая полумесяцем ее тонкие губы, была вполне искренней. Однако не успели мы обменяться и несколькими словами, как Элен снова стала сухой и сдержанной. Я терялся в догадках, что тому причиной, и решил, что, должно быть, слишком откровенно выказал радость при встрече, и это шокировало ее. С каким-то непонятным злорадством я представил себе, насколько смешным показался я ей в эту минуту, и, когда наступила пауза, я не смог ее прервать.
– Мне пора, – сказала Элен. – Я опаздываю.
Я многое бы отдал, чтобы еще задержать ее, но тут же отверг все избитые фразы, которые пришли на ум.
– Я тоже, – только и смог выдавить я из себя.
– Возможно, мы еще увидимся у Филдов, – сказала она и, вежливо улыбнувшись, исчезла в толпе.
Меня охватило острое чувство разочарования, досады и раздражения на себя и на нее и жгучего стыда, когда я вспомнил свои недавние нелепые предположения и надежды. Возврат к реальности был беспощадным и жестоким, как пощечина, и настроение безнадежно испортилось.
Я вернулся в галерею в наихудшем расположении духа. Здесь, прохаживаясь по залу, ждал меня Эван Шолто.
– Приношу извинения, что не смог зайти раньше. То да се, сам знаешь. Совсем неплохо здесь у вас. Я, правда, не ждал чего-то грандиозного. Чей это «Крикет»? Суэйна? Я не заглядывал в каталог, хочу себя проверить.
Даже если бы он и заглянул в каталог, все равно ничего бы не увидел, ибо был сильно пьян, хотя и держался отлично.
– Да, – подтвердил я, – это Суэйн.
– В таком случае один – ноль в мою пользу. Я хочу хорошенько все осмотреть. Покажи мне все, что ты считаешь наиболее интересным. В моем распоряжении всего полчаса, поэтому упрости для меня, если можно, знакомство с экспозицией, а? – Он с явным удовольствием произнес это слово и сделал паузу, как бы вслушиваясь в его звучание.
Он шествовал впереди меня, неуклюжий и отяжелевший, слегка выпятив живот и широко ставя ноги, и добросовестно всматривался в картины. Он полюбовался Фредом Ульманом, кремово-кружевной Евой Кёрк, спросил, сколько стоит небольшое полотно Роберта Бюлера: мягкая размытая зелень лужаек и садовые деревья – мне и самому оно очень нравилось, – а затем, довольно ухмыляясь, остановился перед одной из уличных сценок Лоренса Лоури: школьники, играющие в «классики» на ярко-сером заиндевевшем тротуаре.
Я представил его Крендаллу, и тот, заметив, в каком Эван состоянии, решил, должно быть, что это самый подходящий случай что-нибудь продать. Желая помешать этому (платить в конечном итоге пришлось бы Чармиан), я шепнул Эвану, что мне надо с ним поговорить, и увел его вниз.
Присев на край стола и раскачиваясь взад и вперед, он вежливо спросил:
– Так что ты хотел мне сказать? – Он как бы милостиво отдавал себя в мое распоряжение. – У меня еще уйма времени, целых десять минут.
– Я просто хотел спасти тебя от Крендалла, чтобы он не вздумал что-нибудь всучить тебе. По крайней мере сейчас.
– Вот это дельцы! – воскликнул Эван, удивленно уставившись на меня. – Черт побери, да эдак вы очень скоро прогорите! А почему бы мне и не купить что-нибудь, а?
– Не мешает прежде подумать.
Он хитро посмотрел на меня.
– Я не так уж пьян, если ты это имеешь в виду, – сказал он. – У меня было важное свидание и все такое прочее. Право, я не пьян, Клод. Неужели ты считаешь, что я пьян? Какой ты все-таки ханжа. – И вдруг, напустив на себя нелепую таинственность, он добавил: – Ты знаешь, кого я встретил на другой же день после твоего визита к нам? Я как раз возвращался тогда от Паркера…
Ему, безусловно, очень хотелось заинтриговать меня и подольше подержать в неведении, но, увидев, что я не проявляю любопытства, он сник.
– Ну, ладно, так и быть, скажу. Джонни Филда, вот кого! – Затем добродушно и с видимым удовольствием он сообщил мне: – Ты знаешь, он, оказывается, неплохой парень, когда поближе его узнаешь. Все эти глупости – то, что моя мамаша наплела тогда про него и мадам Хелену, – чистейший вздор, я знаю. Я всегда был на твоей стороне, помнишь? – Он зачем-то сунул палец в чернильницу, тщательно вытер его белоснежным носовым платком и бросил платок в корзинку для бумаг. – Ух, измазался. Так вот, я не видел причины, почему бы мне с ним не поболтать. И знаешь, мы сразу понравились друг другу. Да, понравились, – с гордым удовлетворением повторил он. – Джонни спрашивал о тебе, и я сообщил ему об этой вашей галерее. Он сказал, что обязательно зайдет. Не знаю, был ли он, а? Жизнь коротка, не правда ли? Слишком коротка, чтобы помнить старые обиды.
Он слез со стола, с минуту постоял на носках, затем аккуратно и мягко опустился на всю ступню.
– Спасибо, друг, что показал мне галерею. Мама обязательно зайдет, как только сможет.
Он направился к двери и взялся за ручку, но, словно вспомнив что-то, снова вернулся.
– Она просила передать, что постарается зайти в четверг. Мама любит тебя, ты знаешь, – серьезно сказал он. – Несмотря ни на что.
Я смотрел, как он идет по пассажу, четко отбивая шаг, высоко вскинув голову и стараясь держаться поближе к стенам.
По лестнице быстро сбежал Крендалл.
– Какого дьявола ты вмешался? Он совсем готов был купить.
– Если я и продам что-нибудь этой семье, то только лично Чармиан и тогда, когда она сама того захочет.
Он посмотрел на меня, соображая.
– А, понятно. Ну разумеется. Только не понимаю, при чем тут твои личные дела? Ты же сам поучал меня и говорил, что, если я хочу аккуратно платить за аренду галереи…
– Кстати, как ты решил с Бонингтоном?
– Аминь! – глухо, как разбитый колокол, пробасил Крендалл. – Дал согласие, пока тебя не было. Теперь мне такой шедевр не заполучить никогда. Слушай, Клод, а твой зятек сильно под парами. С ним это часто случается?
– Что ты! – фальшиво возмутился я. – Первый раз вижу его таким.
Вошли трое, должно быть только чтобы укрыться от дождя, ибо они бесцельно бродили по залу, целиком поглощенные своим разговором, и едва смотрели на картины.
Я был подавлен и полон безразличия. Этот зал, окна с потоками дождя, пепельница, полная окурков, ковровая дорожка со следами растоптанного пепла от сигарет – все вдруг показалось мне серым и тоскливым. Я подумал об Элен и вдруг почувствовал, что вспоминать о ней мне неприятно.
Глава шестая
Мысль о том, что я влюблен в Элен Эштон пришла мне в голову задолго до того, как это действительно случилось, и настолько овладела мной, что вытеснила на время все остальное. Я всецело был поглощен ею, и все реально существующее – события и вести из внешнего мира, новости, почерпнутые от Крендалла или из газет, – почти не доходило до моего сознания, словно все это излагалось на чужом и непонятном мне языке.
И все же жизнь настойчиво вторгалась и давала о себе знать, как весна, которая не может не прийти, несмотря на затянувшуюся зиму, когда каждый новый день кажется бесконечно длинным и тоскливым. В Европе бок о бок уживались роскошь и нищета, обжорство и голод; в Англии однообразие и рутина, если они принимали форму политического направления, вызывали негодование и протест, но во всех остальных случаях стоически переносились. В эту весну мир, казалось, устал: бесцветными стали и лица людей, и газетные новости.
Ощущая это, я, однако, верил в перемены, хотя чаще, поглощенный собственными переживаниями, был глух ко всему, как глуха была, должно быть, ушедшая в свое горе Чармиан.
Я как-то спросил ее, сильно ли пьет Эван.
– О, – заметила она небрежно, – это уже прошло. Был короткий период.
– Когда он начался?
К моему удивлению, она ответила:
– Незадолго до Нового года. – И плотно сжала губы, дав понять, что разговор этот ей неприятен.
Затем она сообщила мне, что миссис Шолто, возможно, совсем переселится к ней.
– Ты не выдержишь этого! Ты сама знаешь. Она сделает твою жизнь невыносимой.
– Теперь она может сколько угодно становиться между мной и Эваном, – заметила Чармиан с горькой усмешкой, – пропасть и без того слишком глубока.
Когда я спросил, чего ради она решила осуществить этот свой безумный план, она просто ответила, что миссис Шолто более не в состоянии оплачивать свою квартиру.
– Она не может позволить себе таких расходов. Все ее сбережения уходят на содержание квартиры и прислуги.
– Она может поселиться в пансионе или еще где-либо.
– Не будь таким бессердечным, – упрекнула меня Чармиан.
– Пансионы созданы для таких, как миссис Шолто, старух, живущих воспоминаниями о былых временах. Они кишмя кишат дамами, ненавидящими евреев, негров, индийцев, профсоюзы и собственных невесток. Да она будет просто счастлива там.
– Зато Эван не будет счастлив, – быстро ответила Чармиан. И, взяв охапку только что проветренного постельного белья, она направилась в детскую. Я последовал за нею. Убирая детскую, взбивая матрасик в кроватке Лоры и вытирая влажной губкой невидимую пыль на стенах, она продолжала убеждать меня – Она мать Эвана. Я понимаю, что ты многого не можешь ей простить из-за Хелены, но я отняла у Эвана почти все (разумеется, она имела в виду прежде всего самою себя) и теперь должна дать ему хоть что-нибудь взамен. А ему нужно только одно: чтобы у его матери был дом.
Она убеждала меня быть более терпимым и снисходительным; я должен понять: нелепо требовать людей, привыкших к комфорту, чтобы они смирились с иным образом жизни.
– Ты, конечно, скажешь мне, что она всегда жила за счет других и что ей не мешает самой побыть в их шкуре. Я видела дом, который она сдает, он в ужасном состоянии. За все это время она ни пенса не дала на его ремонт. Но она не считает это преступлением – бизнес есть бизнес.
– Тогда дай ей возможность хотя бы сейчас уразуметь кое-что.
– Ты способен сочувствовать только хорошим людям, – рассердилась Чармиан, с силой задвигая ящик комода. – Им легче, когда они попадают в беду, потому что у них совесть чиста. А я вот могу сочувствовать плохим.
– Ты же сама только что сказала, что она не способна испытывать угрызения совести.
– Да, это верно, всю свою жизнь она была дурным человеком и не сознавала этого – как мольеровский герой, который и не подозревал, что всю жизнь говорил прозой. И теперь она в отчаянии оттого, что судьба так жестоко обошлась с ней.
– Следовательно, есть три категории мучеников. Праведники, незаслуженно наказанные, грешники, заслуженно наказанные, и грешники, не ведающие, что творят, и тоже, по их мнению, незаслуженно наказанные.
Она улыбнулась.
– Должно быть, есть еще и четвертая категория – праведники, не ведающие, что творят добро, и их тоже постигает участь грешников.
– Да, и ты, очевидно, относишься к последним. – Я сел рядом с Чармиан. – До каких пор будешь ты вот такой добренькой?
– Всегда, – ответила она и облегченно вздохнула, а затем быстро добавила: – Но я совсем не такая уж добрая.
– Значит, свекровь скоро переселится к тебе?
– Да, завтра.
– Когда ты все это решила?
– Две недели назад.
– И ничего не сказала мне об этом, Чармиан?
– Мне хотелось избежать неприятных разговоров, – мрачно заметила она и, взглянув в окно, воскликнула: – А вот и Лора возвращается с прогулки! Сейчас мы тебе ее покажем.
– Ну что же, показывай. Послушай, Чармиан, старуха просто сведет тебя с ума.
– Мне ее жаль, – ответила Чармиан, – и это поможет мне ко многому относиться терпимо.
Я ушел, твердо убежденный в том, что Чармиан во всех отношениях лучше и благороднее меня, что у нее больше сострадания к людям и в известной степени больше мудрости. Но вместе с тем я знал, что она погибнет там, где выживу я, что ее потянут на дно жадные руки цепляющихся за нее никчемных людишек, которые считают себя тем не менее очень значительными.
Что касается Шолто, то он давно был бы конченым человеком, если бы не деньги Чармиан. Даниэль Арчер оказал плохую услугу Чармиан, оставив ей деньги: они лишали ее решимости и обрекали на жизнь с таким человеком, как Эван.
Это был один из тех редких вечеров, когда в воздухе чувствуется весна, хотя нет еще видимых признаков того, что зима кончилась, и не веришь, что ей когда-либо придет конец. Небо над крышами Лондона было лазорево-голубым, а на западе, там, где садилось солнце, чуть-чуть золотилось. Было тихо и безветренно, и воздух казался необыкновенно теплым. На город опустилась тишина, будто все договорились ступать мягко, чуть слышно, и говорили приглушенными голосами, словно в торжественном удивлении перед каким-то чудом или в священном трепете перед таинством смерти. Тротуары все еще блестели, от дождя, отражая свет первых фонарей, струями чистого золота падавший в тихие омуты луж. Я вспомнил себя мальчишкой в Брюгге, затаившим какую-то острую, но недолгую печаль. Я смотрел в бездонную глубину луж, словно в черное зеркало, в котором отражались ветви деревьев и далекое облако, сулившее покой. Я помню, как тогда я вдруг почувствовал отчаяние оттого, что не смогу, широко раскинув руки, ринуться в этот омут забвения, погружаться в него все глубже и глубже, пока белое облако не примет меня в свои добрые и мягкие объятия. С каким злорадством смотрел бы я оттуда на тех, кто высоко вверху тщетно молил бы меня вернуться. И как горько было сознавать, что прыжок в лужу не сулит ничего, кроме мокрых ног и язвительных насмешек.
Это был вечер неосознанной тревоги и неудовлетворенности, когда разум и тело кажутся вялыми и безвольными, а сердце бунтует. Этот вечер отметил всех печатью какой-то особой красоты, столь редко замечаемой в наши дни, наполнил сердца людей таинственными предчувствиями, которые рассеются прежде, чем удастся их осознать или понять, прежде чем они станут словами на чьих-то устах. И каждое лицо было зеркалом скрытых переживаний, на каждом челе, губах, в четких разрезах глаз лежала печать чего-то, что так легко можно было распознать и прочесть, если бы только у меня был ключ, тот единственный и потерянный ключ, что лежит где-то на дне омута, отражавшего ветви деревьев и далекое облако, недосягаемый, золотисто поблескивающий от падающего на него света уличных фонарей.
Я знал, что если в эту минуту войдет Элен, слова будут излишни. Она сама прочтет все на моем лице, ее уста произнесут то единственное, так нужное мне слово. Я протяну к ней руки – она прильнет к моей груди. Замерев, мы будем молча стоять, и мгновение признания покажется нам бесконечно неповторимым.
Но Элен не вошла. Пора счастливых случайностей давно уже миновала в этом мире. Если я когда-либо встречусь с ней, то только потому, что сам того захочу, а увидев ее, не найду что сказать, и она так и останется ничего не подозревающей незнакомкой, к ногам которой я тайно положил свои поблекшие и нелепые мечты.
Все это я прекрасно понимал и тем не менее, придя домой, позвонил Филду. Я пригласил его и Наоми в гости.
Обрадованный, он почти кричал в трубку. Он не ожидал, что я снова захочу его видеть.
– С удовольствием! Когда же? Мы свободны всю неделю.
– Когда хотите, в любой день. Как ты думаешь, миссис Эштон согласится составить нам компанию?
– Она у нас, я спрошу ее. Я уверен, что она будет в восторге. – Сердце мое так судорожно сжалось, что кровь зашумела в ушах. Трубка зловеще замолчала, видимо Филд прикрыл ее рукой. Затем он отнял руку, и в трубку снова ворвались шорохи и звуки жизни; их покрыл голос Джонни Филда: – Она говорит, что с удовольствием придет.
– Приходите сегодня вечером, – выпалил я, надеясь, что голос у меня такой же, как обычно. На самом же деле у меня перехватило горло.
Джонни тут же ответил:
– Ах, как жаль, но сегодня мы никак не можем. Элен уже уходит, а у Наоми какое-то свидание.
Конечно. Разве могло это произойти именно сегодня, в этот неповторимый вечер.
– Ну тогда завтра.
– Завтра? Что ж, пожалуй. Я сейчас спрошу. – Снова немая тишина в трубке. А потом: – Да, да, великолепная идея! В котором часу?
– Приходите на коктейль, если мне удастся раздобыть спиртное. К восьми.
– В восемь! – воскликнул Филд. – Чудесно!
На этот раз я серьезно усомнился в том, что мне удастся когда-либо избавиться от Джонни Филда, раз он по моей доброй воле снова вошел в мою жизнь. Но в эту минуту я мечтал только об одном: чтобы завтрашний вечер был таким же, как этот – безветренным, ясным и погожим.
Я ничуть не удивился, проснувшись ночью от резкого холода, и поспешил натянуть на себя одеяла, которые вечером отбросил к ногам. Утро было серое и дождливое. С семи утра до семи вечера, не переставая, уныло моросил дождь. Было так сыро и холодно, что в дополнение к дровяному камину я вынужден был включить еще и электрический.
В восемь я ждал прихода гостей, почти равнодушный к тому, придут они или нет. Когда на пороге появилась Элен, я с удивлением подумал, что я мог в ней найти. Она показалась мне еще более бесцветной, чем в первый раз, – просто энергичная, умная и деловая женщина, столь же непохожая на ту Элен, о которой я мечтал, как этот дождливый мартовский вечер на своего чудесного предшественника. Первым долгом Элен выразила свое восхищение моей квартирой, ее удивило, что в наши времена жестокого жилищного кризиса мне разрешают одному жить в такой большой квартире. Я сдержанно и вежливо объяснил ей, что до последнего времени здесь жила также моя покойная мачеха, и, как только будут улажены ее дела, я подыщу себе что-нибудь поменьше или сдам две верхние комнаты.
– Хотя бы потому, что квартирная плата мне одному теперь не под силу. Понимаете?
– О, я совсем не собиралась осуждать вас, – поспешно сказала она. – Пожалуйста, не думайте так.
– Когда-то это был и мой дом, – пробормотал Филд, обходя гостиную, любовно оглядывая ее стены и улыбаясь знакомой картине или безделушке. – Сколько чудесных воспоминаний!
Меня удивило, что эти воспоминания не вызывают у него краски стыда. Наоми, должно быть, подумала о том же, ибо поспешила задать ему какой-то вопрос о его работе, потребовавший от Джонни пространного ответа.
Когда он покончил с этим, он уже чувствовал себя так, словно никогда не покидал эти стены, ему казалось, что они приняли его в свои объятия, как старая, удобная постель. Он уселся на краешек дивана, поближе к огню. Наоми же заявила, что никогда не страдает от холода, ибо у нее хорошее кровообращение. Филд обежал глазами книжные полки, лицо его стало мягким, покорным. Возвращение к прошлому сделало его уязвимым.
Элен уселась напротив него. У нее была необыкновенная способность застывать в одной позе. Так, без всякого усилия или напряжения, она могла сидеть, почти не двигаясь и, казалось, совсем не дыша, олицетворяя собою полнейший покой.
По всей видимости, она ничего не знала о том, что связывало в прошлом меня и Филда.
– Как долго ты жил здесь? – спросила она его.
– Почти год. – А затем с бесстыдством, которое должно было прозвучать как шутка, явно не удавшаяся, на мой взгляд, он добавил: – Пока меня не выставили отсюда.
– Это вы его выставили, Клод? – спросила, рассмеявшись, Элен, решив, что все это не более чем обмен дружескими колкостями.
Филд промолчал, а потом вдруг спросил:
– У тебя не сохранилось фотографии Хелены, Клод?
Наоми мучительно покраснела и от этого похорошела еще больше.
– Из последних – нет, – ответил я, думая о том, что должна сейчас испытывать Наоми. – По-моему, она не фотографировалась лет с восемнадцати.
– Она всегда говорила: «Лучшее, что во мне есть, – это краски. Не станет их, не станет и меня», – засмеялся Филд.
Я с удивлением выслушал эту новую подробность о Хелене – так вот в чем причина ее упорного отказа позировать перед фотоаппаратом. Я понял, что Филд во многих отношениях знает о ней больше, чем я.
Он, должно быть, заметил мой взгляд, полный любопытства, ибо тут же торжествующе воскликнул:
– Ты знаешь, мы с ней однажды все-таки сфотографировались, но она тут же порвала снимок.
– Где же?
– У уличного фотографа, как-то утром на Риджент-стрит. Хелена взяла у него адрес, зашла потом за снимком, но тут же порвала его, даже не показав мне.
– Джонни, – прервала его, явно нервничая, Наоми, – расскажи Клоду о письме, которое Хэймер получил от одного из своих избирателей.
– Да, да расскажи, – подхватила Элен. – Это такая забавная история. – Она посмотрела на меня, внезапно догадавшись о немом поединке между мной и Филдом и попытках Наоми отвлечь нас от этого.
– А, вы об этом, – промолвил Джон и, улыбаясь, стал рассказывать. Он утрировал просительный тон письма избирателя к члену парламента и изображал все гораздо более нелепым и комичным, чем это, очевидно, было на самом деле. Как только он умолк, Наоми потребовала рассказать все до конца: ей хотелось, чтобы Филд полностью продемонстрировал свой талант рассказчика.
– Дальше, дальше, Джонни. Ведь самое интересное – это конец!
Теперь у нее появилась привычка сидеть, плотно сжав колени и положив на них сцепленные руки, – точь-в-точь примерная ученица, с обожанием глядящая на любимого учителя.
– Мне кажется, Хелену это позабавило бы, – заметил Филд, закончив свой рассказ. – Эпизод вполне в ее вкусе. Послушай, Клод, а что, если, как в старые добрые времена, я приготовлю кофе или чай? Как тогда, помнишь?
– Я сделаю это сам, – сказал я. – Тут с тех пор многое изменилось. – И я вышел в кухню поставить чайник.
Элен вышла вслед за мной.
– Можно, я помогу вам?
– Да, пожалуйста, хотя помогать, собственно, нечего. Вот пиво, а здесь все для чая, если кто захочет пить чай.