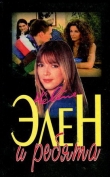Текст книги "Решающее лето"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Глава пятая
Поскольку мое пребывание в армии, а впоследствии некоторые мысли и раздумья об этом периоде жизни в известной степени имеют отношение к чувствам и ассоциациям, связанным с Эваном Шолто, мне следует подробнее рассказать об этом периоде.
В 1939 году, не дожидаясь призыва, я добровольцем ушел в артиллерию. Я еще не оправился от горя и оплакивал безвременную кончину Сесиль. Я был одинок и несчастен и не хотел думать о будущем, не веря, что время залечит раны. Решив уйти в армию, я, возможно, втайне надеялся, что это и будет самым простым и легким выходом. Но после пяти недель солдатской жизни мысли эти как-то сами собой потеряли остроту. Однообразные, расписанные по часам и до предела заполненные муштрою армейские будни, общение с людьми самых различных взглядов и сословий подействовали оздоровляюще, к тому же я, к своему удивлению, вдруг обнаружил, что могу стать неплохим солдатом. Этот факт, как ни странно, доставил мне истинное удовольствие и преисполнил такой же гордости, какую, должно быть, испытывала Элен, когда, не будучи врачом, верно ставила диагнозы. Так и я радовался любой похвале и одобрительному замечанию сержанта куда больше, чем когда-то хвалебным отзывам маститых критиков о моих книгах и статьях. Я снова стал мечтать и строить планы.
По окончании учений я попал в береговую противотанковую батарею, расквартированную в графстве Норфолк. Но не прошло и двух месяцев, как я снова попал на учебу, на этот раз на офицерские курсы. Закончив их, я получил офицерское звание.
Так в захолустных деревушках Англии прошли два года службы. Этот напряженный, насыщенный до предела период моей жизни как-то сам собою заслонил прошлое. Армия умеет создавать свой особый мир, как бы свою цивилизацию, которая, уходя, оставляет следы, – правда, следы чего-то несовершенного, незаконченного и столь же мало способного изменить облик окружающего мира, как, скажем, полуразрушенная античная колоннада цветущий деревенский луг.
Пока я находился в частях, расквартированных в Англии, я так и не смог по-настоящему завязать с кем-либо дружбу. Но, попав на фронт, я стал по-иному оценивать и понимать людей. На какое-то время я сблизился с неким Филиппом Стратом, солдатом по призванию. Впоследствии он стал кадровым военным. Но Страт, произведенный в офицеры вскоре после меня, был переведен в другой полк. По окончании кампании в Северной Африке наша часть была переброшена в Италию. По пути в Италию я подружился с унтер-офицером Кессилисом. Я был знаком с ним давно и питал к нему симпатию, но близко его не знал.
Эрик Кессилис не был солдатом. Он принадлежал к той весьма распространенной категории людей, для которых служба в армии с первого и до последнего дня является жестоким испытанием. Но он откосился и к тем – но их, увы, не так уж много, – кто честно пытается во что бы то ни стало побороть отвращение к армейской жизни, свою полную к ней неприспособленность и страх, даже если это стоит им нечеловеческого напряжения воли и насилия над самим собой.
До войны Кессилис был театральным художником, ему сулили блестящее будущее. Это был тихий человек, приятной, но скромной наружности, в меру умный и остроумный. За женщинами он ухаживал церемонно и обходительно, будто в каждой искал верную спутницу жизни. Женщинам это не нравилось, и он никогда не пользовался таким успехом, как нагловатый и самоуверенный Толлер, откровенно похвалявшийся своей мужской силой, или юный Элворден, обещавший превратиться в классический тип высокомерного хама.
Уже тогда было ясно, что Кессилису, как бы он ни старался постичь военные науки, никогда не получить чина капитана. Его периодически представляли, но всегда это кончалось ничем. Кессилис с грустным юмором выслушивал очередное известие о неудаче и ждал следующего представления.
Как некогда за три месяца совместного пребывания в Африке я сблизился с Джоном Филдом, потому что мог часами беседовать с ним о книгах, так теперь я искал общества Кессилиса, потому что мог поговорить с ним об искусстве. Когда я узнал его поближе, я почувствовал к Кессилису искреннее влечение, обнаружив в нем качества, которых раньше не замечал: искреннюю доброжелательность к людям, умение здраво оценивать их и их поступки, интуицию и мудрость суждений.
Я не подозревал тогда, как силен был в нем страх смерти. Во время боевых операций он вел себя выдержанно, хладнокровно и разумно, ничто не давало оснований думать, что он боялся больше других. Но вот однажды туманным снежным утром он сам завел разговор, который открыл мне многое.
– Чертовски неприятно, Клод, но верите ли, я весь трясусь от страха. Он словно засел у меня где-то в кишках. Вы не представляете, как я вам завидую.
– Я тоже боюсь. Все боятся.
– Но не так, как я, – сказал он со своей обычной спокойной сдержанностью и умолк.
– Вы боитесь показать другим, что вам страшно, – сказал я. – Это понятно.
– Нет, не то. Просто я боюсь смерти. Но не беспокойтесь, я и виду не подам, что мне страшно. Раньше я думал, что не сумею скрыть это, но теперь я знаю, что смогу.
– Я, например, не верю, что меня могут убить. Почему же вас это так страшит?
– Я ничего не могу с собой поделать.
Однако в сером свете утра лицо его казалось совершенно спокойным, губы были упрямо сжаты. Мы сидели в кузове грузовика, где я провел ночь. Он пришел, чтобы узнать, не будет ли распоряжений, но заданий не было, и он остался, сел рядом и завернулся в одеяло. Мне захотелось как-то помочь ему.
– А не попробовать ли вам взглянуть на это с другой стороны? Почему вас страшит смерть? Вы когда-нибудь задумывались на этим? Потому, что дома вас ждут близкие, или потому, что сам факт смерти вас пугает… Почему?
– О, я уже пробовал так рассуждать. Я сам не знаю почему. Возможно, меня пугает неизвестность. Черт побери, хоть бы верить в загробную жизнь! Темнота всегда наводила на меня ужас, и при мысли о том, что наступит вечный мрак… – Он медленно повернулся и посмотрел на меня. Он полулежал, привалившись боком к борту машины.
Я пытался вспомнить слова Эпикура о смерти, которые, как мне казалось, могли помочь ему:
– «Приучай себя к мысли, что смерть… не имеет к нам никакого отношения… Ведь все хорошее и дурное… – начал я.
– …заключается в ощущении, – торопливо подхватил Кессилис, – а смерть есть лишение ощущения…» – Он умолк, вспоминая, что дальше, но вспомнил лишь слова из следующего отрывка: – «…И действительно, нет ничего страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг, что вне жизни нет ничего страшного. Таким образом, глуп тот, кто говорит, что он боится смерти… – уже уверенно продолжал Кессилис, как ученик, читающий стихи перед классом. – Не потому, что она причинит страдание, когда придет, но потому, что она причиняет страдания тем, что придет: ведь если что не тревожит, присутствуя, то напрасно печалиться, когда оно только еще ожидается. Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют [11]11
Эпикур. «Письма и фрагменты».
[Закрыть]». К черту! – вдруг воскликнул Кессилис в каком-то мучительном экстазе. – Я знаю это наизусть, как сказочку о Мэри и ее белой овечке. Это почти моя коронная роль. Я так вжился в нее, что сейчас для меня это слова – и только… Да еще сосущая боль в желудке, постоянно, днем и ночью… Понимаете, днем и ночью!.. – Он вздохнул и отвернулся, тихонько раскачиваясь.
– Это пройдет, – неуверенно, стараясь успокоить его, сказал я. – До сих пор вы держались молодцом. Не хуже других, даже, черт побери, лучше многих.
Он внезапно выпрямился и сел. Лицо его было землистого цвета.
– Я не должен был говорить об этом. Я думал, что это мне поможет, но лучше мне не стало… – И вдруг, выпрыгнув из машины, он отбежал к обочине. Я понял, что его вырвало.
Через несколько минут он вернулся, вытирая рот. Его била дрожь, то ли от нервного напряжения, то ли от холода.
– Простите. Теперь мне легче.
Черт меня дернул тогда прочитать ему лекцию – я пытался по-дружески высмеять его страхи. Тогда я считал, что именно так следует поступить. Мне хотелось вернуть ему самообладание и уверенность, – и, когда я кончил, мне казалось, что я достиг цели. Закончил я шутливо назидательным замечанием о том, что мне следовало бы знать, кому доверять взвод, пусть он попробует теперь не оправдать моего доверия. Не лучше ли ему вместо того, чтобы цитировать Эпикура, заняться обязанностями взводного? Чего только я не наговорил ему тогда, чего не насоветовал! Когда я вспоминаю об этом, я готов провалиться сквозь землю от стыда.
Кессилис в почтительно-вежливом молчании выслушал меня, кивая головой после особенно патетических фраз, а потом сказал:
– Спасибо. Последую вашему совету. – И, улыбнувшись, взял под козырек. Он ушел, шлепая по жидкой грязи, втянув голову в плечи и пряча лицо от хлеставшего колючего снега.
Через два дня он был ранен осколком немецкого снаряда. Раненого Кессилиса притащил сержант Моненотт.
Кессилис умер не сразу. Он жил еще минут пятнадцать. Осколок попал в живот, разворотив его от паха до пупка. И все эти пятнадцать минут Кессилис лежал молча и неподвижно, казалось, не чувствуя боли – должно быть, она вся растворилась в ужасе смерти. Один лишь раз он взглянул на меня и попытался было улыбнуться, но слезы брызнули у него из глаз, и тут впервые с его уст сорвался крик боли. Когда подошел фельдшер, чтобы впрыснуть морфий, Кессилис был уже мертв.
Я долго убеждал себя в том, что это, в сущности, обычная смерть на поле боя; она не должна была меня как-то особенно потрясти. Я убеждал себя, что нравоучения, прочитанные мною Кессилису в то промозглое, серое утро, не имеют никакого отношения к его гибели. Если бы Кессилис остался жив, они, несомненно, пошли бы ему на пользу. Но я способен был утешаться этим, только пока мы были в боях, когда же нас отправили на отдых в тыл, я понял, что смерть Кессилиса была для меня ударом.
По окончании военных действий в Италии я был отозван из действующей армии и направлен на работу в военное министерство, где оставался уже по своей доброй воле до конца 1946 года. Я был рад этой возможности. Мне смертельно надоела ответственность и нестерпима была мысль, что мне снова могут быть подвластны судьбы других людей, их поступки, действия и даже мысли.
Я хотел лишь одного, чтобы мне никогда больше не пришлось вмешиваться в чужую жизнь, командовать, приказывать, принуждать. Мне хотелось бездумного, почти безразличного существования. Именно поэтому я так легко уступил Чармиан и не стал вмешиваться в ее семейные дела. Я боялся взвалить на себя хотя бы малейшую ответственность за чужую судьбу. В силу обстоятельств мне пришлось участвовать в жизни Хелены до последней ее минуты, но теперь я был свободен. Я многое потерял, но что-то и обрел. Хотя в душе я презирал себя за то, что ищу спасения в безразличии, я не мог не видеть в этом и некоторых преимуществ.
Если бы Чармиан в отчаянии не воскликнула, с известной театральностью, но совершенно искренне: «Я пропащий человек, Клод!» – я, возможно, так и не собрался бы поговорить с Эваном Шолто. Бог знает, что я скажу ему теперь и какой непоправимый вред нанесу своим разговором. Я и без того наделал немало глупостей; мне хватит их на всю жизнь.
Увидев меня, Эван не смог скрыть своего удивления.
– Хэлло! А где же Чармиан?
– Гуляет. Могу я поговорить с тобой?
В глазах его появилась настороженность.
– Конечно.
Он открыл дверь в гостиную. Я увидел миссис Шолто, раскладывавшую пасьянс. Она подняла голову.
– Уже вернулись? Хорошо погуляли?
– Клод вернулся один, – коротко бросил Эван и провел меня в маленькую темную комнату, которую Чармиан называла «кабинетом», должно быть потому, что в ней стоял письменный стол. Однако никому не пришло бы в голову работать в этом «кабинете», ибо даже в жаркий июльский день здесь было холодно и неуютно.
– Кажется, разговор предстоит серьезный, – сказал Эван, усаживаясь во вращающееся кресло и жестом приглашая меня тоже устроиться поудобней. – Сигарету?
Я отказался.
– Ну, знаешь, мне это уже совсем не нравится. Когда полицейский отказывается от глотка виски, значит он пришел в дом с недобрыми намерениями. Ну, так о чем же будет разговор?
– О Чармиан, – сказал я. – Как всегда, о ней.
– А-а. – Он посмотрел вниз, на носки своих ботинок и повертел ими, словно любуясь их блеском. – Я слушаю тебя. В чем дело?
– Как не стыдно тебе и твоей матери так третировать Чармиан. Ваше сегодняшнее поведение – свинство, каких мало. Если бы ты был порядочным человеком, ты давно дал бы Чармиан развод. Или хотя бы платил благодарностью за то, что она тебя содержит.
Он уставился на меня застывшим взглядом своих круглых, словно остекленевших глаз. Хелена, как-то заметила, что он похож на чучело совы – это было на редкость удачно подмечено. Из горла Эвана вырвался какой-то неопределенный звук, он глотнул воздух и отвел глаза, а затем вскочил и, изображая благородное негодование, так сильно пустил вращающееся кресло, что оно долго еще вертелось вокруг своей оси.
– Убирайся отсюда и никогда больше не появляйся в этом доме! Ты всегда был мне противен, если хочешь знать!..
«Если хочешь знать…» – шепнул мне на ухо далекий голос Хелены.
– Я не позволю тебе приходить в мой дом и оскорблять меня!
Это было совсем уж глупо, он, очевидно, и сам это понял, ибо умолк, а затем добавил:
– Разумеется, все останется между нами. Я ничего не скажу Чармиан. Но я не желаю видеть тебя здесь, когда я дома.
– Итак, ты полагаешь, что на этом наш разговор можно считать законченным? – сказал я. – Но ты поторопился. Я его еще не начинал. Ты и твоя мамаша, вы так и собираетесь жить за счет Чармиан?
– Она сама предложила маме переехать сюда. Никто не просил ее об этом.
– Ты прекрасно знаешь, что все обстоит совсем иначе. Сколько Чармиан дает только тебе на карманные расходы? И еще – чем ты занимаешься в этом своем паршивом магазинчике?
– Это не твое дело, – огрызнулся Шолто. Он стоял, выпрямившись во весь рост, и, казалось, застыл, упираясь растопыренными, слегка согнутыми пальцами в полированную доску стола.
– Если из-за твоих темных делишек хоть в какой-то мере пострадает Чармиан, я вытрясу из тебя душу.
– Ты не посмеешь и пальцем меня тронуть, Клод, – сказал он, – ты и сам отлично это знаешь. Не пыжься, дружище, ты не из тех, кто на это способен.
– Что вы затеяли с Филдом?
– Я не имею к нему никакого отношения.
– Врешь.
– Я только одно могу тебе сказать, – медленно произнес Эван, с таким пристальным вниманием разглядывая кисть своей руки, словно она вот-вот должна была отвалиться. – Я не позволю, чтобы вы с Чармиан устраивали за мной слежку. Подумаешь, детективы!
– А что, есть причины, почему нам не следовало навещать тебя в твоей «конторе»?
– Да, – ответил он. – И довольно основательные. Прежде всего, я вас туда не приглашал. Черт побери, неужели ты не можешь понять, если бы мне нужно было, я сам бы вас пригласил. Поэтому ваш визит выглядит как довольно скверная шутка.
Чувствуя себя уже уверенней, он продолжал:
– Да, скверная. А теперь можешь убираться.
– Нет, я еще не все сказал. Поговорим теперь о твоих шашнях. Тебе известно, что Чармиан все знает?
– Это все в прошлом, – сказал он.
– Нет.
Он пожал плечами.
– У нас с Чармиан общего теперь – только крыша над головой. После рождения Лоры. Винить можешь ее одну. Я готов все забыть и начать жизнь сначала. Согласен, я причинял ей неприятности, хотя не так уж много. Но она уперлась – и все. Сам понимаешь, что у меня сейчас за жизнь.
– Ну, тебе, пожалуй, жаловаться грех. Ты ведь нашел утешение в вине, не так ли?
Эван неожиданно совсем успокоился и даже снова сел в кресло, опять напомнив мне преуспевающего молодого врача – из тех, что в летний сезон могут, презрев приличия, наносить визиты пациентам в твидовом пиджаке и фланелевых брюках.
– Черт побери, Клод! – воскликнул он. – Ну кто тебя просит совать нос в чужие дела? Мы с Чармиан прекрасно поладим и без твоей помощи.
– Чармиан несчастна, – продолжал я, – она готова была бы умереть, если бы не ребенок.
– Все зависит от нее. Если бы она изменила свое отношение ко мне, мы могли бы начать все по-новому. Поверь, я люблю Чармиан, никогда не переставал ее любить, но я не могу довольствоваться душеспасительными беседами.
Должно быть, он не лгал, когда говорил, что любит Чармиан. По-своему он действительно любил ее. Он нуждался не только в ее деньгах, но и в ней самой – она была нужна ему, как самая старшая и самая верная из жен в гареме.
– Однако ты, оказывается, из тех мужчин, которые не видят ничего дурного в том, чтобы всю жизнь находиться на содержании у жены, – сказал я. – Ведь ты, в сущности, живешь на деньги Чармиан.
При этих словах Эван снова вскочил с кресла, постоял с минуту, словно раздумывая, ударить меня или нет, но ограничился лишь тем, что резко распахнул дверь в коридор.
– Убирайся или я сам тебя вышвырну!
Протянув руку, я закрыл дверь и в наступившей тишине явственно услышал, как в коридоре скрипнула половица. Я понял, что миссис Шолто подслушивала под дверью.
Эван тоже понял это. Его взгляд невольно проследил мой.
– Скажи своей матери, чтобы вошла.
– Нет. Ты не посмеешь втянуть ее в это.
Но дверь уже открылась, и в комнату вошла миссис Шолто, маленькая, серая, как мышь, но преисполненная решимости. Она, видимо, вовсе не собиралась извиняться за то, что подслушивала. Миссис Шолто быстро подошла к сыну и, став рядом, взяла его под руку.
– Вы ссоритесь? Что-нибудь случилось? Я хочу знать. Ну, пожалуйста.
И тут я увидел во взгляде Эвана откровенный страх. Значит, есть что-то, что он хотел бы скрыть от матери. Что же? Разумеется, не его любовные похождения, и не то, что он пьет, и, конечно, не то, что они с матерью сидят на шее у Чармиан. Нет, старая миссис Шолто сама все это прекрасно знает. Так о чем же не должна была знать миссис Шолто? Не о его ли дружбе с Джонни Филдом и об этом «Автомобильном салоне «Марта»!
Я вдруг понял, что у меня есть средство держать Шолто в руках и хоть как-то помочь Чармиан.
– В чем дело? – уже тоном приказа повторила миссис Шолто. (Ни дать ни взять французская аристократка времен Революции, не побоявшаяся поставить на место грязного и дурно пахнущего санкюлота.)
И я, стараясь быть как можно более сдержанным, сказал ей, как огорчает меня то, что она и ее сын обижают мою сестру. Я намекнул ей, что они с Эваном многим обязаны Чармиан, и тем не менее они довели ее почти до полного отчаяния. Однако все, что я говорил, звучало как-то на редкость неубедительно.
Выслушав меня, миссис Шолто на мгновение, казалось, задумалась. Лицо Эвана разгладилось и обмякло, исчезло выражение страха и напряженного выжидания. Сам, должно быть, того не замечая, он нежно поглаживал плечо матери.
Да, миссис Шолто была отнюдь не глупа. Я невольно восхищался ею, ибо во время минутной паузы она, должно быть, перебрала в уме и взвесила все возможные ответы и выбрала наиболее безопасный.
Легонько высвободив руку из-под локтя сына, она отошла к окну, втянула в себя большой глоток густого, напоенного ароматом листвы летнего воздуха и, повернувшись ко мне вполоборота, так что мне был виден ее тонкий, почти девичий профиль, заговорила:
– Мне очень жаль, что вы так думаете, Клод. Я буду очень огорчена, если и Чармиан разделяет ваше мнение. Мне кажется, вы преувеличиваете и не совсем правильно все понимаете. И Эван и я, мы прекрасно знаем, как добра к нам Чармиан. Эван делает все, чтобы вернуть долг, и я знаю, что он выплатит его. Полностью, – добавила она, сделав особое ударение на этом слове, будто уже бросила на весы груз золотых монет. – Я знаю, я была… резка с ней сегодня вечером. Я очень сожалею об этом. Я старая женщина, и я была расстроена. Всю жизнь я не любила проигрывать и не умею скрывать своего огорчения, если это случается. Но вы не должны придавать этому такое значение. Мне кажется, Чармиан поймет меня. А что касается Эвана, то, возможно, первые годы их супружеской жизни не были счастливыми, но… – Она посмотрела на сына печальным любящим взглядом, способным тронуть любого, кто не знал близко старую миссис Шолто. – Он очень сожалеет об этом, я знаю. Но оба они еще так молоды, а теперь у них есть прелестная дочурка… – Голос ее дрогнул.
– Довольно, – резко оборвал ее Эван, – ты не должна так расстраиваться. Это наши с Клодом дела.
Но отстранив его, она подошла ко мне и, остановившись, посмотрела мне в лицо.
– Вы верите, Клод, что я готова сделать все, чтобы они снова были счастливы? Я старый человек, я часто бываю раздражена и способна допустить бестактность, но я желаю только добра Чармиан. Старое вспоминать всегда неприятно. Но мы попытаемся начать все сначала, все трое.
– Чармиан пыталась не раз. Пожалуй, слишком часто пыталась, – сказал я.
Миссис Шолто опустила голову. Рука ее затеребила брошь у горла – бледно-желтый эмалевый нарцисс.
– Я знаю, – сказала она и снова посмотрела на меня. – Не лучше ли будет, если этот разговор останется между нами? Не стоит говорить о нем Чармиан.
– Да, не стоит, – согласился я.
– Спасибо, Клод. Вы очень преданный брат. Я знаю это и ценю. Чармиан должна быть счастлива, что у нее есть вы.
И, не сказав больше ни слова, она вышла из комнаты.
Эван проводил ее каким-то горестным взглядом.
– Ну что, ты доволен?
– Нет, – ответил я. – А теперь слушай: если ты не будешь вести себя с Чармиан как положено, не будешь вежлив, внимателен и приветлив с нею как дома, так и на людях, я поделюсь с твоей матерью кое-какими из моих догадок.
– Не понимаю, о чем это ты? – бросил он с нагловатой небрежностью, провожая меня в переднюю, словно я был гость, доставивший ему массу приятных минут. Прощаясь со мной, он говорил так громко, чтобы его было слышно во всей квартире. Но возле самой двери, вдруг понизив голос, пробормотал: – Все будет хорошо. Клянусь.
Я услышал шум поднимающегося лифта и, опасаясь встречи с Чармиан, спустился по лестнице пешком.
Я сказал миссис Шолто, что Чармиан слишком долго пыталась наладить свою жизнь с Эваном, чтобы продолжать еще верить в такую возможность. Но, очевидно, она решила попробовать еще раз. Поверив в неожиданную перемену к лучшему, которая произошла с Эваном и миссис Шолто, она возобновила свои отношения с мужем.
Как только семейные дела Чармиан относительно наладились, – надолго или нет, – снова стал думать об Элен. То обстоятельство, что я оказался способным на решительные действия, необычайно вдохновило меня и придало энергии. Впервые после смерти Кессилиса меня стали тяготить моя апатия и пассивность. Я слишком долго довольствовался ролью созерцателя и теперь словно проснулся внезапно, но проснулся бодрый, отдохнувший, с ясной голевой и жадным желанием за несколько часов переделать все то, что накопилось за долгие месяцы бездействия. А удача, неожиданно постигшая меня, еще больше окрыляла.
Как-то, идя по Бонд-стрит, я заглянул в одну из букинистических и антикварных лавчонок, в надежде найти какой-нибудь из ранних романов Форда Мэдокса Форда. Роясь на пыльных полках, я заметил в углу свернутые в трубку рисунки и почти машинально стал разглядывать их.
– Купил по случаю, вместе со старой мебелью, – пояснил мне Мордри, владелец лавки. Это был очень старый и очень толстый человек, который мог быть то необычайно проницательным и умным, то по-стариковски упрямым. Он мог содрать с меня баснословную цену за небольшой дряхлый книжный шкафчик, но зато почти даром отдать редкое издание.
– Мне эти рисунки ни к чему, хотя девчонка в шляпке мне нравится. Это не Биркет или как его там? За него всегда можно взять хорошую цену.
Нет, это был не Биркет. Это была одна из тех старательно выписанных акварелей, которые в 60-х годах прошлого столетия тысячами производили хорошо подготовленные, но бесталанные девицы. Все остальные рисунки были столь же плохи, за исключением одного: великолепного Этти, чьи сочные нежно-розовые краски не смог приглушить даже толстый слой пыли и грязи.
– Вам нравится эта мазня? – Мордри заглянул через мое плечо. – Малютка немного толстовата, вы не находите? Мы бы с ней были неплохая пара, а?
– Сколько вы хотите за нее?
– А сколько вам не жаль?
– Назовите цену сами, – сказал я.
Мордри старался по моему лицу угадать, насколько меня заинтересовала картина, хотя считал, по-видимому, мой интерес чисто эротическим.
– Два фунта?
Я уплатил. Он завернул Этти в кусок старой газеты.
– Небось давно мечтали о такой толстушке, – заметил он и подмигнул. – Эх-хе-хе.
Я был уже в дверях, когда меня кольнула совесть. Я вернулся и дал ему еще два фунта.
Мордри заволновался.
– Эй, послушайте! Я, видимо, прошляпил? Это кто, Леонардо да Винши?
– Ну нет. Однако вещица неплохая.
– Даю пять фунтов и беру ее обратно, – тут же предложил он.
Я отказался, и ему пришлось отступить.
– О’кей! Сделка есть сделка. И все же вам не следовало мне переплачивать. Я вам этого не забуду. Вы ведь не новичок у нас в Челси? Не из дельцов, надеюсь? Что-то не похоже.
– Нет, я не делец.
– Покупаете только потому, что вам это нравится?
– А вам-то что за дело?
– Понятно. Ну что же, я сам виноват. Но если в газетах сообщат, что это Леонардо да Винши…
– Не бойтесь, не сообщат.
Он улыбнулся и шутливо расшаркался.
Я тут же отправился к Крендаллу похвастаться – пусть знает, что и я на что-то способен. Он пришел в восторг и немедленно отобрал у меня картину, чтобы отдать ее реставратору.
Сегодня вечером, твердо решил я, обязательно напишу Элен и попрошу ее встретиться.
Но дальнейшие события дня помешали мне сделать это. Я поужинал, как обычно, в соседнем ресторанчике, и едва переступил порог своей квартиры, как пришла Чармиан.
– Вот почитай, – сказала сна, положив на стол квадратный листок бумаги. Она с размаху бросилась в кресло, закурила сигарету и не спускала с меня глаз, пока я читал.
Это было анонимное письмо, составленное человеком, начитавшимся детективных романов, а посему прибегнувшим к излишним для данного случая предосторожностям. Слова были вырезаны из газет, щедро намазаны конторским клеем и не очень аккуратно налеплены на лист коричневой оберточной бумаги. На изгибах листок склеился, и некоторые слова с трудом можно было разобрать. Однако я все же прочел. Послание гласило:
«Вы, по-моему, очень хорошая женщина, и я хочу сказать – следите за ним. Он может попасть в беду. Пишет друг, который знает то, чего вы не знаете».
– Наверно, ему понадобилось несколько часов, чтобы состряпать это, – медленно сказала Чармиан. Мы посмотрели друг на друга.
– Почему ты думаешь, что это «он», а не «она»?
Обычно этим занимаются женщины.
– Нет, я уверена, что он, – ответила Чармиан. – Я получила это с дневной почтой и не перестаю строить догадки. Письмо послал кто-то, принимающий все всерьез.
– Что ты хочешь сказать?
– А то, что он искренне хочет мне помочь.
– У тебя есть предположения?
– Да. Я тут немного поразмыслила, прибегнув, как Шерлок Холмс, к методу дедукции, и, знаешь, не без успеха, – гордо сказала Чармиан. – Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что я на правильном пути. – Она прищурила глаза и посмотрела на кончик сигареты. – Нет, я уверена, что не ошибаюсь. Завтра суббота. Ты сможешь со мной поехать…
– Что? Опять! Зачем?
– Это сделал Морис.
– Кто?
– Вот послушай. – Чармиан поманила меня к себе и рукой указала на стул. – Садись. Я расскажу тебе, как я пришла к такому заключению. – И она невесело улыбнулась. Очевидно, письмо расстроило ее больше, чем она хотела это показать.
Я послушно сел.
– Во-первых, – она загнула палец, – его написал кто-то очень юный и неопытный. Все говорит об увлечении детективщиной. Ты согласен?
– Допустим.
– Во-вторых, в нем упоминается некто он. Ну а кто, по-твоему, кроме Эвана, может впутаться в какую-нибудь историю? Только Эван.
– Возможно.
Она покачала головой.
– Однако история это не шуточная, иначе не было бы письма. Итак, в-третьих, что это за история?
– Женщина?
Чармиан даже растерялась.
– Ты думаешь?
– А ты?
– Нет. Я почему-то сразу же подумала, что это имеет отношение к новой работе Эвана. – Она уже овладела собой. – Предположим, я права и речь действительно идет о работе Эвана. Ведь нам с тобой показался подозрительным этот его салон, верно?
– Да, – согласился я.
Чармиан умолкла.
– Нет, нет, все именно так. Если это дела Эвана, то кто, по-твоему, осведомлен о них? Те, кто работает с ним – Лаванда или Морис.
– Ну, это одни предположения, – заметил я.
– Посмотрим, только ли предположения. Я уверена, письмо написал Морис.
– С чего бы ему взбрело в голову предупреждать тебя?
С минуту Чармиан раздумывала, словно не знала, стоит ли говорить.
– Видишь ли, иногда люди бывают признательны тебе за какую-то мелочь, сущий пустяк. Ты помнишь, как Лаванда при Морисе сделал оскорбительное замечание о евреях, а я тут же его одернула?
– Помню. Ну и что?
– Я видела лицо Мориса. Он был доволен, что я поставила Лаванду на место. – Чармиан сложила руки на коленях. – Вот и все.
– Я не уверен, что все здесь так просто. Скорее всего, речь идет об очередной интрижке твоего муженька.
– Ты так думаешь? – Порывшись в сумочке, она извлекла конверт и с торжествующим видом протянула его мне. Адрес был написан от руки большими печатными буквами, на марке стоял штемпель почтового отделения того района Лондона, где находилась контора Эвана.
– Вот так метод дедукции! – воскликнул я. – А еще пыталась убедить меня в своей сверхъестественной проницательности.
– Какой же он дурачок, этот мальчик, – сказала Чармиан. – Что за смысл было вырезать и наклеивать слова из газет, если адрес пишешь от руки. Мог бы тогда все письмо написать сам. Или хотя бы опустил его в другом районе.
– А может, он совсем не собирался скрываться? Пожалуй, ты права, написал его действительно кто-то, питающий к тебе добрые чувства.
– Все повадки и приемы подростка, начитавшегося романов из «черной серии, – сказала Чармиан. – Вот почему я сразу же подумала, что это Морис.
– А почему не Лаванда?
– Ну этому-то совсем незачем меня предупреждать.
– Он смотрел на тебя, как кот на сметану, – пошутил я. – Может, влюбился?
– Пусть только посмеет. – Чармиан приняла шутливо-грозный вид. – Нет, это не Лаванда. Этот поступил бы умнее.
– Что за мерзость эти анонимки, – сказал я, разглядывая конверт. Мне казалось, что я держу в руках что-то скользкое и омерзительное. Я бросил конверт на колени Чармиан.