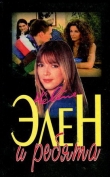Текст книги "Решающее лето"
Автор книги: Хенсфорд Памела Джонсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Она выслушала меня молча и лишь потом с тревожным любопытством спросила:
– Можно ли, потеряв в молодости любимого человека, потом забыть эту потерю?
– Не знаю. Раньше мне казалось, что это невозможно.
Она не смогла скрыть радости, на мгновение осветившей ее лицо. Затем оно снова стало серьезным.
– Знаете, я видела Сесиль Арчер.
Я совсем забыл, какой известностью пользовалась в свое время Сесиль. Мне показалось невероятным, что Элен могла что-либо знать о ней и, более того, видеть ее.
– Неужели? Где же?
– Я хорошо помню: мне было восемнадцать, это был день моего рождения, и дядя повел меня на какой-то большой утренний концерт. Я помню Грэйси Филдс и Эдит Бэйкер. Помню только их и еще Сесиль Арчер. Она произвела на меня огромное впечатление, и я долго потом мечтала стать певицей мюзик-холла. Она была очень небольшого роста, правда?
– Да, пять футов, два или три дюйма.
– Темно-рыжие волосы, алое платье и никаких украшений. Она пела какие-то остроумные, хлесткие куплеты высоким, тонким голосом. Очень странный голос, сначала он мне не нравился, а потом… Сколько лет ей было тогда?
– Лет двадцать пять, должно быть. Она была в зените славы.
– Она была просто великолепна! – воскликнула Элен, и я знал, что она искренна, что это сказано не для того, чтобы сделать мне приятное. – Какая-то необыкновенно подкупающая манера петь – она была где-то далеко от меня, на сцене, и пела не для таких, как я, восемнадцатилетних дурочек, и тем не менее мне казалось, она могла бы быть мне подругой, могла бы помочь мне, например, выстирать блузку или что-нибудь в этом роде.
Ее слова доставили мне искреннюю радость.
– Как она была бы счастлива слышать это.
– Я не ошиблась? – спросила Элен. – Она действительно была такой?
– Не знаю. Как ни странно, но я очень мало ее знал. Ей были уже известны и слава и поклонение публики, но, мне кажется, вы в ней не ошиблись.
Она явно колебалась, прежде чем задать следующий вопрос.
– Ваше чувство к ней прошло?
– Да, – ответил я. – Оно прошло гораздо раньше, чем я сам это понял. Но память – это словно старый любимый плащ. С ним расстаешься с трудом. – И тут я вспомнил. – Моя сестра обожала Сесиль.
– Чармиан была тогда совсем еще ребенком, не так ли?
– Да. Но они часто виделись. Сесиль жила отдельно, когда ее отец женился на Хелене, но часто бывала в отцовском доме. Я думаю, Чармиан лучше, чем кто-либо, могла бы подтвердить или опровергнуть ваше впечатление о Сесиль.
– Как вы думаете, она согласится позавтракать со мной, если я ей позвоню? Я давно хотела спросить вас об этом. Она бывает свободна днем?
– Да. До последнего времени она держала няньку, но, когда Эван стал пить, ей пришлось отказаться от постоянной прислуги и взять приходящую.
– Мне не стоит расспрашивать об Эване?
– Лучше не надо. Насколько я знаю Чармиан она, очевидно, сама захочет вам все рассказать.
После ужина мы побродили по Сент-Джеймс-парку, полюбовались отражением луны в озере. Элен попал камешек в туфлю, она сняла ее и вытряхнула, держась за мое плечо, чтобы не ступить ногой в чулке на гравий дорожки. Я привлек ее к себе и крепко обнял. Она повернула ко мне свое слегка удивленное лицо, и тогда я поцеловал ее в губы.
В конце недели Элен и Чармиан завтракали вместе, а вечером я встретился с Элен.
Она не заводила больше разговора о Сесиль и лишь вскользь упомянула о Шолто. Как потом выяснилось, наибольшее впечатление во время встречи с Чармиан произвело на нее нечто другое, что явилось поистине неожиданностью для меня, хотя я мог бы в известной степени это предвидеть.
– Послушайте, Клод, Чармиан одержима мыслями о Хелене. Пока мы были вместе, она ни о чем другом не говорила, словно Хелена жива и вот-вот войдет в кафе и сядет за наш столик. Мне стало даже не по себе. Должно быть, она была к ней очень привязана.
– Самое странное в этом то, – сказал я, – что при жизни Хелены все было совсем иначе. Чармиан, разумеется, любила Хелену, они понимали друг друга, но Хелена не вошла в ее жизнь, как, скажем, она вошла в мою. Это у нее что-то новое, и, поверьте, Элен, меня это тоже беспокоит.
– Что же произошло?
– Думаю, ничего особенного. Просто Чармиан мыслями о Хелене пытается заглушить какие-то другие, более горькие и мучительные.
– Нет, все это гораздо сложнее, – возразила Элен со знакомой мне категоричностью. Не кажется ли вам, что вы все несколько упрощаете?
– Послушайте, моя дорогая, – сказал я, – есть вещи, которых вы просто не знаете. Например, глубину всей трагедии, переживаемой Чармиан. Не знаете, потому что сама по себе ее трагедия довольно банальна. Представьте себе молодую женщину, которой всего двадцать четыре года; она решает навсегда связать свою жизнь с человеком, которого буквально не выносит. Можете осуждать ее, но такова правда. Одно дело взойти на эшафот с высоко поднятой головой, другое – добровольно войти в тюремную камеру, самой запереть за собой дверь и выбросить ключ в водосточную канаву.
– Так не может продолжаться, – упрямо сказала Элен. – Это невозможно. Вот почему я отношусь к этому иначе, чем вы. Что-то обязательно произойдет. Должен наступить какой-то перелом.
– Должен наступить какой-то перелом, – передразнил ее я. – Вот так же утешают себя миллионы людей, но что из этого?
Она нетерпеливо передернула плечами, словно отбрасывала неприемлемый для нее пессимизм.
– Если она хочет заживо похоронить себя, это, разумеется, ее право. Но я не могу ее понять. Я всегда буду верить в перемены и буду ждать их, потому что я этого хочу.
– А я?
Взгляд ее потеплел.
– И вы тоже, потому что мы с вами одной породы. Мы похожи друг на друга гораздо больше, чем вы думаете, Клод.
Глава вторая
Однажды в конце мая я шел с работы домой, как вдруг на противоположной стороне улицы увидел Филда и Шолто.
Они быстро шагали по Бонд-стрит, щедро залитой лучами низкого закатного солнца. Я собрался было перейти улицу и окликнуть их, как вдруг что-то остановило меня, и я дал им уйти вперед шагов на тридцать. Трудно объяснить, почему я это сделал. Так бывает: иногда войдешь в комнату, полную спокойно беседующих, улыбающихся людей, и вдруг почувствуешь себя непрошеным гостем.
Филд и Шолто были веселы, оживлены и явно торопились куда-то. Мне бросилась в глаза странная близость этих двоих, хотя я не смог бы объяснить, в чем она проявлялась. Что касается Филда, то его я просто не узнавал: это мог бы быть его кузен, таким он выглядел самоуверенным и энергичным.
Поскольку я не виделся с Чармиан с того самого вечера, как обедал у нее, то есть дней десять, я позвонил ей и пригласил ее к себе в Челси.
– Отлично, – ответила она, – прекрасная мысль. Я буду у тебя около половины девятого. Не удивляйся, теперь я сама буду напрашиваться в гости, а не приглашать к себе. Свекровь буквально стала моей тенью, не отходит от меня ни на шаг. Она пересиживает всех гостей, остается в гостиной до тех пор, пока не уйдет последний. А если кто-нибудь поднимается вместе со мной наверх, чтобы взять пальто, она уже тут как тут – боится, должно быть, что я начну жаловаться на Эвана или рассказывать посторонним, что он пьет. Кстати, пить он стал меньше, но об этом потом.
Когда Чармиан пришла, я сообщил ей, что собираюсь переехать в однокомнатную квартирку в большом многоквартирном доме около станции метро «Виктория».
– Как только муниципалитету стало известно о квартире Хелены, мне тут же прислали уведомление. Как-никак, здесь можно разместить семью из пяти человек.
– Значит, уходит последнее, – печально промолвила Чармиан, обводя стены гостиной прищуренными, словно близорукими, глазами, будто хотела запомнить все как можно лучше. – От Хелены совсем ничего не останется.
Она теперь избегала произносить слово «мать», как бы подчеркивая наше с нею равное положение. Чармиан ходила по квартире, легонько касаясь пальцами картин, погладила складки портьеры, взяла в руки зеркальце Хелены в серебряной оправе и, смущенно улыбаясь, полистала одну-две книги, которые Хелена особенно любила. Она была похожа на монахиню, которая предается какому-то тайному культу и в душе стыдится этого.
Но внезапно интерес ее угас. Энергично тряхнув головой и словно возвращаясь к действительности, она бросила пальто и сумочку на кровать в спальне, вернулась вместе со мной в гостиную и, усевшись в кресло Хелены, сказала:
– Так вот мои новости. Он стал пить меньше, гораздо меньше.
– Рад слышать это.
– Но я уверена, что это неспроста.
– То есть?
– У него новая работа, и все это выглядит очень странно. Мне кажется, здесь не обошлось без Джонни Филда.
– Кстати, я видел их сегодня на Бонд-стрит.
– Они теперь неразлучны. Джонни и Наоми обедают у нас по меньшей мере три-четыре раза в неделю, а если они не бывают у нас, Эван отправляется к ним. Должна сказать, что Филд держится безупречно. Свекровь без ума от него. Что же касается меня…
– Да?
– То я никогда его не любила, ты знаешь. – Она как-то натянуто засмеялась, словно стыдилась того, что собиралась сказать. – У нас с тобой не было оснований любить его, не так ли? Я думаю, что и сейчас я не потерпела бы его в своем доме, если бы не благотворное влияние на Эвана – какое-то умиротворяющее, дисциплинирующее, называй это, как хочешь. Кажется, я примирилась бы с самим Криппеном [10]10
Доктор Криппен – известный убийца.
[Закрыть], если бы он удерживал Эвана от пьянства. Хотя он, я имею в виду Филда, как будто и не делает этого. – Она замолчала и сжала свои тонкие гибкие пальцы в кулак.
Мне хотелось помочь ей излить свою душу, но она вдруг растерянно умолкла. Потом, подняв на меня глаза, сказала:
– Понимаешь, не нравится мне эта дружба. Вот и все. Нет, не все. Меня беспокоит новая работа Эвана. Ты веришь, что можно радоваться, получая пять фунтов в неделю и целыми днями торча в маленьком грязном магазине, где продают старые автомобили и мотоциклы, где-то на какой-то Хай-стрит?
Это был юго-восточный пригород Лондона, район убогих и ветхих домишек с облезлой штукатуркой, свалок и пустырей с развалинами, оставшимися после бомбежек. Славился он только огромным розово-кремовым зданием нового кинотеатра, пивными на каждом углу и подозрительными бараками, удобно расположенными за станцией метро. Это был один из самых грязных, унылых и беспокойных районов города, ибо после наступления темноты он полностью принадлежал пьяницам и бродягам, которые располагались на ночлег в разбитых витринах магазинов.
– Вот там, – сказала Чармиан, строго и осуждающе поджав губы, – он теперь и работает.
Похоже было, что она не знает, плакать ли ей или смеяться.
– Сколько он получал на прежнем месте, я имею в виду на Олбмэрл-стрит, черт побери? – спросил я.
– Восемь фунтов десять шиллингов в неделю. Но эта работа, видишь ли, ему не нравилась.
– А теперь его вполне устраивают пять фунтов?
– Он просто в восторге. Уверяет, что наконец он сам себе хозяин. Ты можешь этому поверить?
Нет, я не верил. Я считал Шолто человеком, начисто лишенным не только тщеславия, но и вообще какого-либо желания стать самостоятельным. Но я решил не расстраивать и без того встревоженную Чармиан и только сказал, что в какой-то степени понимаю Шолто.
– Хотелось бы думать, что ты прав. Хотелось бы… – Ее беспокойный, блуждающий взгляд остановился на портрете Сесиль, который я вставил в рамку и повесил над письменным столом.
– Я сегодня завтракала с Элен. Почему ты не женишься на ней? Она мне очень нравится.
– Не могу, – ответил я. – Пока не могу. Я еще не решил, чем буду заниматься, что буду делать.
– А что с вашей галереей?
– Как ни странно, преуспеваем. Крендалл даже нанял секретаршу. В этом, конечно, не было никакой необходимости, но ему кажется, что так солидней. Мы приобрели несколько интересных картин. Какой-то прогоревший американец предложил неплохую картину Бена Шаана, и мы купили ее. Сейчас практически невозможно ничего достать из американцев. Суэйн хоть сию минуту готов купить ее у нас – он большой почитатель Шаана, но Крендалл ломается.
– Следовательно, он может позволить себе поломаться, – мудро заключила Чармиан. – Понятно. Очень жаль.
– Почему жаль?
– Потому что до тех пор, пока его галерея будет процветать, ты будешь валять дурака. Ду-ра-ка, – отчетливо произнесла она, вытянув губы трубочкой. – А пока ты будешь валять дурака, Элен…
– Что Элен?
– Впрочем, это не мое дело. Я и сама не знаю, что хотела сказать. Послушай, Клод, цела ли та шкатулка Хелены, где она хранила всякую мелочь? Черная японская, с которой слез лак?
– Не знаю. Думаю, что она где-то здесь. Посмотри в стенном шкафу в прихожей, если хочешь.
Выполняя волю Хелены, я передал Чармиан все ее драгоценности, оставив себе лишь колечко с крохотным сапфиром и изумрудом, понравившееся мне своей оригинальной работой. Я дал по сто фунтов портнихе и парикмахеру Хелены, к которым она была искренне привязана. Но я никак не мог решиться разобрать весь тот забытый и ненужный хлам, что Хелена хранила в жестяных и картонных коробках в стенном шкафу в прихожей.
Чармиан нашла нужную ей шкатулку и, встав на колени, прямо на пол высыпала ее содержимое – старые визитные карточки, остатки кружев, украшения из стекляруса, обрезки маркизета.
– Здесь нет, – сказала она. – Что ты собираешься с этим делать?
– Не знаю. Хочешь, возьми себе.
– Хорошо, если тебе не нужно. Для Лоры это будет клад, когда она подрастет.
Она порылась в темном шкафу и извлекла выкрашенную светло-голубой краской деревянную шкатулку с орнаментом из золотых арф.
– Очевидно, здесь.
Эта шкатулка тоже была набита всякой милой ерундой. Чармиан наконец нашла то, что искала: пожелтевшую карточку, куда дамы записывают партнеров на танцы. Карточка была с потрепанными, загнутыми уголками, словно ее владелица в ожидании приглашения на танец от волнения покусывала ее. На первой странице был нарисован трилистник и вилась надпись: «Бал в честь праздника св. Патрика, Ольстер-холл, Белфаст, 1896». Внутри на изгибе была продернута ярко-зеленая шелковая лента с петелькой для карандашика и номерами были помечены названия танцев – против каждого из них стояло еле различимое имя партнера. На обороте рукой владелицы было трижды написано: «Хелена Кеннан. Хелена Кеннан. Хелена Кеннан».
– Она как-то показывала ее мне, – сказала Чармиан. – Ей было тогда восемнадцать, это был ее первый бал. До этого она никогда не видела юношу, который пришел к концу бала, сразу же подошел к ней и танцевал с нею четыре последних танца. Она без памяти влюбилась и, придя домой, написала на обороте карточки имя, которое будет носить после замужества. Но с тех пор она его больше не видела.
– Я ничего об этом не знаю. Бог мой, неужели это была самая большая трагедия в ее жизни?
– Конечно, нет! – весело рассмеялась Чармиан. – Она забыла о нем так же быстро, как и он о ней. В ее жизни не было трагедий, если не считать ее смерти.
– И Джонни Филда?
– Джонни Филда? – презрительно фыркнула Чармиан. – Не преувеличивай его роли. Он не способен вызвать в чьей-либо жизни трагедию, такую, например, какую могла бы вызвать «великолепная Хелена». – Она умышленно назвала Хелену так, как называл ее когда-то Джонни. – Никогда. Он способен причинить лишь мелкую гадость.
Она сунула карточку в карман.
– Я хочу сохранить ее. Спасибо, Клод.
– Ты можешь взять все, что хочешь, Чармиан, ты ведь знаешь.
– Милый Клод, – сказала она каким-то странным голосом. – Я уже и так взяла все. Тебе даже нечего подарить Элен, когда ты на ней женишься, разве что какое-то нелепое колечко.
– Не беспокойся об Элен. К тому же я не собираюсь форсировать события.
Она поднялась, убрала с ковра разбросанные яркие вещицы, навела порядок в шкафу и заперла его на ключ.
– Ты когда переезжаешь?
– На будущей неделе.
– Я приду и помогу тебе.
Перед уходом она положила мне руки на плечи и заглянула в глаза. Она словно хотела предупредить, что готовится сказать мне что-то неприятное, и просила не сердиться.
– Милый Клод, – наконец произнесла она. – Я надеюсь, я горячо надеюсь, что вся ваша затея лопнет.
– Ты имеешь в виду галерею?
– Да, именно ее. Если бы я не боялась взять грех на душу, я бы молилась об этом.
Когда в тот же вечер мы встретились с Элен, я вдруг понял, что и она от всей души желает того же. Убедили меня в этом не ее слова, а скорее подчеркнутое, демонстративное молчание.
– Как идут дела? – спросила она.
– Неплохо. – И я принялся рассказывать об удачной покупке картины Шаана, о новой секретарше Крендалла и о том, как в последние дни в книге посетителей появилось несколько известных имен.
Она ничего не ответила.
– Не знаю, может, я все же решусь стать партнером Крендалла. Временами я чувствую себя подлецом оттого, что пользуюсь всем, ничего не давая взамен.
– А время? Разве оно не в счет? Ведь вам, кажется, не платят за него, не так ли?
– Как сказать. За последнюю неделю я получил семь фунтов комиссионных от продажи картин.
– А в предыдущую неделю?
Она была похожа на журналистку, которая берет интервью. Я даже мысленно украсил ее хмурое лицо большими очками в роговой оправе.
– А-а, пустяки, – небрежно отмахнулся я.
Она окончательно замкнулась.
После обеда мы решили пойти в кино. Несмотря на то что фильм был довольно интересный, я чувствовал, как Элен буквально лопается от нетерпения и ждет, когда он наконец кончится. Шел дождь, и мы зашли в кафе в Сохо, ярко освещенное и пустое, как операционный зал. Элен даже сострила, спросив у меня, кто сегодня оперирует.
Голос ее был резок, она явно злилась. Усевшись за стол, она застыла в неподвижной позе и категорически отказалась что-либо съесть. Она смотрела, как я уплетаю сандвичи с помидорами, с презрительной брезгливостью, как смотрит мать на чужое невоспитанное дитя.
Зная Элен и зная, чего ей стоит удерживать на кончике языка вот-вот готовые сорваться язвительные замечания, я нарочно делал вид, будто получаю от сандвичей и кофе особое удовольствие – гораздо большее, чем они того заслуживали. Какое-то время нам еще удавалось хранить вполне дружелюбное молчание. Но вот в кафе вошел юноша. Лицо его от ламп дневного света казалось иссиня-бледным, а длинные, падавшие на воротник русые волосы отливали зеленью. Довольный тем, что кафе пусто, с громким вздохом удовлетворения он уселся за соседний столик и раскрыл новый номер журнала поэзии.
Элен, казалось, только этого и ждала.
– Вы должны немедленно бросить работу у Крендалла, – сказала она.
– Почему?
– Потому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Вы должны заняться чем-то настоящим, или вас ждет… – она бросила на юношу уничтожающий взгляд, – вот это.
– Грешен, я тоже люблю поэзию, – ответил я, – и не вижу в этом ничего дурного. Правда, что касается современной, то дальше Элиота я не рискую идти. Не понимаю, почему вы решили отчитывать меня тоном добродетельной матроны, каковой вы, надеюсь, не являетесь?
– Меня это просто возмущает. – Должно быть, она имела в виду не только внешний вид злополучного любителя поэзии. Она буквально впилась в меня пристальным и напряженным взглядом, будто уже видела зримые признаки ненавистного ей перевоплощения. Как и Чармиан, она навязывала мне свою опеку. – У вас просто нет ни малейшего желания взяться… Конечно, вы считаете, что это не мое дело, да?
– Я ничего не считаю. Я просто еще не знаю, что вы хотите сказать.
– Я хочу сказать… Вы, разумеется, сочтете это вздором, но вам следует уйти от Крендалла и заняться настоящим делом. Вы не можете там вечно оставаться.
– Могу, если захочу. Это моя работа, и мне повезло, что я могу заниматься тем, что мне по душе.
– Вернее, не заниматься, ничем?
– Допустим, что так.
– Значит, вы не собираетесь ничего менять?
Она действительно была раздражена больше, чем сама того хотела. Если, бы не этот слишком яркий свет в кафе, возможно, ей удалось бы сдержать себя, но слепящие, как юпитеры, лампы делали нас похожими на боксеров на ринге, и нам ничего не оставалось, как сбросить халаты и поприветствовать толпу.
– Не знаю. Я об этом пока не думал.
– Но вы должны! Неужели вы совершенно лишены честолюбия?
– Почти. По крайней мере, сейчас.
– А знакомо ли оно вам вообще?
– Я всегда был слишком занят, чтобы задумываться над этим.
– Чем вы были заняты?
– Не рычите на меня. Я написал пять книг. Они имели известный успех, у меня есть какое-то имя.
– Почему, – уже перестав сдерживаться, торжествующе воскликнула Элен, – почему же какое-то?
– Потому что я неудачно начал, у меня нет университетского образования, я мало путешествовал и всем, что знаю, я обязан только самому себе. Но главное, я начал с любительской книжонки, где сделал три фактические ошибки и два неверных вывода. Этого мне по сей день не могут простить.
– Однако ваших знаний вполне достаточно, чтобы заняться чем-нибудь серьезным, не так ли?
– Перестаньте понукать меня. Когда я сочту нужным, я займусь поисками чего-нибудь другого, а возможно, не сделаю этого никогда.
– Вы просто-напросто малодушны, – категорически заключила Элен. – Мне все равно, что вы обо мне подумаете, но говорю вам: вы безвольный человек. Вы плыли по течению вслед за Хеленой, теперь готовы плыть за Чармиан.
– Что значит «плыть за Чармиан», объясните, пожалуйста?
– Вы так заняты ее делами, что у вас не хватает времени подумать о себе. Вы ничего не хотите делать для себя, потому что целиком поглощены трагедией Чармиан. Это служит для вас оправданием. Я убедилась в этом.
Я подозвал официанта и расплатился с ним.
– Вы обиделись? – спросила Элен.
– Нет.
Она улыбнулась. Лицо ее тут же стало нежным и добрым. Она, казалось, успокоилась и вздохнула с облегчением, как актриса, удачно сыгравшая роль и готовая снова стать сама собой.
– Да, я вас обидела. Либо надоела вам. В таком случае – простите. Единственное, что меня огорчает, это сознание, что, скажи я вам это другими словами, вы бы выслушали меня и не рассердились. Во всем виноват мой проклятый язык!
– О да, язык змеи, – сказал я. – Не язык, а жало. Пойдемте, уже поздно.
Кто-то вошел и с порога окликнул Элен. Она радостно вскочила со стула.
– Чарльз! Идите к нам! А мы уже собрались уходить. Клод, познакомьтесь – Чарльз Эйрли. А это Клод Пикеринг.
Чарльз Эйрли был очень высокого роста, тучный, в помятом костюме. У него была крупная круглая голова, квадратное добродушное лицо, седеющие белокурые в крутых завитках волосы. Маленькие глазки необыкновенно яркой голубизны смотрели пытливо и внимательно. Взгляд их быстро перебежал с Элен на меня, а потом снова остановился на Элен, и их блеск угас. На вид Эйрли было лет сорок восемь.
– Куда вы? – спросила его Элен. – Домой?
– Куда же еще? Я устал и в скверном настроении. Можно мне сесть за ваш столик? Вы действительно собрались уходить? Подождите. Мне необходимо общество разумных, уравновешенных людей, чтобы избавиться от отвратительного осадка. Элен, Клод!..
Его непосредственность подкупала. Он запросто назвал меня по имени, словно собственных догадок относительно меня было вполне достаточно для более близкого знакомства.
– Вы позволите называть вас по имени, как это делает Элен? Знаете, где я только что был?
– Нет. – В голосе Элен было искреннее любопытство.
– В театре. Не угадаете, что я видел. Я повел сестру и племянницу в театр. Делаю это регулярно раз в год. Сестре захотелось посмотреть «Волшебную луну». – Это была нашумевшая музыкальная комедия, несколько лет пользовавшаяся неизменным успехом у зрителя, потому что считалось, будто она дает ответы на вопросы, волнующие молодое поколение. – Вот где мы были. Думал получить удовольствие и больше всего огорчился, что не получил его. Вы, кажется, заказывали сандвичи с помидорами? Официант, мне сандвичей с помидорами, пожалуйста. А кофе у вас с натуральным молоком или с порошковым? Если с порошковым, тогда, пожалуйста, черный.
– О Чарльз, – с упреком произнесла Элен. – Как могли вы подумать, что пьеса вам понравится?
– А почему бы нет? Ведь многим она все же нравится. Моей сестре, например. Племянница, правда, была возмущена. Ей тринадцать лет, и она мечтает посмотреть Шона О’Кейси. Ужасная интеллектуалка, вроде вас, моя дорогая.
– Я совсем не интеллектуалка, – запротестовала Элен, словно он сказал что-то обидное. – Отнюдь нет, – добавила она. – Чтобы быть ею, у меня нет времени.
– Похоже, что вы жалеете об этом! – ехидно воскликнул Эйрли. – Знаете, Клод, она ужасно переживает, что стала государственным чиновником, а не профессиональным мыслителем.
– Мне все равно приходится профессионально мыслить… за вас, – проворчала Элен; подшучивания Эйрли явно импонировали ей.
– Что верно, то верно. – Эйрли вдруг оставил покровительственно-насмешливый тон, и, когда он внимательно и спокойно посмотрел на Элен, я понял, почему он так нравится женщинам. – Как дела дома, Элен?
– Как всегда.
– Стивен опять чем-нибудь болен?
– О нет. По крайней мере сейчас.
– Не принимайте это близко к сердцу, дорогая.
– Меня беспокоит только одно, ведь он может в любую минуту по-настоящему заболеть, а я ему не поверю.
– Я уверен, что, когда он заболеет всерьез, вы сумеете разобраться, – ласково сказал Эйрли. – Почувствуете сразу, потому что любите его. Вы не должны позволять Элен так беспокоиться об отце, Клод, – обратился он ко мне, словно само собой было ясно, что это входит в мои обязанности. – Она просто изводит себя, это никуда не годится.
Я пока еще не сознавал, насколько серьезно беспокойство Элен об отце.
– Если Элен не в духе, – продолжал Эйрли, и в глазах у него запрыгали бесенята, – так и знайте – ее папаше опять взбрело в голову, что он серьезно болен. А когда Элен не в духе, вывести ее из этого состояния столь же трудно, как убедить ее родителя, что он совершенно здоров, и тогда, ох, как худо приходится тому, кто попадется ей под руку! – Он допил свой кофе и взглянул на белый циферблат стенных часов, на котором из-за слепящего света едва различалась стрелки и цифры. – Я вас, должно быть, задерживаю?
– Нет, Чарльз, – ласково сказала Элен. – Разумеется, нет. Мы так рады, что встретили вас.
– Клод, – произнес Эйрли и внезапно умолк. – Вам нравится ваше имя?
– Нет. Это фантазия моей матушки, но мне как-то не пришло в голову сменить его. Мое имя – одно из самых нелепых английских имен.
– Тогда считайте, что это французское имя. Как французское оно вполне приемлемо. Кстати, это мое второе имя. Вот почему я и спросил вас. Кого из великих людей так звали? Клод Дюваль, Клод Желе, Клод Дебюсси, Клод Моне – все они были французы, ни одного англичанина. Почему это некоторые имена кажутся нам странными, даже нелепыми? Не понимаю. Моего брата звали Уилфред, но мы иначе как Джорджем его не величали. Теперь он уже официально носит имя Джордж, и никто не может запретить ему это.
– Когда человек тебе приятен, как-то безоговорочно принимаешь и его имя, – заметила Элен. – Имя связано с человеком, оно неотделимо от него. – Она улыбнулась мне. – Ваше имя по крайней мере оригинально, а вот мое всего лишь производное от Хелен, Хелены, Эллен, Эллы, Элеоноры и так далее. Это ведь все варианты одного и того же имени.
Ее слова почему-то вызвали у меня смутное беспокойство. Причину его я понял позднее.
Наконец Эйрли поднялся. Мы проводили его до Кембридж-серкус, там он сел в такси. Элен и я вдруг опять вспомнили о нашей ссоре и до Пиккадилли шли в полном молчании, а затем церемонно распрощались.
Воспоминание об этой ссоре в кафе заставило меня вспомнить и замечание Элен относительно ее имени, и я вдруг понял, что так обеспокоило меня тогда. Неужели ее имя привлекло меня к ней? Неужели в женщинах я по-прежнему ищу не только сходства с Сесиль, но еще и сходство с Хеленой? Мне вдруг показалось, что, несмотря на явное различие, между Элен и Хеленой все же есть что-то общее. Обе хотели устанавливать законы, повелевать, руководить. Хелена шла напролом, требовала и угрожала, словно к дубинке, прибегала к ранящей насмешке и неизменно добивалась своего. Элен добивалась власти надо мной скорее своим подчеркнутым молчанием или внезапными резкими и беспощадными атаками.
Небо над Пиккадилли казалось отяжелевшим от звезд, которые напоминали искрящиеся островки на темно-зеленой водной глади. Я думал о путешествиях и открытиях, о кораблях, плывущих мимо неизвестных атоллов, о новых землях, встающих белыми миражами над туманными горизонтами, приветствиях или угрозах на незнакомом языке, встречающих путешественников, и о голосах, поющих непонятные, но прекрасные песни.
Свобода остается иллюзией для тех, кто никогда ее не знал. Если с детства вас приучали к «ответственности», к тому, что домой следует возвращаться не позднее половины десятого, уезжая на каникулы, немедленно посылать домой открытку с извещением о благополучном прибытии, сообщать за завтраком, от кого вы получили письмо, на память знать номер своего страхового полиса, разрешения на пользование радиоприемником и библиотечного абонемента, если все эти вещи – неотъемлемая часть вашего ежедневного существования, тогда вы не знаете, что такое свобода. В силу той или иной случайности мы можем оказаться относительно свободными людьми, вольными ехать или идти, куда нам вздумается, без предупреждения оставить свой дом и так же неожиданно в него вернуться. Мы можем сесть на корабль и уплыть туда, где никто нас не знает и мы не знаем никого. Но, разбив старые цепи, мы уже через неделю начинаем ковать новые. Мы придумаем для себя миллион обязанностей, завяжем уйму новых связей, стремительно воздвигая стены новой тюрьмы, потому что нам так не хватает старой.
В этот майский вечер, когда я стоял в центре города, меня беспокоила лишь одна мысль: какой путь избрать, чтобы обеспечить себе иллюзию максимальной свободы. Думая о поездке в Америку, об этом желанном, полном неизвестности отпуске, я уже знал, что он кончится ничем. Впервые в жизни я мог отправиться в Новый Свет, будучи совершенно свободным и ничем не связанным. Но с самого же начала я был обречен на то, чтобы взвалить на себя груз новых обязательств. Каковы они будут, я еще не знал. Я только знал, что буду искать их и, найдя, жадно ухвачусь за них, ибо не привык к пустоте одиночества.
Однако в любом случае у меня все же сохранится иллюзия свободы. А если я женюсь, я возьму на себя ответственность за другого человека. Здесь уже не будет места иллюзиям. Все станет фактом. А я пока еще избегал смотреть фактам в лицо.
Можно лишь позавидовать тому, кто не в состоянии существовать без посторонней поддержки. Взвалив на других свои обязанности, он, таким образом, обретает полную свободу. Насколько труднее живется тем совестливым беднягам, которые не мыслят жизни без забот о ближних. Сильные люди так или иначе становятся рабами, да и глупцами тоже. Посмотрите на X, на этого явного неудачника, обузу семьи! Он ни на что не годен, в коммерции не смыслит, безнадежно отстал от времени, у него нет никакой финансовой смекалки. Дайте ему в руки тарелку, он и ту уронит на пол, попросите бросить в почтовый ящик письмо – он неделю протаскает его в кармане. Все презирают его за глупость, неловкость и никчемность. Рядом с ним каждый из его братьев и сестер чувствует себя титаном и мудрецом. И все они считают своим долгом заботиться о X, кормить и поить его, будить по утрам, пришивать ему пуговицы, писать за него письма, проверять его счета, приглашать к нему врачей, если он захворает, а если он умрет, так же безропотно возьмут на себя заботу о его вдове. И все это любя и презирая.