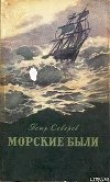Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
А его родители? Лучше ли им живется за их линией Мажино – границей Вестчестерского пригорода? Доктор и миссис Гиршкины прибыли в Штаты, когда им было уже за сорок; от их жизни одним махом отрезали половину, оставившую по себе лишь смутные воспоминания об отпуске в солнечной Ялте, домашнем марципановом печенье, сгущенке, вечеринках в узком кругу на квартире какого-нибудь художника, где водка лилась лунным светом и пересказывались анекдоты про Брежнева. Они покинули своих раритетных петербургских друзей, немногочисленных родственников, всех, кого знали, получив взамен пожизненный срок заключения в отдельных комнатах пустынного мини-дворца в Скарсдейле.
Раз в месяц они ездят на Брайтон-Бич за контрабандной икрой и пикантной колбасой, там их окружают странные новые русские в дешевых кожаных куртках, женщины со свадебными тортами из завитых обесцвеченных волос на головах – абсолютно чуждая раса, которая по чистой случайности кудахчет на родном языке Гиршкиных и – во всяком случае, в теории – разделяет их религиозные воззрения.
Были ли Владимир и его родители петербургскими снобами? Возможно. Плохими русскими? Вероятно. Плохими евреями? Наверняка. Нормальными американцами? И близко нет.
Сидя в одиночестве, во тьме чужеземной спальни, которую он совсем недавно ошибочно принимал за родную, Владимир взял на руки Кропоткина, любимца семьи Руокко, и слезы закапали на гипераллергичный, подстриженный у кошачьего парикмахера мех. В этом адском искусственном климате, созданном Франческой в ее комнате, проказливый кот, анархист, как и его русский тезка, казался удивительно теплым и нежным. Иногда, лежа с Фрэн в постели, Владимир замечал, как Кропоткин смотрит на них – с пристальным кошачьим изумлением, словно только это животное и понимало грандиозность происходящего: правая рука Владимира обхватывает, сжимает, скручивает, гладит, мнет бледную американскую плоть любовницы.
Случались вечера, когда Фрэн, покончив с чтением и погасив настольную лампу, взгромождалась на Владимира, – лицо искажено невероятно сложной гримасой. Она обрушивалась на него с такой силой, что он уже не чуял себя и на ум приходил неприличный термин «вставить»: Франческа буквально вбивала Владимира в себя, словно иначе он обязательно от нее отпадет, словно только это и могло удержать их вместе. Покончив с ним, переждав в полном молчании долгую оргазменную дрожь, она обхватывала его голову и прижимала к костистой перемычке между своими маленькими грудями, оба соска стояли торчком, глядя в разные стороны, и в такой позе они оставались надолго, замерев в посткоитальном объятии, мерно покачиваясь вперед-назад.
То была его любимая часть близости: когда она молчала, насытившись, он же пребывал в блаженном неведении о том, что, собственно, между ними только что произошло, когда они обнимали друг друга так, будто разжать руки означало для обоих неминуемую смерть. Прижимаясь к ней, он обнюхивал и облизывал ее тело; грудь Фрэн была покрыта потом, не русским потом с душком, который Владимир помнил с детства, но американским – лишенным естественности с помощью дезодорантов, потом, у которого был чисто металлический запах, как у крови. И лишь на следующий день, когда они просыпались с первым слабым утренним светом, она бросала взгляд на Владимира и бормотала «спасибо» или «прости»; в любом случае он недоумевал: «За что?»
Спасибо за то, что терпишь меня, думал Владимир, рыдая в мягкого мяукающего Кропоткина. Прости за то, что использую и унижаю тебя. Вот за что.
В тот вечер, когда отличный кальмар, приготовленный Винси, был съеден и две бутылки «Крозе-Эрмитаж» выхлестаны, Владимир отвел Фрэн в спальню, где потряс обоих тем, что осмелился-таки откровенно высказаться:
– Фрэн, ты оскорбила меня сегодня. Ты выразила пренебрежение к моим чувствам. Затем ты высмеяла мой акцент, будто у меня был выбор, где родиться. Это было ужасно. И так не похоже на тебя, абсолютно незрелое поведение. Я хочу… – Он умолк на секунду. – Пожалуйста, я бы хотел услышать извинения.
Фрэнни залилась краской. Даже на губах, фиолетовых от вина, проступила краснота. Ее губы смотрелись очень красиво на фоне падавшей на глаза черной пряди волос и пепельной кожи.
– Извинения? – воскликнула она. – Разве не ты только что назвал меня незрелой? Ты что, совсем идиот?
– Я… Ты… Не могу поверить, что ты говоришь такие вещи…
– Хорошо, я приношу свои извинения. Не в этом дело. Но вот что я хотела сказать, и, надеюсь, ты не примешь это за незрелость: в тебе действительно есть что-то идиотическое. Господи, что они там с вами делают в этом Средне-Западном колледже, с изнеженными сыночками Вестчестера?
– Прошу тебя… – пробормотал Владимир. – Прошу, не надо играть на классовом неравенстве. Твои родители намного обеспеченнее моих…
– О, бедный иммигрант. – Капелька слюны осела на ее нижней губе. – Дайте этому парню грант! Стипендию Гуггенхайма для советских беженцев, умеющих очень сильно любить. Этот приз дается не каждому, Владимир. Тебе, как соискателю, придется представить тело, под завязку набитое любовью. Хочешь, я за тебя похлопочу?
Владимир опустил глаза и сдвинул ступни, словно мать незримо наблюдала за этой сценой.
– Я, пожалуй, пойду, – произнес он.
– Что еще за глупости! – Франческа сердито тряхнула головой. Однако подошла к Владимиру и обняла его веснушчатой рукой. Он учуял запах паприки и чеснока. И какой бы легкой она ни была, Владимир почувствовал, как подогнулись колени под ее тяжестью. – Милый, успокойся, сядь… Что происходит? Куда ты собрался? Ну прости. Пожалуйста, сядь. Нет, только не на мою тетрадку. Вон туда. Давай, перебирайся. А теперь объясни, в чем проблема… – Взяв за подбородок, она приподняла его склоненную голову, легонько дернула за бороду.
– Ты меня не любишь, – сказал Владимир.
– Любовь. Что это, собственно, такое? Ты знаешь, что это такое? Я не знаю.
– Ты не уважаешь мои чувства.
– А так вот что такое любовь. Любопытное определение. Владимир, ну зачем нам ссориться? Ты пугаешь меня до смерти. Зачем ты меня пугаешь, дорогой? Люблю ли я тебя? Какая разница? Мы вместе. Нам хорошо друг с другом. И мне двадцать один год.
– Знаю, – уныло произнес Владимир. – Мы еще молоды и не должны бросаться такими словами, как «любовь», «отношения» или «будущее». Русские рано женятся, что невероятно глупо. Они никогда не готовы к браку, а потом растят детей-кретинов. Мать родила меня в двадцать четыре, поэтому я не могу с тобой не согласиться. Но, с другой стороны, то, что ты сказала…
– Мне очень жаль, – перебила Франческа. – Мне очень жаль, что я была резка с тобой сегодня. Просто иногда я тебя не понимаю. Разве может мужчина, умный, достаточно образованный, которому есть куда пойти, разве может такой мужчина пожелать таскаться со мной целый день в поисках зубной щетки? О чем это говорит?
– О чем это говорит? – Владимир вздохнул. – О том, что мне одиноко. Это значит, что я одинок.
– Да с какой стати? Ты каждый день без исключения проводишь со мной, у тебя полно новых друзей, которые, между прочим, считают, что встретить в Нью-Йорке столь любопытного человека – большая удача, и снисходительностью тут даже и не пахнет… А мои родители. Они же приняли тебя как родного. Они любят тебя. Отец любит тебя… А ну-ка! – Она вскочила на кровать и принялась колотить по стене, отделявшей ее спальню от спальни родителей. – Мама, папа, идите сюда! У Владимира кризис!
– Что ты делаешь? – закричал Владимир. – Прекрати! Я принимаю твои извинения!
Но через минуту, когда шум и грохот по обе стороны стены стихли, отец с матерью гуськом вошли в мавзолей Франчески. Оба professori[16]16
Профессора (итал.).
[Закрыть] были одеты в шелковые пижамы, сочетавшиеся по цвету; Джозеф сжимал в руке стакан со спиртным.
– Что такое? – пискнула Винси, недоуменно оглядываясь и пытаясь разглядеть происходящее сквозь очки для чтения. – Что случилось?
– Владимир считает, что я не испытываю к нему никаких чувств, – объявила Фрэн, – и что он совсем один на этом свете.
– Какая чепуха! – пророкотал Джозеф. – Кто тебе такое сказал? Владимир, давай-ка, глотни арманьяка. Это успокаивает нервы. Вы оба выглядите такими… встрепанными.
– Что ты с ним сделала? – осведомилась Винси. – Ты опять слегка не в себе? С ней это бывает, ничего страшного.
– Опять слегка не в себе? – передразнила Франческа. – А ты, мама, опять с катушек съехала?
Джозеф Руокко сел на кровать рядом с Владимиром и обнял удрученного молодого человека. От Руокко пахло чистым спиртом и перебродившим виноградом, тем не менее держался он твердо и уверенно.
– Расскажи, что произошло, Владимир, и я постараюсь вас рассудить. Молодые нуждаются в советах старших. Рассказывай.
– Ничего особенного, – прошептал Владимир. – Все уже наладилось…
– Скажи ему, что любишь его, папа, – попросила Фрэн.
– Фрэнни! – закричал Владимир.
– Я люблю тебя, Владимир. – Профессор Джозеф Руокко хоть и был пьян, но каждое слово произносил с отменной убедительностью.
– И я тебя люблю. – Винси освободила себе место на кровати, села и дотронулась рукой до щеки Владимира, бледной, абсолютно бескровной. Все втроем они воззрились на Фрэнни.
Та уклончиво улыбнулась. Затем взяла на руки Кропоткина, проходившего мимо, и почесала его толстый живот. Кот смотрел на нее выжидающе. Все ждали, какой вердикт она вынесет.
– Ты мне очень нужен, – сказала она Владимиру.
– Вот видите! – обрадовался Джозеф. – Мы все любим Владимира и все нуждаемся в нем, каждый, разумеется, на свой лад… Послушай, Влад, в нашей семье ты занимаешь очень важное место. У меня есть дочь, единственная дочь. Думаю, твои родители хорошо понимают, что значит иметь единственную дочь… И она блестящая девочка… Не красней, Фрэнни, и не затыкай мне рот, я знаю, что говорю.
– Папочка, пожалуйста, – пробормотала она не совсем с упреком.
– Но за блестящий интеллект надо платить. Я не стану припоминать прецеденты, Владимир мариновался в нашей культуре достаточно долго, чтобы осознать место американской интеллигенции на здешнем тотемном столбе. Владимир понимает, что человек, которому предназначены великие свершения, часто самый несчастный человек на свете. И кто знает, где бы я был сейчас, если бы не Винси. Я люблю тебя, Винси. Если уж мы тут заговорили о любви, то почему бы не сказать тебе об этом. До того, как я встретил Винси, хм… я бывал резок, скажем так. И не очень-то со мной носились. А Фрэнни…
– Папа!
– Давай начистоту, доченька. Ты не самый легкий человек для совместной жизни. Уверен, что бы ты ни наговорила сегодня Владимиру, ты высказывалась необузданно и несправедливо.
– Необузданно, – встряла Винси. – Очень верно подмечено.
– Спасибо, Винси. Вот к чему я клоню: на свете не много людей, которые могут управиться с нашей Фрэнни. Но ты, Владимир, наделен удивительным смирением, прямо-таки сверхчеловеческой способностью терпеть… Возможно, это черта русского характера, ведь когда целый день стоишь в очереди за колбасой… Ха-ха, шучу. Но в остальном я абсолютно серьезен. Мы знаем, что ты можешь ужиться с гением Фрэнни, Владимир, возможно даже, время от времени тебе придется поддерживать в ней этот огонь. Я не уговариваю вас пожениться. Я лишь веду речь о том… А о чем, собственно, я веду речь?
– Мы любим тебя, – подытожила Винси. Потянувшись вперед, она поцеловала Владимира в губы, позволив ему ощутить вкус многих вещей. Лекарства. Крема. Кальмара. Выпивки.
Что ж, Руокко высказались исчерпывающе. Поцелуи стали даже излишеством. Они были искренни с ним.
И он наконец понял динамику происходящего.
Эта динамика была в немалой степени задана родительской прозорливостью, и спустя полтора месяца, после поселения Владимира в их доме, вот что было у Руокко на уме.
Они заживут одной семьей. Не слишком радикально отличающейся от традиционной русской семьи, если уж на то пошло. Та же коммунальная квартира, два поколения, разделенные хлипкой стенкой; шум, издаваемый молодой парой в постели, успокаивает стариков: их род не исчезнет. Владимир займет место рядом с Фрэн. Жизнь будет неровной и странной, но не более странной и определенно не более ужасной, чем та, что была у него прежде. По крайней мере, в глазах Руокко отсутствие амбиций у Владимира являлось скорее добродетелью, чем пороком. И ходить по-еврейски он сможет сколько душе угодно. Разворачивать ступни вправо-влево, напялить клоунские башмаки, если пожелает, и шлепать в них к супружескому ложу, прихлебывая по пути вечный арманьяк, – и никто ему слова не скажет.
Как гласит кухонная мудрость Винси, «стоит ли возиться с мальками, когда у нас есть рыбина покрупнее?».
Ему предлагают компромисс, не самый плохой компромисс. Отныне он никогда не будет одинок в Америке. Никогда не обратится к Гиршкиным за сомнительным родительским утешением и не проведет ни одного дня в качестве мамочкиного фейлрушки. В возрасте двадцати пяти лет он родится в новой семье.
И совершенно самостоятельно достигнет конечной цели каждого иммигранта: дом краше прежнего и такой же несчастливый.
В ту ночь, когда профессора удалились в свою спальню и покой был восстановлен, когда натуральную зубную щетку извлекли из матерчатого футляра, сшитого вручную, и ее нежные щетинки прошлись по их деснам, Фрэн закутала Владимира в одеяло, подложила ему под голову самую пухлую подушку и поцеловала, пожелав спокойной ночи.
– Просто расслабься, – сказала она. – Все у нас будет о'кей. Пусть тебе приснится что-нибудь хорошее. Пусть тебе приснится наше путешествие на Сардинию в будущем году.
– Ладно. – Он впервые слышал о путешествии на Сардинию, но удивления не выразил: впредь ему придется принимать такие вещи на веру.
– Скажи честно, – спросила Франческа, – ты ведь не ненавидишь меня?
– Нет. – И это было правдой.
– Обещай, что не бросишь меня… Просто пообещай.
– Не брошу.
– А завтра пойдем выпьем с Фрэнком. Вот уж кто любит тебя как сумасшедший.
– О'кей, – шепнул Владимир.
Он закрыл глаза и немедленно провалился в сон. Они лежали на пляже, на юге Сардинии, небо было таким безоблачным, что он даже мог разглядеть звонницы Калигари вдали. Они лежали голыми на одеяле, и у него была эрекция, необузданная эрекция, пользуясь выражением Джозефа. Он вошел в нее почтительно, сзади, удивляясь, до чего она суха внутри, а также ее полному молчанию – ни протеста, ни стонов страсти. Обеими руками он раздвинул белые с ямочками ягодицы и медленно, с огромным трудом, проник в ее хрупкое тело.
Пока он этим занимался, Фрэн лизнула указательный палец, перевернула страницу безымянного журнала, который читала, и, зевнув, нацарапала пространные комментарии на полях. Фламинго наблюдали за ними с сардинской непроницаемостью, а рядом под пляжным зонтом с выведенным по трафарету названием pensione[17]17
Пансионат (итал.).
[Закрыть] Винси Руокко ублажала орально своего мужа.
6. Первый бал Владимира Гиршкина
Между прочим, Фрэнни была права: славянофил Фрэнк действительно любил его как сумасшедший. И не он один.
Вне стен его нового семейного бастиона, с лоджии-террасы которого открывался великолепный вид на город-сказку Нью-Йорк, Владимир обрел признание среди расслабленных, подозрительного вида парней из Нижнего Манхэттена, в основном белых, с диковатыми именами вроде Хишем или Баньяна и случайно затесавшихся в их компанию каких-нибудь скромных Тэмми Джонсов, изгнанников из рабочего класса. У этих убежденных хипстеров, законсервировавшихся с рок-н-ролльных времен, существовавших за счет собственной изворотливости и одуряющего фанка, музыки самых юных, возникла столь жадная потребность в нашем герое, что Владимир вскоре обнаружил: его рабочий день выродился в придаток к часам отдыха. Настоящая жизнь начиналась с той минуты, когда последнего беженца проворно выставляли из Общества абсорбции иммигрантов им. Эммы Лазарус ровно в 16.59.
Он регулярно виделся с Фрэнком. Вдвоем они совершали прогулки от дома славянофила, осененного покровительством Кирилла и Мефодия, по продуваемой ветрами (даже поздним летом) Риверсайд-драйв, беседуя исключительно на великом и могучем. Иногда они добирались даже до Алгонквина, где их поджидала Фрэн. Алгонквин был частью старого Нью-Йорка, который Фрэн обожала, – ностальгия, более чем понятная Владимиру, ведь он тоже скучал по тонированной сепией родительской России – покрытой сажей и неуютной вселенной, но не лишенной своеобразного очарования. Они устраивались за круглым столиком, за которым сиживала Дороти Паркер[18]18
Дороти Паркер (1893–1967) – американский поэт, новеллист; в истории литературы США встречи Паркер с друзьями-литераторами в кафе Алгонквина известны как «алгонквинский круглый стол».
[Закрыть], и Владимир покупал Фрэнку мартини за семь долларов.
– Семь долларов! – восклицал Фрэнк. – Боже милостивый! Я еще кое-что значу для моих друзей.
– Семь долларов! – восклицала Фрэн. – Ты балуешь Фрэнка больше, чем меня. Это… гомоэротично.
– Возможно, – говорил Фрэнк. – Но не забывай, у Владимира широкая русская душа. Деньги его не заботят. Дух товарищества и бескорыстная помощь, вот его отличительные черты.
– Он еврей, – напоминала Фрэн.
– Но русский еврей, – с торжеством парировал Фрэнк, шумно прихлебывая дармовую выпивку.
– Все для народа, – бормотал Владимир. Однако при виде счета его широкая душа содрогалась внутри волосатой телесной клетки. Суровая правда заключалась в том, что за тридцать один августовский день Владимир истратил почти 3000 долларов; след этих денег, горевший, как хвост кометы, прочертил Манхэттен следующим образом:
ОСТАВЛЕНО В БАРАХ: $875,00
КНИГИ В БУМАЖНЫХ ОБЛОЖКАХ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ: $450,00
РАДИКАЛЬНАЯ СМЕНА ГАРДЕРОБА $650,00
РЕТРООБЕДЫ, ЭТНИЧЕСКИЕ ЗАВТРАКИ, УЖИНЫ С КАЛЬМАРОМ И САКЕ: $400,00
РАСХОДЫ НА ТАКСИ: $ 350,00
РАЗНОЕ (воск для бровей, выдержанный уксус с бальзамом для Руокко, бутылки кальвадоса, без которых нельзя пойти в гости): $ 275,00.
К концу августа он остался без гроша. Опозоренная кредитная карта (первая карта с родовым именем Гиршкиных) преодолевала путь на север из столицы ростовщичества, города Уилмингтона, штат Делавэр. Скорбная мысль мелькала в голове Владимира: а не попросить ли отца Фрэнни о небольшом вспомоществовании?.. Скажем, в размере десяти тысяч. Но разве он уже не задолжал Руокко за кров и стол? Не говоря уж о щедрых родственных объятиях и поцелуях открытым ртом? Просить у них еще на карманные расходы?.. Какая наглость.
Для Владимира оставалось загадкой, каким образом его новые друзья – теоретически голодные студенты – с легким сердцем угощают выпивкой всю компанию в баре «Обезьяна» или покупают, не задумываясь, леопардовую шляпу в стиле Мобуту. Верно, Руокко унаследовали с полдюжины крепостей с чугунными решетками, разбросанных по всему городу, а семья Фрэнка владеет несколькими штатами, упрятанными в американской глуши. И тем не менее все они смотрели на Владимира как на богача, источник милостей, филантропа, только потому, что он получал зарплату.
Но если уж на то пошло, почему бы Владимиру впервые в жизни не пожить на широкую ногу?
Только взгляните на него! Вот он на открытии выставки произведений искусства из какого-нибудь Вильямсбурга, он ухмыляется, насмехается, язвит, притворяется, будто оскорблен в лучших эстетических чувствах, тонко издевается над владельцем галереи (неудавшимся концептуалистом), на другом конце зала сияющая Франческа манит его рукой, а пьяный Адонис Тайсон, не отрываясь от винной карты, выкрикивает на весь зал его имя: ему срочно понадобилось уточнить отчество Булгакова.
Минуло тринадцать лет с тех пор, как он, больной, лежа в постели и сморкаясь в платок, читал у Толстого про балы в Зимнем дворце. А теперь, похоже, Владимир наконец нашел выход в свет, теперь наш дебютант выступает в роли графа Вронского для манхэттенской знати, щеголяющей в клетчатых штанах для боулинга и сверкающей нейлоновым блеском модных тряпок. Слухи о Новом Свете оказались достоверными: в Америке улицы и впрямь вымощены золотом.
Но Халу он не позабыл. Точнее, помнил о плате за квартиру: без его взносов Хала станет бездомной. Она даже не могла подселить в квартиру друзей. Потому что их у нее не было. Прошло два месяца, как он последний раз появлялся по своему юридическому адресу на авеню Б. Алфабет-сити отошел в область преданий, и его романтическая бедность более не грела душу.
На следующий день Владимир оказался на авеню Б. Сидя на кухне, он заполнял бланк заявления на вторую кредитную карту. На улице жарили кур. Закрыв глаза и вытряхнув из ушей городскую какофонию, Владимир сумел вообразить, будто он находится в Вестчестере, за девять железнодорожных станций отсюда, и жарит там сосиски с Гиршкиными.
И тут вошла Хала.
Все равно что вынырнула с затонувшей Атлантиды, до того чужой показалась Владимиру эта безразмерная женщина с густо-черным макияжем и оголенным животом; из проколотого пупка убедительным доказательством очередного самокалечения свисал тяжелый серебряный крест. Как это похоже на Халу – ни во что не врубаться: ведь если маленькие сережки в носу – модная струя, то от распятия между пупком и пахом за версту несет Коннектикутом.
Владимир так разволновался, увидев ее, что машинально встал, позабыв о заявке на кредитную карту, и впервые с тех пор как пришел сюда, огляделся: упряжь, плеть, «Кей-Вай», маскировка под логово порока, от вида которого Дориана Грея хватил бы удар на месте. И это он называл своим домом! Возможно, мать была кое в чем права.
Хала, напротив, взволнованной не выглядела.
– Где деньги? – спросила она.
Переступив через неизвестно откуда взявшуюся кучу искусственного меха, преграждавшую путь на кухню, она открыла кран, чтобы помыть руки.
– Какие деньги?
Деньги, деньги…
– За квартиру, – послышался ответ с кухни.
Те самые деньги.
– У меня есть две сотни.
Хала в мгновение ока вернулась в комнату и встала, уперев руки в бока.
– А еще две сотни?
Он никогда прежде не видел ее в этой позе (игравшей столь важную роль в ее профессии), ему такое ни разу не демонстрировали. За кого она его принимает? За клиента?
– Дай мне несколько дней, – сказал он. – У меня проблемы с поступлением наличных.
Она сделала шаг к нему, он отступил на шаг к пожарной лестнице – месту, отчетливо вспомнил Владимир, их первых ласк, ныне превратившемуся в путь к спасению. Лестница на всякий пожарный случай. Точно.
– Никаких нескольких дней. Если я не заплачу до пятого числа, Ионеску сдерет с меня лишний тридцатник.
– Скотина, – выругался Владимир, надеясь вызвать в ней чувство солидарности.
– Скотина? – переспросила она и умолкла, словно взвешивая слово на языке.
Владимир выставил руки перед собой. Он готовился отразить исполненное мощи сравнение между ним и Ионеску. Но Хала сказала:
– Наверное, мне стоит поискать другого соседа?
Выходит, его низвели до положения долевого квартиросъемщика. Когда успели?
– Любимая, – брякнул он вдруг.
– Сам ты скотина, – сказала она, помолчав, но эмоции явно поувяли за минувшее время. Теперь ее слова были лишь констатацией факта. – Не желаю с тобой разговаривать, пока не принесешь остальные деньги. – Посторонившись, она указала Владимиру на дверь.
Проходя мимо Халы, он почувствовал перемену в температуре; ее тело всегда пребывало в глубоком контакте с окружающей средой, и ему захотелось утешить ее, обняв, – жест, который он довел до совершенства, общаясь с Франческой. Но он лишь произнес:
– Деньги будут завтра. Обещаю.
Владимир вышел на улицу. Было воскресенье, 1 сентября. В некотором смысле он стал бездомным, но жара кутала его в многослойные покровы, и, конечно, Франческа и новая родня обитали всего в шести авеню к западу. Да, унижение. Оно всегда оставляло во рту слабый уксусный привкус, а когда исходило от женщины, у Владимира возникало настоятельное желание повидать отца, давно пристрастившегося к ударам, наносимым его самолюбию.
Хала изрядно поднаторела в своем ремесле.
И Владимиру нужны были деньги.