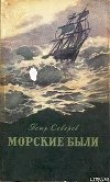Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Гари Штейнгарт
Приключения русского дебютанта
Моим родителям
Часть I
Нью-Йорк
1993
1. История Владимира Гиршкина
История Владимира Гиршкина – отчасти как у Ф. Т. Барнума[1]1
Барнум, Финеас Тейлор (1810–1891) – легендарный американский антрепренер, чья деятельность распространялась как на высокие, так и на низкие жанры искусства (в частности, оперу и цирк). – Здесь и далее примеч. перев.
[Закрыть], отчасти как у В. И. Ленина, покорившего пол-Европы (хотя и не ту половину, какую надо было), – начинается очень похоже на многие другие истории. Утром в понедельник. В офисе. В комнате для персонала с первой чашкой растворимого, с бульканьем ожившего кофе.
История Владимира Гиршкина начинается в Нью-Йорке, на углу Бродвея и Баттери-плейс, в самом обшарпанном, богом забытом и бесприбыльном закоулке финансового района города. На десятом этаже башни, занимаемом Обществом абсорбции иммигрантов им. Эммы Лазарус, клиентов встречали их давние знакомые по мрачным госучреждениям третьего мира – желтые стены с подтеками и умирающие гортензии. В приемной, под воздействием мягких, но настойчивых понуканий квалифицированных ассимиляторов, турки заключали перемирие с курдами, тутси покорно вставали в очередь за хуту, а у демилитаризованного питьевого фонтанчика сербы переговаривались с хорватами.
А тем временем в тесном офисе без окон младший служащий Владимир Гиршкин – чистой воды иммигрант, законченный экспатриант, вечная жертва розыгрышей, припасенных уходящим двадцатым веком, и сомнительный герой нашего времени – налегал на первый за утро сандвич с сопрессато, авокадо и двойной порцией специй. Как он любил неумолимую жесткость сопрессато и маслянистое, нежное нутро авокадо! И если спросить Владимира, на Манхэттене летом 1993-го ничего лучше этих водившихся в изобилии и по-янусовски двуликих сандвичей и не было.
В тот день Владимиру исполнилось двадцать пять. Двенадцать лет он прожил в России, тринадцать провел здесь – вот сумма его жизни. И теперь эта жизнь разваливалась на куски.
Нынешний день рождения грозил стать худшим за прожитые годы. Ближайший друг Баобаб отрабатывал во Флориде плату за квартиру, выполняя немыслимые поручения непонятных людей. Мать, возмущенная скудостью достижений первой четверти Владимирова века, не таясь встала на тропу войны. И, будто этого мало, 93-й стал годом Девушки. Неказистой, приземистой американской девушки, чьими огненно-оранжевыми волосами было выстелено пристанище Владимира в Алфабет-сити, словно там прошлась орда ангорских кроликов.
Девушки, чьи приторно-сладкие духи с запахом ладана и мускуса окутывали немытое тело Владимира, вероятно, затем, чтобы напомнить, что его ждет вечером в день рождения. Секс. Каждую неделю, раз в неделю они были обязаны заниматься сексом, потому что оба, он и дебелая Хала, сознавали: без еженедельного секса их связь, повинуясь некоему неписаному закону взаимоотношений, лопнет.
Итак, вечерний секс и Хала. Толстощекая Хала с насупленными бровями и носом-редиской, похожая на провинциальную мамашу, несмотря на драные черные футболки и «готические» браслеты с распятиями, приобретенные в самых навороченных лавках Нижнего Манхэттена. Вечерний секс – предложение, от которого Владимир не смел отказаться, учитывая перспективу пробуждения в абсолютно пустой постели; то есть пустой, за исключением одинокого Владимира. Он хорошо помнил, как оно бывает. Открываешь глаза, поворачиваешься и утыкаешься взглядом в… будильник. Деловитый, несговорчивый будильник, от которого, в отличие от любовницы, не услышишь ничего, кроме «тик-так».
Вдруг из приемной до Владимира донесся неистовый хрип ПОЖИЛОГО русского:
– Опа! Опа! Товарищ Гиршкин! Ай-ай-ай!
Проблемные клиенты. В понедельник утром они являются первыми точно к открытию, выползают из однокомнатных квартирок на Брайтон-Бич, проведя выходные за военным советом со своими скользкими друзьями, за репетицией жалобных речей и гордых поз перед зеркалом в ванной.
Придется принять меры. Собравшись с духом, Владимир встал. Он был один в офисе; за точку отсчета, кроме мебели – детсадовских столов и стульев, – взять было нечего, и Владимир внезапно почувствовал себя необычайно высоким. Двадцатипятилетний мужчина в рубашке из оксфордки, пожелтевшей под мышками, потрепанных брюках с нелепо обвисшими манжетами и ботинках с черными отметинами бытового пожара на носах и по краям, он возвышался надо всем, что его окружало, как одинокий небоскреб, выстроенный в Квинсе, на берегу Ист-ривер. Но Владимир обманывался: он был мал ростом.
В приемной он увидел щуплого охранника из Лимы припертым к стенке. Коренастый русский старикан, принаряженный, как водится, в тряпье с блошиного рынка, с шестидолларовым «ежиком» на голове, орудуя костылями, зажал паренька в тиски и теперь примеривался, как бы половчее укусить пленника стальными зубами. Увы, при первых признаках межнационального конфликта туземные служащие позорно бежали, побросав кофейные кружки с надписью «Гарлем, США» и пакеты с логотипом Бруклинского музея. Лишь один младший служащий Владимир Гиршкин остался ассимилировать массы.
– Нет! Нет! Нет! – закричал он по-русски. – С охраной так нельзя.
Обернувшись на голос, сумасшедший старик брызнул СЛЮНОЙ:
– Гиршкин! Это ты!
Одним сильным движением он оторвался от охранника и заковылял к Владимиру. Старик особой статью не отличался, а под тяжестью зеленого рюкзака на спине казался еще ниже. Одна сторона его небесно-голубой рубашки в латиноамериканском стиле от груди до пупка была увешана советскими военными медалями; награды наискось оттягивали воротник, обнажая жилистую крепкую шею.
– Что вам от меня надо? – спросил Владимир.
– Что мне от тебя надо! – заорал русский. – Черт побери, какая спесь! – Трясущийся костыль нацелился в грудь Владимира. Безумец изготовился к бою. – Я звонил тебе в прошлом месяце, – заявил старикан. – Ты был такой культурный по телефону, припоминаешь?
Культурный? Тогда это был точно Владимир. Он внимательно посмотрел на человека, испортившего ему утро. Широкое славянское (то есть не русско-еврейское) лицо с паутиной морщин, таких глубоких, словно их вырезали перочинным ножиком. Кустистые брежневские брови во весь лоб. Островок волос, все еще русых, неподвижно покоившийся строго на географическом центре лысины.
– Мы разговаривали, э? – произнес Владимир безучастным – «мне все до фонаря» – тоном советского чиновника. Особенно ему нравилась частица «э».
– Ну да! – подхватил старикан.
– И, э, что я вам сказал?
– Сказал прийти сюда. Мисс Хароссет тоже сказала прийти сюда. Вентилятор сказал прийти сюда. Вот я и сел на пятый поезд до Боулинг-Грин, как ты велел, – закончил инвалид с довольным видом.
Владимир начал пятиться к двери офиса. Вернувшийся на пост охранник недовольно бурчал себе под нос на родном языке, застегивая рубашку. Владимир почувствовал, что он что-то упускает. Давайте-ка сначала: сердитый славянин, прибитый охранник, низкооплачиваемая идиотская работа, без толку растраченная юность; вечерний секс с Халой. Ах да…
– Какой вентилятор?
– Тот, что стоит у меня в спальне, – фыркнул старикан, поражаясь непонятливости собеседника. – У меня два вентилятора.
– «Вентилятор сказал прийти сюда», – повторил Владимир.
И у него два вентилятора. Ясно, мгновенно сообразил Владимир, это не проблемный клиент. Это развлекающийся клиент. Такие приходят сюда как в луна-парк Являются спозаранку и резвятся весь день.
– Знаете что, – обратился Владимир к Вентиляторному, – давайте пройдем в мой кабинет и вы расскажете все по порядку.
– Браво, парень! – Вентиляторный победно отсалютовал охраннику, своей недавней жертве, и заковылял в офис. Там он тяжело опустился на холодный пластиковый стул и, поднатужившись, снял со спины рюкзак.
– Начнем вот с чего. Как вас зовут?
– Рыбаков, – ответил Вентиляторный. – Александр. Или просто Алекс.
– Будьте добры… расскажите о себе. Конечно, никто не лезет вам в душу…
– Я – псих, – сообщил Рыбаков. Огромные брови утвердительно дернулись, и старикан улыбнулся с ложной скромностью ребенка, явившегося в школу на день открытых дверей с папой-космонавтом.
– Псих! – воскликнул Владимир, пытаясь изобразить воодушевление. Он уже навидался русских сумасшедших, с порога докладывавших о своем диагнозе, для некоторых диагноз стал профессией или даже призванием. – И это официально подтверждено?
– Не раз. Я под наблюдением, так сказать, – ответил Рыбаков, заглядывая под стол Владимира. – Знаешь, я даже отправил в «Нью-Йорк таймс» письмо на имя президента.
Он протянул мятый листок бумаги, вонявший алкоголем, чаем и его собственной потной ладонью.
– «Дорогой мистер Президент, – прочел Владимир. – Я – русский моряк в отставке, славный воин, сражавшийся с фашистскими захватчиками во Вторую мировую войну, и официально признанный параноидальный шизофреник Уже более пяти лет я живу в Вашей чудесной стране, пользуясь огромной моральной и финансовой поддержкой дружелюбного и сексуально продвинутого американского народа. В России душевнобольных престарелых граждан запирают в ветхие больницы, их каждый божий день оскорбляют молодые хулиганы, которые почти ничего не знают о Великой Отечественной войне и не проявляют никакого уважения к старшим, дравшимся до последней капли крови с поганой немчурой. В Америке я имею возможность вести полнокровную, насыщенную жизнь. Покупать продукты, какие мне по вкусу, в супермаркете «Слоун» на углу 89-й улицы и Лексингтон. Смотреть телевизор, особенно передачу про смешного черного лилипута на Пятом канале. И я помогаю защищать Америку, вкладывая часть моего социального пособия в компании вроде «Мартин Мариетта» и «Юнайтед Текнолоджиз». Скоро я стану гражданином Вашей великой страны и получу возможность выбирать руководителей (не то что в России). Вот почему, мистер Президент, я желаю Вам, и Вашей соблазнительной жене, и расцветающей дочке много-много здоровья в Новом году. С почтением, Александр Рыбаков».
– У вас безупречный английский.
– А, это не моя заслуга, – отмахнулся Вентиляторный. – Переводила мисс Хароссет. Будьте уверены, она точно следовала оригиналу. Она хотела написать «немцы» вместо «немчура», но я не позволил. Надо писать как чувствуешь, сказал я ей.
– И в «Нью-Йорк таймс» опубликовали ваше письмо? – полюбопытствовал Владимир.
– Их кретины-редакторы половину выбросили. – Мистер Рыбаков задергал рукой, делая вид, будто вычеркивает слова. – Американская цензура, приятель. Как можно вымарывать слова из поэмы! В общем, я велел мисс Хароссет подать на них в суд. Ее сестренка гуляет с важной шишкой из местной прокуратуры, так что, думаю, наше дело правое.
Мисс Хароссет. Наверное, прикрепленный к Рыбакову социальный работник Владимир глянул на бланк, который следовало заполнить. Богатый и своеобразный психоз разворачивался перед ним, угрожая сверзиться с тощей строчки, выделенной для «психического состояния клиента». Он ощутил беспокойство, связал его с прохождением кофе по кишечнику и принялся выстукивать пальцами мелодию «Интернационала» на металлической столешнице – нервная привычка, унаследованная от отца. За несуществующими окнами тесного офиса, в каньонах финансового района бурлили рационализм и неизбывная надежда на коммерческий успех: секретарши из пригородов сравнивали цены на косметику и колготки, выпускники Плющевой Лиги[2]2
Плющевая Лига – общее название для старейших университетов Новой Англии, кующих интеллектуальную элиту США.
[Закрыть] заглатывали целиком и с наслаждением морских окуней. Здесь же были только двадцатипятилетний Владимир и несчастные, сбившиеся в кучу массы, жаждавшие обрести свободу. Раздумья Владимира прервал клиент, пыхтевший и сопевший, как перегревшийся радиатор.
– Послушайте, Рыбаков, – сказал Владимир. – Такому эмигранту, как вы, можно только позавидовать. Получаете социальное пособие. Публикуетесь в «Таймс». Ума не приложу, что еще я могу для вас сделать.
– Жулики! – завопил Рыбаков, снова хватаясь за костыль. – Прохиндеи! Они не хотят давать мне гражданства! Они прочли письмо в «Таймс». И знают про вентилятор. Про оба вентилятора. Бывает, летом по ночам лопасти немного ржавеют, тогда их надо смазать кукурузным маслом. Так вот, они услыхали «трик-крак, трик-крак» и напугались! Напугались старика-инвалида! Трусы есть в любой стране, даже в Нью-Йорке.
– Верно, – согласился Владимир. – Но, думаю, мистер Рыбаков, на самом деле вам нужен юрист по иммиграционным делам… Я же, к сожалению…
– Да знаю я, кто ты, цыпленочек, – перебил Рыбаков.
– Прошу прощения? – Последний раз Владимира называли «цыпленочком» лет двадцать назад, когда он и впрямь был маленьким, неуклюжим созданием с невесомым золотистым пушком на голове.
– Прошлой ночью вентилятор спел мне былину, – поведал Рыбаков. – Под названием «Сказание о Владимире Гиршкине и его матушке Елене Петровне».
– Мама, – прошептал Владимир, не зная, что еще добавить. В русской компании это слово обладает статусом священного заклятия и в комментариях не нуждается. – Вы знакомы с моей матерью?
– Мы пока не имели счастья быть официально представленными друг другу. Но я читал о вашей матушке в деловой хронике «Нового русского мира». Какая еврейка! Гордость вашего народа. Волчица капитализма. Гроза скрытых фондов. Царица жестокосердная. О несравненная Елена Петровна. И вот я сижу и разговариваю с ее сыном! Он наверняка знает, к кому из этих подлых агентов Службы иммиграции и натурализации следует обратиться, – возможно, к коллегам-иудеям.
Владимир выпятил верхнюю губу и вдохнул животный аромат усов – успокаивающая процедура.
– Ошибаетесь, – произнес он. – Я не могу вам ничем помочь. Мне недостает маминой прозорливости, у меня нет друзей в СИН… у меня нигде нет друзей. Яблочко от яблони далеко укатилось, как говорится. Мама, может быть, и волчица, но посмотрите на меня… – Он обвел рукой свой убогий кабинет.
В этот момент двойные двери распахнулись и с опозданием на двадцать минут на пороге появились китаянка и гаитянка – младшие служащие и сотоварищи Владимира по безоконному офису, – нагруженные свежими булочками и кофе. Коллеги не торопясь усаживались за столы с табличками «Китай» и «Гаити», подбирая длинные летние прозрачные юбки. Когда Владимир снова повернулся к клиенту, на столе лежали десять стодолларовых купюр веером, десять ликов Бенджамена Франклина с поджатыми губами.
– Ой! – Владимир инстинктивно схватил твердую валюту и поместил в карман рубашки. Оглянулся на интернациональных коллег. Не подозревая о только что совершенном преступлении, те уплетали булочки, весело обсуждая рецепты гаитянского печенья и как узнать, порядочный мужик или нет.
– Мистер Рыбаков! – зашептал Владимир. – Что вы делаете? Нельзя предлагать мне денег. Здесь вам не Россия!
– Везде Россия, – философски отозвался Рыбаков. – Куда ни поедешь, кругом одна Россия.
– А теперь положите руку на стол ладонью вверх, – проинструктировал клиента Владимир, – я быстро вложу в нее деньги, а вы уберете их в бумажник, и будем считать вопрос закрытым.
– Ты меня не убедил, – произнес Рыбаков с ослиной невозмутимостью. – Знаешь что? Идем ко мне в гости. Поговорим. По понедельникам Вентилятор любит попить чайку пораньше. Ну и «Джека Дэниелса» отведаем, и белуги, и сочной осетринки. Я живу на Восемьдесят седьмой, сразу за музеем Гуггенхайма, этим безобразием. Но пентхауз у меня приличный, с видом на парк, и холодильник имеется, «Саб-Зироу»… Куда цивилизованнее, чем здесь, сам увидишь… Да плюнь ты на работу. Помогать эквадорцам перебираться в Америку – пустое занятие. Давай дружить!
– Вы живете в Верхнем Ист-Сайде? – пролепетал Владимир. – В пентхаузе? На социальное пособие? Но как такое может быть? – У него возникло неприятное ощущение, будто комната поплыла. Единственное удовольствие, которое доставляла работа, заключалось во встречах с иностранцами, еще крепче запутавшимися в американской жизни, чем он сам. Но сегодня и эта простая радость ему не давалась. – Откуда у вас деньги? Кто купил вам классный холодильник?
Подавшись вперед, Вентиляторный ухватил Владимира за нос большим и указательным пальцами – знакомый русский жест, используемый при общении с маленькими детьми.
– Я – псих, – объяснил Вентиляторный. – Но не идиот.
2. Елена Петровна, его мать
В то утро понедельника, как и в любое утро понедельника, Общество им. Эммы Лазарус пребывало в состоянии надрывной суеты. Бессемейные социальные работники поверяли друг другу тайны минувших выходных; король окультуривания – тоскующий по родине и склонный к суициду поляк – орал, готовясь к вводной лекции о жизни в Америке: «Страна эгоистов, здесь все только о себе и думают!» А в Интернациональном зале проходила еженедельная выставка иммигрантских домашних животных, на сей раз в разношерстной стае предводительствовала бенгальская черепаха.
В этой полиглотной сумятице Владимиру было нетрудно оставить свой пост – так называемый русский стол, покрытый бюрократическими чернильными пятнами и газетными вырезками о бедствиях советских евреев. Но прежде чем Владимир отправился с мистером Рыбаковым в его пентхауз, ему позвонили с самыми пылкими поздравлениями.
– Володечка, дорогой мой! – кричала мать в трубку. – С днем рождения!.. С новыми начинаниями!.. Твой отец и я желаем тебе блестящего будущего!.. Огромных успехов!.. Ты ведь такой талантливый!.. Экономика выправляется!.. Как мы тебя любили маленького!.. Отдали тебе все до последнего!..
Владимир убавил громкость в телефоне. Он знал, что сейчас последует. И действительно, одолев семь бодрых восклицаний, мать сломалась и запричитала, повторяя имя Господне с притяжательным местоимением: «Боже мой! Боже мой!»
– И зачем я устроила тебя на эту работу! – рыдала она. – О чем я думала? Ты обещал, что поработаешь там только одно лето, а уже прошло четыре года! У родного сына застой, у моего единственного сыночка, и я сама в этом виновата. Но почему? Мы привезли тебя в эту страну – зачем? Даже самые тупые местные добиваются большего, чем ты…
И далее в том же духе сквозь слезы, всхлипы и шмыганье носом: о счастье учиться в колледже и юридической школе, о низком статусе подневольного клерка в некоммерческом агентстве, получающего всего восемь долларов в час, в то время как ровесники Владимира отважно овладевают профессиональными знаниями. Постепенно ее размеренный тихий плач обретал темп и громкость, и к концу она уже голосила, как убитая горем мать на ближневосточных похоронах в тот момент, когда тело сына опускают в могилу.
Владимир откинулся на спинку стула и громко, с раздражением вздохнул. Она никак не уймется, даже в день его рождения.
Отцу понадобился год ухаживаний и десять лет брака, чтобы свыкнуться с умением матери разрыдаться когда заблагорассудится.
– Не плачь. Ну почему ты плачешь, ежичек мой? – шептал молодой доктор Гиршкин в сумрачной ленинградской квартире, гладя жену по волосам, которые были чернее промышленных выбросов, зависших над городом, и столь жесткими, что их не брали никакие западные бигуди (по этой причине мать прозвали Монголкой; в ней и в самом деле текла одна восьмая монгольской крови).
Слезы, струившиеся по ее продолговатому лицу, подсвечивались судорожными неоновыми вспышками – то мерцало «Мясо» (магазин располагался прямо под их квартирой), неисправные буквы упорно тщились зажечься. На ласку мужа мать не откликалась, чего он так и не смог ей простить; лишь уснув, она прижималась к нему. К этому времени мясную вывеску уже давно вырубали из жалости и улицы утопали в мутной, непроницаемой петербургской тьме.
Владимир тоже изрядно настрадался от укоризненного материнского плача, под его аккомпанемент в камине показательно сжигались четверочные табели и летала посуда, когда первое место в детском шахматном турнире доставалось кому-то другому. А однажды он застал мать в кабинете рыдающей в три часа утра, к груди она прижимала фотографию трехлетнего Владимира, играющего с детскими счетами, – такого смышленого, ясноглазого, подающего столько надежд… Но самый страшный удар был нанесен на свадьбе одного калифорнийского Гиршкина: мать вдруг взбеленилась и заявила во всеуслышание, что у ее сына – застенчиво плясавшего под диско-музыку с толстой кузиной – «бедра, как у гомосексуалиста». Ох уж эти юркие бедра!
Пристыженный и растерянный Владимир бросился к отцу за подмогой или, по крайней мере, объяснением. Но объяснение он получил, лишь когда вступил в подростковый возраст, во время долгой осенней прогулки по болотистому, загазованному парку Эллей Понд – вкладу администрации Квинса в сохранение лесных насаждений. Именно на той прогулке отец впервые произнес слово «развод».
– Твоя мама страдает некой формой сумасшествия, – сказал он. – Это самая настоящая болезнь.
Владимир, юный и тщедушный, но уже американский ребенок, спросил:
– А разве нельзя вылечить маму таблетками?
Но доктор Гиршкин, холист по убеждениям, не верил в таблетки. Энергичное растирание водкой и баня – таковы были его обычные предписания.
Даже сейчас, когда плач матери действовал на него куда слабее, чем прежде, Владимир не знал, что сказать, чтобы остановить ее рыдания. Отец тоже так и не придумал, как с этим бороться. Тщательно спланированному разводу он также не решился дать ход. В Новом Свете мать, несмотря на все свои причуды, была его единственным близким другом.
– Боже мой, Владимир, – захлебнулась мать слезами и вдруг резко смолкла. А после паузы совершенно спокойно объяснила: – Мне звонят на другую линию. Из Сингапура. Это может быть важно.
Инструментальная версия песни «Майкл, греби к берегу» грянула из электронного нутра материнской корпорации прямо в ухо Владимиру.
Ему пора было уходить. Оставленный без присмотра Рыбаков поковылял в приемную, где опять терроризировал охранника. Владимир уже собрался положить трубку, но вновь услыхал негромкий материнский всхлип. Он поспешил сменить тему:
– А как у тебя дела?
– Ужасно, – ответила мать, переходя на английский, на котором говорила о делах. Она высморкалась. – Надо уволить одного человека.
– Это же только к лучшему для тебя.
– Сложно, проблема, – пожаловалась мать. – Это американский африканец. Я нервная, я скажу что-нибудь неверно. Мой английский не очень сильный. На выходных ты должен научить меня, как надо говорить с афро-американцами. Это важно уметь, нет?
– Ты ждешь меня на выходные? – переспросил Владимир.
Мать сделала попытку развеселиться: разве можно не устроить барбекю в честь его дня рождения? Это было бы чистым безумием.
– Двадцать пять бывает только раз, – добавила она. – И ты ведь не… как у вас говорят?.. не законченный лузер.
– Даже на крэке не сижу, – рискнул пошутить Владимир.
– И ты не педик, – продолжала мать. – М-м?
– Почему ты всегда…
– И ты все еще с той еврейской девушкой. Сдобной Халочкой.
– Да, – успокоил ее Владимир. Да, да, да.
Мать протяжно выдохнула:
– Что ж, хорошо, – и велела сыну захватить плавки, к субботе должны починить бассейн. Умудряясь одновременно скорбно вздыхать и говорить ласковые слова, она распрощалась с Владимиром. – Будь сильным, – загадочно напутствовала она его напоследок.
Смысловым центром холла в доме под названием «Башни Дорчестера», где проживал мистер Рыбаков, служило панно с дорчестерским гербом: двуглавый орел сжимал в одном клюве свиток, в другом кинжал – графическая история «новых денег» и их оседания в этом здании. Два привратника открыли двери Владимиру и его клиенту. Третий угостил молодого человека конфеткой.
При виде роскоши в американском духе у Владимира всегда возникало такое ощущение, будто за его спиной стоит мать и шепчет ему на ухо ее любимое двуязычное прозвище из тех, что она для него придумывала: Фейлрушка. Маленький недотепа. Слабея от досады, он прислонился к стенке лифта, пытаясь игнорировать глубокий рыжий блеск бирманского дерева и молясь про себя, чтобы рыбаковский пентхауз оказался конурой, оплачиваемой государством и лопающейся от грязи.
Но двери лифта открылись в солнечный кремовый холл, обставленный легкими гнутыми креслами от Алваро Аалто[3]3
Алваро Аалто (1898–1976) – выдающийся финский архитектор и дизайнер, один из столпов архитектурного модернизма.
[Закрыть] и торшерами из настоящего кованого железа.
– Нам сюда, козленочек, – сказал Рыбаков. – Шагай за мной…
Они вошли в гостиную, тоже ненавязчиво кремовую, если не считать триптиха во всю стену, с виду кисти Кандинского. Под Кандинским, вокруг экрана домашнего кинотеатра, стояли два набора мягкой мебели – диваны и кресла, в которых можно было развалиться полулежа. За гостиной находилась столовая с необычайно раскидистой люстрой, висевшей в считанных сантиметрах над роскошным столом из розового дерева. Как ни велика была квартира, мебель, казалось, предназначалась для жилья даже более просторного. Она словно намекала: «Вы еще не такое увидите…»
Владимир впитывал окружающее великолепие нарочито медленно. Его взгляд, разумеется, остановился на Кандинском.
– Картина… – выдавил Владимир.
– А, эта. Ее мисс Хароссет на аукционе выбрала. Она все норовит всучить мне абстрактный экспрессионизм. Но ты только глянь! Этот Кандинский явно был педерастом. А я, Володя, человек простой, так и знай. Езжу на метро, сам себе рубашки глажу. Не нужны мне ни деньги, ни современное искусство. То ли дело теплый сортир, сушеная вобла да молодуха, чтоб не скучно было… Вот моя философия!
– Мисс Хароссет, – начал Владимир, – она… ваш социальный работник?
Рыбаков расхохотался:
– Ага, социальный работник. Точно. Эх, Володя, хорошо тебе, ты такой молодой. Ну, присаживайся, сейчас чайку заварю. Пусть эти штуковины, – он обвел костылем комнату, – тебя с толку не сбивают. Я – моряк!
Хозяин исчез за застекленными дверьми. Владимир присел на край стола, более годившегося для дипломатического обеда на высшем уровне, чем для глотка чая, и огляделся. На одной стене струнный инструмент, смахивавший на русскую балалайку, и несколько пожелтевших свидетельств о военных наградах. Другая была пуста, если не считать черно-белой фотографии в рамке. Со снимка на Владимира смотрел хмурый молодой человек с такими же, как у Вентиляторного, густыми бровями и светлыми глазами. Выпяченная нижняя губа парня была усыпана лихорадками и напоминала изрытую кротом грядку.
Под фотографией на простенькой тумбочке высился вентилятор с широкими лопастями и блестящими металлическими колесиками.
– Надо бы вас познакомить. – Рыбаков вкатил в гостиную тележку с миниатюрным самоваром, бутылкой водки, тарелками с голландской сельдью и рижскими шпротами. – Вентилятор, это Владимир. Владимир, это Вентилятор.
– Очень рад, – обратился Владимир к вентилятору. – Я слыхал о вас удивительные вещи.
Вентилятор промолчал.
– Он немного устал, – пояснил Рыбаков, вытирая лопасти бархатной тряпицей. – Вчера мы весь вечер выпивали и пели блатные песни. «Здравствуй, моя Мурка, Мурка дорогая!.. Здравствуй, моя Мурка, и прощай!» Знаешь такую?
– «Ты зашухерила всю нашу малину, – подхватил Владимир, – так теперь маслину получай!»
– У тебя красивый голос, – похвалил мистер Рыбаков. – А не организовать ли нам певческий кружок? Ансамбль Красной Армии в изгнании. Что скажешь, Вентилятор?
Прибор по-прежнему не отзывался.
– Знаешь, он мой лучший друг, – неожиданно растрогался Рыбаков, глядя на вентилятор. – Сынок уехал, мисс Хароссет бегает целыми днями по своим сумасшедшим делам, так что никого у меня, кроме него, и нет. Помню, как мы повстречались. Я только что приземлился в аэропорту Кеннеди, сынка задержали на таможне – ребятам из Интерпола вздумалось потолковать с ним по душам… И тут подошли тетки из местного Иудейского общества с деньгами для прибывших евреев. Глянули они на мою христианскую рожу и вместо денег всучили салями и этот противный американский сыр… А потом – наверное, потому, что жара в то лето стояла, как в джунглях, – иудейки сжалились надо мной и подарили Вентилятор. И таким он свойским оказался. Мы тут же принялись болтать, словно старые флотские кореша. С того дня не расстаемся.
– У меня тоже в этой стране не много друзей, – с тихой грустью признался Владимир. – Нам, русским, трудно здесь сходиться с людьми. Иногда бывает так одиноко…
– Да-да, – оборвал его мистер Рыбаков, – знаю. Но… время не ждет, потому давай забудем все печали и поговорим как мужчина с мужчиной. – Он откашлялся и продолжил наставительным тоном…