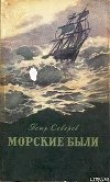Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
6. Американский балаган
Дерево было рассохшимся и ободранным дубом, его корявые ветви укрывали в своей тени столь же битую жизнью родственницу – Скамейку. Дерево и Скамейка существовали нераздельно отныне и во веки веков в маленьком парке на задах научно-математической школы, где перед Владимиром и Баобабом регулярно ставили академическую задачу, после чего они, не сумев достойно с этой задачей справиться, удалялись на Скамейку под Деревом. Во время особенно душераздирающего кислотного кайфа Баобаб вырезал на Скамейке инициалы – свои и Мишеля Фуко, а ниже нацарапал в духе учениц начальной школы: ЛДН – «лучшие друзья навеки».
Владимир, скорбя по простоте того даром потраченного времени, нагнулся и с тоской провел пальцем по буквам, но тут же одернул себя: что за глупости!
Сзади просигналила машина.
Роберта высунулась из окошка такси, размахивая огромной соломенной шляпой.
– Садись! – крикнула она. – Баобаба выследили в Верхнем Манхэттене. Шевелись!
Они остановились у старого склада рядом с Голландским туннелем. Помещение с низкими потолками, щербатыми перилами, редкими полосками линолеума на полу, рисунком на дверях – эмблемой погрузочной компании, оставшейся от предыдущего арендатора и окончательно не соскобленной. Владимира усадили рядом с Робертой в глубине зала, за веревочным ограждением с табличкой «Места для гостей кандидатов на гражданство». Остальные «гости», все до одного потрясающие актеры и добрые друзья Роберты, как объяснили Владимиру, выглядели так, словно нарядились на свадьбу – исламабадскую или калькуттскую; количество тюрбанов и сари достигало критической массы. Во всяком случае, темных футболок и штанов в обтяжку – униформы молодых безработных лицедеев – не было и в помине.
Атмосфера царила праздничная. Статные мужчины и женщины клубились по залу, подбрасывали воздушные шарики, спорили о сортах кофе и о том, насколько радикально скажется переезд в Квинс на их круге общения.
– Любой из них что угодно сделает, лишь бы угодить в койку Ласло, – заметила Роберта, не выпуская из своей липкой ладошки руку Владимира.
Одета она была в мужской костюм в ёлочку и прозрачную белую рубашку поверх черного лифчика сложной конструкции, призванной выпятить и увеличить ее тощую грудь. Волосы перехвачены на затылке шелковой ленточкой, впалые щеки нарумянены. Никто бы не дал Роберте шестнадцати лет, если бы она не открывала рот, демонстрируя железные скобки.
– Я, – сообщила она Владимиру, указывая на ярлычок с именем, пришпиленный к ее груди, – Катерина Нихольтц-Прага, потомок древнего австрийского рода и жена итальянского промышленника Альберто Праги. Эл принимает сегодня гражданство, но исключительно по деловым соображениям, как ты понимаешь. Сердце его в Тоскане, где у него имеется оливковая ферма, два арабских скакуна и мамма.
– Помоги нам Господи, – сказал Владимир. Он сидел сгорбившийся, небритый, в широченном спортивном пиджаке, одолженном Робертой ради такого случая. Утром в номере паршивой придорожной гостиницы, который ему удалось снять на последние пятьдесят долларов, Владимир попытался побриться, но обнаружил, что не состоянии ни унять дрожь в руках, ни держать неподвижно голову.
Из гардеробной вышел Ласло – длинный, худой джентльмен в судейской мантии, едва прикрывавшей зад, этакая судейская мини-юбка. Клочья нечесаных седых волос стояли дыбом, напоминая сдвинутую набок корону.
– Вы и есть клиент? – обратился он к Владимиру на удивительно чистом английском. Должно быть, венгерский акцент он отскребал железной мочалкой с таким усердием, что уже и «паприка» произнести не сможет.
– Да, я, – ответил Владимир. – Как там наш подопечный?
– Он чувствует себя прекрасно, на все сто. Сейчас он в гардеробной, знакомится с другими, так сказать, гражданами. – Ласло согнулся пополам, дабы оказаться на одном уровне с Владимиром, и положил руки ему на плечи.
Владимир вздрогнул, жест Ласло живо напомнил ему недавние события.
– Итак, – объяснял венгр, – это наша стандартная «Фальшивая церемония натурализации», или ФЦН, как принято выражаться в нашем бизнесе. В год мы проводим две-три церемонии, а также парочку мероприятий «люкс» – то же самое, только на яхте и с проститутками. – И тут Ласло подмигнул, выгнув внушительную бровь.
Роберта тоже подмигнула, и подавленный переживаниями Владимир последовал их примеру, быстро-быстро моргнув несколько раз подряд.
– Роберта говорила, что три тысячи я могу выслать вам из Правы, – произнес Владимир.
– Да, плюс, как у нас полагается при ФЦН, особая стопроцентная надбавка за срочность исполнения заказа. Согласно договору!
– Понятно, – сказал Владимир. – Шесть тысяч.
Однако венгры неплохо адаптируются к свободному рынку. Придется занять денег у сына мистера Рыбакова. Но все равно, хорошо, что Роберта все устроила молниеносно.
– Верно, – подтвердил Ласло. – Гости, займите свои места!
Толпа липовых зимбабвийцев, эквадорцев и прочего люда бросилась к складным стульям, толкаясь и хихикая. Поднявшись на самодельную сцену; Ласло занял место за кафедрой, сооруженной из картонных коробок, ловко задрапированных американским флагом. Позади Ласло висел красочный герб с надписью «Министерство юстицыи» – еще одна блестящая имитация, если не принимать во внимание орфографическую ошибку и несколько испуганное выражение глаз у американского орла.
– А теперь поприветствуем кандидатов на натурализацию! – взревел Ласло в переносной микрофон.
Гостевой сектор аплодировал, когда кандидаты гуськом входили в зал: еврейки и белые американки с густым макияжем и вычурными прическами, украшенными листьями винограда и мяты; светловолосые кудрявые мужчины с физиономиями парней из американской глубинки, одетые так, словно они сбежали со съемок «Человека из Ламанчи», и прочие персонажи в том же роде.
Появился Рыбаков на костылях. На нем был темно-синий двубортный костюм, тщательно скроенный, дабы максимально скрыть торчащий живот. Ряды красно-желтых медалей покрывали изрядную часть его груди, однако он повязал щегольский звездно-полосатый галстук с целью подчеркнуть перемену верноподданства. Он улыбался самому себе, глядя в пол и стараясь не отставать от завернутой в кимоно женщины, шествовавшей впереди.
Владимир не сдержался. Завидев Рыбакова, он вскочил, громче всех захлопал в ладоши и крикнул по-русски:
– Ура! Ура, Александр!
Роберта дернула его за пиджак, намекая на опасность перевозбудить Рыбакова, но моряк лишь робко улыбнулся своему другу, после чего занял место под гигантской растяжкой, гласившей: «Поздравляем новых американцев». С целью избежать повторения инцидента с арабом Рыбакова усадили между итальянским промышленником Альберто Прагой и парнем кавказской внешности. Правда, впереди старика восседала «женщина из Ганы» с огромной соломенной корзиной фруктов на голове, вероятно загораживая Рыбакову сцену. Явный недосмотр.
Спели гимн, затем судья Ласло встал и, глубоко тронутый пением, провел рукой по глазам.
– Америка! – произнес Ласло и кивнул со значением.
– Америка! – выкрикнул Рыбаков с места, кивая с тем же значением. Обернувшись, он показал Владимиру большой палец.
Ласло улыбнулся Вентиляторному и прижал палец к губам, требуя тишины.
– Америка! – повторил он. – Как вы могли догадаться по моему акценту, я тоже когда-то сидел там, где вы сидите сейчас. Я приехал в эту страну маленьким ребенком, выучил язык, обычаи, закончил, приложив все силы… э-э… юридическую школу и теперь имею честь способствовать собравшимся в завершении их долгого пути к американскому гражданству.
Раздались незапланированные аплодисменты, Вентиляторный встал и крикнул:
– Я сначала в Вену приехал, а потом уж в Америку!
Ласло знаком велел ему сесть и опять приложил палец к губам.
– Что такое Америка? – ораторствовал он, расправив плечи и задумчиво возведя глаза к грязному потолку. – Гамбургер? Или хот-дог? А может быть, сверкающий «кадиллак» и хорошенькая девушка под пальмой?..
Гости пожали плечами и переглянулись, не зная, что выбрать.
– Да, Америка – все это, – пояснил Ласло. – Но и больше, много больше.
– Я получаю социальное пособие, – объявил Рыбаков, размахивая рукой, чтобы привлечь внимание судьи.
На сей раз Ласло его проигнорировал.
– Америка, – просторные рукава мантии взвились в воздух, – это страна, где вы можете прожить очень долгую жизнь, и, когда настанет пора умирать, вы глянете на себя и с уверенностью скажете: все ошибки, все победы, что у меня были, все «кадиллаки» и хорошенькие женщины, и дети, которые ненавидят меня настолько, что называют по имени, а не папой и даже не отцом, всего этого не было бы, если бы не я. Я!
Ученики Ласло выразили свое согласие, энергично размахивая сомбреро, заворачиваясь в плащи-накидки в церемонном поклоне и горделиво повторяя: «Я! Я!»
– Что-то я не припоминаю у Станиславского таких методов, – заметил Владимир.
– Невежда, – бросила Роберта.
Пришел черед клятвы гражданина. Вентиляторный гладко пробормотал ее, на словах о «всех врагах, внутренних и внешних» он из осторожности не смотрел на других кандидатов. Наконец кандидатов стали вызывать для получения свидетельства: «Эфрат Элонский… Денни Бу… Абдул Камуз… Рухалла Хомейни… Фуонг Мин… Александр Рыбаков…»
Рыбаков подошел к судейской кафедре, отставил костыли и обнял Ласло, который чуть не рухнул под тяжестью инвалида.
– Спасибо вам, мистер, – прошептал Рыбаков ему на ухо. Обернулся к Владимиру и помахал свидетельством, обливаясь слезами. – Ура! – крикнул он. – Ура Америке! Америка – это я!
Владимир помахал в ответ и сфотографировал Вентиляторного поляроидом. Невзирая на то что женщина из Ганы раздавала ритуальные фрукты, опустошая свою корзину, невзирая на Роберту, влепившую смачный поцелуй щеголеватому Альберто Праге, – невзирая ни на что Владимир неожиданно для себя растрогался. Он высморкался в жесткий акриловый платок, извлеченный из спортивного пиджака Роберты, и помахал американским флажком, сделанным из той же ткани.
Они макали соленые крендельки в салат с копченым лососем, выставленный труппой Ласло на потертые алюминиевые столы, оставшиеся от фирмы по перевозке мебели.
– Этим не наешься, – заметил Рыбаков Владимиру. – Пойдем ко мне. У меня есть селедка.
– Да вы меня и так уже закормили вашей рыбой, – ответил Владимир.
– Попридержи язык, – сказал Рыбаков. – Всей рыбы Каспия не хватит, чтобы отблагодарить тебя, юный царь Соломон. Знаешь, каково мне было все эти годы? Знаешь, каково это – быть человеком без родины?
Владимир потянулся через стол к другому контейнеру с салатом, не желая выдать себя гримасой на лице. И конечно, он знал, каково это.
– А что, если война? – продолжал Рыбаков. – Как ты будешь защищать родину, когда у тебя ее нет?
– Верно, никак, – согласился Владимир.
– Взять меня, к примеру. Я одинок в этой стране, ни семьи, ни друзей, и поговорить не с кем. Ты… ты уезжаешь в Праву. Вентилятор… только Вентилятор у меня и был, но теперь у меня есть вот это! – Он вынул свидетельство из кармана пиджака. – Теперь я – гражданин самой великой страны в мире, если не считать Японии. Послушай, я уже не молод, чего только не повидал в жизни и знаю: ты рождаешься, ты умираешь и ничего не остается. Надо принадлежать к чему-то, быть частью общего. Иначе кто ты есть? Никто.
– Никто, – повторил Владимир.
Ласло показывал на часы. Представление подходило к концу.
– Но ты, Владимир, дорогой мой человек, в Праве ты станешь частью чего-то такого большого, такого сильного, что навсегда перестанешь спрашивать себя: кто я есть? Мой сын позаботится о Тебе, как о родном. А когда я закончу свои дела с мисс Хароссет и картинами этого чертова Кандунского, чтоб им пусто было, я приеду навестить тебя и моего Толю. Что скажешь?
– Втроем мы отлично проведем время. – Владимир представил, как они гребут на лодке вниз по реке, запасшись корзиной с жареной курицей и банкой селедки.
– И я пройду по улицам Правы, гордо выпятив грудь… – Рыбаков выпятил грудь. – Пройдусь как красивый уважаемый американец.
Владимир обнял горбатую спину старого моряка и прижал его к себе. Запах, исходивший от Рыбакова, заставил Владимира вспомнить отчима своего отца, который умер в Америке, изрядно намучившись от цирроза печени, камней в почках и, если верить диагнозу доктора Гиршкина, скукоженного легкого. Запах был того же состава: водочные пары, резкий аромат средства после бритья и та острая промышленная вонь, которую ни с чем не спутаешь и которая вызывала в воображении Владимира ржавый стальной пресс на советском заводе, щедро политый машинным маслом. За таким прессом его неродной дедушка притворялся, будто трудится. Владимиру понравилось, что от Вентиляторного пахнет точно так же.
– А теперь, товарищ Рыбаков, – начал он, – или, как выражаются в нашей стране, мистер Рыбаков, я приглашаю вас выпить.
– Ишь ты! – Рыбаков схватил Владимира за нос полиароматными пальцами. – Ладно, идем за бутылкой! – Поддерживая друг друга, они вышли на непривычно тихую улицу, где над чугунными фасадами и вереницей брошенных мебельных фургонов висело тяжелое послеполуденное солнце.
Последние часы на Манхэттене прошли в такси с тонированными стеклами. Роберта расщедрилась настолько, что выдала Владимиру в счет будущих доходов тысячу долларов из своих солидных сбережений и посоветовала не застревать нигде надолго и никому не звонить (особенно «той женщине»). Баобаб, по ее словам, прятался у родственников в Говард-Бич, в то время как его дядя Томми пытался договориться с Джорди о прекращении огня.
Владимир потратил две сотни, курсируя вокруг каменных загогулин «Утюга»[23]23
«Утюг» (Флэтайрон) – старейший небоскреб в современном Нью-Йорке, известный оригинальной архитектурой; построен в 1902 г.
[Закрыть], вдоль Пятой авеню мимо дома Руокко, затем по боковым улочкам Виллиджа, ведущим к станции метро «Шеридан-сквер». Именно на этой станции ежедневно сходила Фрэн, возвращаясь из университета, и Владимир вопреки всему надеялся увидеть ее, хотя бы мельком, перед расставанием навсегда. Он раз пятьдесят проехал по этому маршруту – тщетно. Удивительно, что таксист не свез его прямиком в психушку.
Пятая авеню, первая пятница сентября, предвечерняя жара и деловая суета, ларьки с шиш-кебаб, не закрывающиеся до утра, женщины с особой профессиональной приметой – выгнутыми полумесяцем икрами, ударницы труда, развивающие сумасшедшую скорость. В этом пупке вселенной, в самом ее эпицентре нарождался еще один великолепный вечер, первый нью-йоркский вечер, который пройдет без участия Владимира. Да, прощайте, все и вся. Прощай, Америка Владимира Гиршкина с ее возвышенными целями и кислым душком, прощайте, мать и доктор Гиршкин, и помидорная грядка, а также немногочисленные друзья, лелеющие свои странности; прощайте, ломкие товары и скудные услуги, на которых зиждилось существование, и, наконец, прощай, последняя надежда завоевать Новый Свет. Фрэн и семья Руокко, прощайте.
И прощай, бабушка. Если подумать, он должен был начать с нее, единственного человека, который упорно старался облегчить его пребывание здесь. С нее, носившейся за ним по холмам и лужайкам на деревенской даче Гиршкиных, пытавшейся впихнуть во внучка ломти дыни, горки творога… Как проста была бы жизнь, если бы она начиналась и заканчивалась заглатыванием пищи в обмен на любовь и неуклюжий поцелуй старухи.
А что Фрэн? Последний раз объезжая Виллидж, ему показалось, что он увидел ее: соломенная шляпа, пакет с перцами для вечернего пира Руокко, ленивый взмах руки, приветствовавший знакомого на улице. Он ошибся. То была не она. Но пока ложное впечатление длилось, Владимир всей душой порывался выскочить из медленно двигавшегося такси, прижаться губами к уху, проколотому сережкой, и сказать… что? «Едва не изнасилован наркобароном. Приговорен к смерти. Должен исчезнуть». Даже при современном укладе, когда почти все возможно, такое немыслимо. Либо он мог воспользоваться выражением, которое она бы оценила, словами пропащего шведского боксера из рассказа Хемингуэя:
– Фрэн, я попал не туда.
Но после этой невстречи с Фрэн он приказал шоферу ехать в аэропорт. Больше ему ничего не оставалось. Америка, похоже, не была полностью беззащитной перед такими, как Владимир Гиршкин. Сортирующий механизм работал бесперебойно, выявляя бета-иммигрантов, отмеченных невидимой буквой β на лбу, конец их известен: ближайший самолет до захолустной Аматевки. События последних дней не были простым стечением обстоятельств, но естественной кульминацией тех тринадцати лет, что Владимир провел в качестве сомнительного янки, скорбной отметкой в его послужном списке помощника по ассимиляции.
Ну и черт с ней, с Америкой, или, как выражаются на поэтическом русском наречье, na khui, na khui. Владимир почти радовался тому, что не встретился с Фрэн, что прошлое, только вчера бывшее настоящим, закончилось. Он снова потерпел неудачу, но на этот раз многое понял. Пределы терпения обозначились со всей ясностью. Больше он никогда не будет так страдать – по вине матери ли, подружки или этой набитой деньгами приемной родины. Точнее, он больше никогда не будет иммигрантом, человеком, не способным тягаться с туземцами. Отныне он станет Владимиром Экспатриантом – титул, предполагающий роскошь, свободу выбора, декаданс, бело-перчаточный колониализм. Или же Владимиром Репатриантом, что в данном случае означает возвращение домой, когда знаешь, что тебя ждет, в том числе возможность поквитаться с историей. Любым способом… Садись опять в самолет, Володя! И лети обратно в ту часть света, где Гиршкиных впервые нарекли Гиршкиными!
Он вонзил ногти в ладони, наблюдая, как красавец Манхэттен превращается в картонный горизонт позади самолета. Очень скоро он переберет в памяти то, что оставил (все: ее), и прольет слезу, как и положено отъезжающему.
Но спустя несколько часов Владимир уже приземлится на другой, малоимущей, стороне планеты, на той, что карабкается, примеривается, возводит пирамиды и мечтает о богатых американцах, заправляя шарф из тушеной капусты со свининой под пальто, скроенное из дымки Центральной Европы…
И начнет все сначала.
Часть IV
Права, Республика Столовая
1993
1. Репатриация Владимира Гиршкина
Ровно тринадцать лет назад при переезде из одной неказистой жизни в другую, из одного мрачного аэропорта – ленинградского, где царила неразбериха, пахло сортиром и советской мастикой для полов, – в другой – столь же мрачный нью-йоркский, где царствовал порядок, и горбатые, как киты, самолеты «Пан Американ» терпеливо дожидались пассажиров у выхода на посадку, – Владимир совершил нечто немыслимое: он расплакался. Выражать свои чувства подобным образом отец запретил ему еще на последней стадии приучения к горшку. Доктор Гиршкин исходил из тех соображений, что в мире осталось наперечет признаков, по которым можно отличить мужчину от женщины. Слезы и рев возглавляли этот список. На борту тупорылого аэрофлотовского лайнера американские туристы распивали понарошку чай из валютных самоваров и по-детски восторгались Редукционной логикой матрешек. Путаясь у них в ногах, позеленевший доктор Гиршкин, чья драная кожаная куртка и сломанные роговые очки наверняка смешили иностранцев (вещи в предотъездной горячке попортила супруга), схватил сына за шиворот и поволок в туалет «успокаиваться».
А поскольку нынешний Владимир опять сидел в такой же алюминиевой уборной на высоте в тысячи метров над Германией со спущенными на лодыжки джинсами, он не мог не вспомнить о том первом всплеске трансатлантического отчаяния: таможня аэропорта Пулково, Ленинград, весна 1980 года.
Невероятную правду Владимиру открыли лишь за ночь до отъезда: семейство Гиршкиных не поедет поездом на дачу барачного типа в Ялте, как было говорено; нет, они полетят в некое таинственное место, само название которого нельзя произносить. Таинственное место! Запретное название! А-а! Юный Владимир, перепрыгивая через чемоданы, словно через барьеры, рванул в стенной шкаф и забаррикадировался там, прихватив тяжелые галоши в качестве орудия самозащиты. Подростковый бунт едва не усугубился приступом астмы. Мать приказала сыну отправляться на диван в гостиной, на этом диване, пропахшем его детским потом, Владимир каждый вечер в десять часов отходил ко сну; однако мальчик не унялся. Схватив жирафа Юру, плюшевого героя всех войн с пятнистой грудью, утыканной дедушкиными медалями, Владимир подбрасывал его к потолку до тех пор, пока возмущенные грузины в квартире этажом выше не застучали ногами в пол, требуя тишины.
– Куда мы едем, мама? – кричал Владимир (в те времена мать еще была для него просто «мамой»), – Я хочу посмотреть по карте!
Мать, трясясь при мысли, что легковозбудимый ребенок выболтает соседям название конечного пункта их путешествия, ответила коротко:
– Далеко.
Владимир, прыгая на диване, попытался уточнить:
– В Москву?
– Дальше, – сказала мать.
– В Ташкент? – Владимир подпрыгнул еще выше.
– Дальше.
Владимир поравнялся в воздухе с летающим жирафом.
– В Сибирь?
Дальше уже было некуда, но мать ответила, что нет, то место даже дальше Сибири. Тогда Владимир развернул свои любимые карты и провел пальцем по тем краям, что расстилались за Сибирью, но там был уже не Советский Союз. Там было что-то другое. Другие страны! Но никто не ездит в другие страны. Всю ночь Владимир бегал по квартире с томами Большой советской энциклопедии под мышкой, выкрикивая в алфавитном порядке:
– Австрия, Албания, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бермудские острова!..
Впрочем, главное испытание ждало его на следующий день на таможне, когда отъезд Гиршкиных принял совсем уж неприятный оборот. Откормленные сотрудники МВД в тесных синтетических Униформах, не имея более причин скрывать свою ненависть к уже не советской семье, растерзали их багаж: порвали финские рубашки и пару относительно приличных костюмов, привезенных контрабандой через Прибалтику; в этих нарядах родители Владимира собирались отправиться на поиски работы в Нью-Йорке. Таможенники крушили чемоданы якобы с целью обнаружить золото и бриллианты, запрещенные к вывозу сверх мизерной нормы. Когда они кромсали записную книжку матери, вырывая американские адреса, включая объяснения кузины из Ньюарка, как добраться до «Мэйсиз»[24]24
Крупнейшая сеть универмагов в США.
[Закрыть], один особенно толстый офицер (Владимир хорошо его запомнил, потому что рот его зиял пугающей пустотой, у него не было даже стальных зубов, столь привычных для пожилых граждан стран Варшавского договора) проговорил, дыша матери в лицо запахом осетрины:
– Ты еще вернешься, жидовка.
Беззубый таможенник оказался провидцем: когда СССР развалился, мать несколько раз наведывалась на родину с целью приобретения кое-каких отборных обломков империи для своей корпорации. Но в тот момент Владимир впервые осознал, что мать – бастион, в чьих стенах прячутся от шторма; женщина, чье слово было законом в семье, из чьих рук исходил то горчичник, изводивший Владимира всю ночь, то глянцевый том о Сталинградской битве, обосновавшийся у его изголовья на целый год, – его мать – жидовка. Само собой, Владимира уже называли жидом; вернее, его называли так всякий раз, когда слабое здоровье позволяло ему короткую вылазку в серый мир советского образования. Владимир считал себя типичнейшим жидом – малорослый, сутулый, болезненный и всегда с книгой под мышкой. Но как можно назвать этим словом его мать, которая не только читала ему про Сталинградскую битву, но и, судя по ее виду, могла бы победить в ней в одиночку.
Листки из записной книжки сыпались на пол, таможенники ржали, одобряя действия товарища Дыхоосетринского, но мать, к изумлению Владимира, стояла неподвижно, лишь теребила ремешок маленькой кожаной сумочки, обмотанный вокруг побелевшей руки; отец же, избегая испуганного взгляда сына, потихоньку, бочком продвигался к выходу на посадку – к свободе.
Не успел Владимир опомниться, как на них уже застегнули привязные ремни, и заснеженная, загазованная Россия осталась внизу под крыльями самолета. И только тогда он позволил себе роскошь – она же насущная необходимость – заплакать.
Спустя тринадцать лет в самолете, летевшем в противоположную сторону, Владимиру чудилось, что годы между отъездом и возвращением слились в одну бессмысленную интерлюдию. Он и теперь был все тем же Володечкой с жидовской фамилией, с опухшими от слез глазами и текущим от суетливой беготни носом. Только на сей раз ему была уготована не Ивритская школа, разумно размещенная в лесах Скарсдейла, и не прогрессивный Средне-Западный колледж На сей раз его ждал гангстер, награжденный кличкой в честь пушистого зверька.
И теперь времени на исправление дурацких ошибок – этих промахов вновь прибывшего – не будет. На прошлой неделе одна такая ошибка, совершенная в обшарпанной комнате флоридского отеля, в обществе расплывшегося голого старика, чуть не стоила ему жизни. Приступы идиотизма и самообмана привели его на борт Люфтганзы, к позорному бегству из Нью-Йорка и от величественной Франчески. То и другое отныне принадлежало прошлому, вместе с юным, простодушным Владимиром, плохо приспособленным к этой жизни.
В дверь туалета постучали. Владимир вытер лицо, набил карманы бумажными пакетами и направился в салон мимо ворчливых пенсионеров из Вирджинии, выстроившихся в очередь к удобствам. У некоторых на шеях болтались фотоаппараты, словно их владельцы надеялись запечатлеть на пути к толчку некое прекрасное мгновение. Владимир занял свое место у окна. Самолет летел над клочковатым ковром из тонких перистых облаков – как объяснил однажды Владимиру отец за завтраком на даче, то был верный признак грядущей перемены погоды.
Владимир стоял на трапе самолета, вдыхая европейский воздух. Рукава рубашки он опустил, спасаясь от осеннего ветра. Вирджинцы дивились отсутствию «кишки» между самолетом и понурым зеленым зданием аэропорта. Архитектурный стиль этого сооружения Владимир с ностальгией определил как позднесоциалистический; в те времена архитекторы, окончательно разделавшись с конструктивизмом, поступали просто: «Эй, у нас есть немного зеленоватого стекла и какой-никакой цемент – давайте построим аэропорт». На крыше здания громоздились большие белые буквы: ПРАВА, РЕСПУБЛИКА СТОЛОВАЯ. Для русского уха название звучало смешно, хорошо хоть не «забегаловка», улыбнулся Владимир. Он был большим любителем сочных славянских языков: польского, словацкого. А теперь и этого.
Первым столованцем, которого увидел Владимир, стал служащий, проверявший паспорта, – светловолосый, упитанный, с красивыми пшеничными усами.
– Нет, – сказал он, указав сначала на фото в паспорте, где был запечатлен Владимир-студент с пышной бородой и длинными нечесаными волосами, торчавшими из-за спины, а потом на самого Владимира, чисто выбритого и коротко стриженного. – Нет.
– Да, – ответил Владимир. Он попытался улыбнуться так же устало, как на снимке в паспорте, а затем потянул за редкие, только что прорезавшиеся волоски на подбородке, предвещавшие в близком будущем густой лес.
– Нет, – робко повторил паспортист, но штамп поставил. Без сомнения, социализму пришел конец.
Владимир снял свой чемодан с багажной карусели, и толпа американцев вынесла его в зал прибытия, где первым их встретил сверкающий банкомат «Американ Экспресс». Родители, прилетевшие навестить детей, выдергивали из рядов встречающих своих отпрысков – юных, стройных и одетых так, словно они только что ограбили знаменитый нью-йоркский бутик «Улетная Мими». Владимир пробирался сквозь материнские объятия и отцовские похлопывания по плечу к дверям, сулившим избавление от этой суеты, – лаконичная красная стрелка указывала на выход. Но и обращал внимание на окружающих – молодых американцев, встречавших своих денежных родителей. Денежных ли? По крайней мере, к среднему классу они принадлежали, эти люди в возрасте около пятидесяти, в мятых вельветовых штанах и нелепых безразмерных свитерах. А поскольку высший класс взял моду подражать в одежде среднему, то всякое может быть.
Внезапно, со скоростью самолета, падающего на землю, обстановка русифицировалась.
На улице прогремел выстрел.
Заголосило с десяток автомобильных сигнализаций.
Отряд мужчин с «Калашниковыми» у бедра быстро разделил американцев на два взволнованных стада.
Посередке развернули бутафорскую красную дорожку.
Кортеж из БМВ и бронированных «рейндж-роверов» занял оборонительную позицию.
На ветру затрепетала креповая растяжка с любопытной надписью: «ПраваИнвест – финансовый концерн № 1 приветствует дорогого Гиршкина».
И только тогда наш герой узрел наконец своего нового благодетеля.
В плотном кольце из трех подручных, облаченных в слепившие глаза нейлоновые куртки и подобранные в тон «космические» штаны, Сурок торжественно приблизился к Владимиру. Сурок оказался плотным рябым коротышкой со слегка косящими глазами и прической, призванной максимально скрыть облысение.
Мафиози положил одну клешню на плечо Владимира, пригвождая его к месту (словно он посмел бы шевельнуться), другую протянул для рукопожатия и с неотразимым украинским акцентом произнес риторическую фразу:
– Ты – Гиршкин.
Да, он самый.
– Ну что ж, – продолжал Сурок, – а я – Толя Рыбаков, президент «ПраваИнвеста», по кличке… – Он оглянулся на своих ближайших сотрудников, стоявших по бокам от него, – один был размером с хозяина, другой ближе к Владимиру по телосложению. Оба во все глаза пялились на гостя, не обращая на босса никакого внимания. – Наверное, отец говорил тебе, что меня еще называют Сурком.
Владимир тряс его руку, стараясь компенсировать скромный размер своей ладони энергичностью и крепостью пожатия.
– Да, да, я слыхал, – бормотал он. – Очень рад познакомиться, господин Сурок.
– Просто Сурок, – нахмурился благодетель. – У нас все по-простому, без титулов. Каждый сам знает, кто он. Вот этот, например, – Сурок указал на здоровенного мужика с маленькими татарскими глазками и морщинистой лысиной, напоминавшей поперечный срез секвойи, – наш главный оперативный разработчик, Миша Гусев.
– По прозвищу Гусь? – спросил Владимир, предполагая, что склонный к анималистическим кличкам Сурок не мог не воспользоваться такой фамилией.
– Нет, – ответил Гусев. – А у тебя кличка Еврей?
Сурок рассмеялся и погрозил Гусеву пальцем, второй же приближенный – маленький, но крепкий, с тонкими, как у ребенка, светлыми волосами и синими кобальтовыми глазами, напоминавшими воды озера Байкал, какими они были столетия назад, – покачал головой и сказал:
– Извините Гусева, он у нас убежденный антисемит.
– Да, конечно, – сказал Владимир. – У всех есть свои…
– Константин Бакутин, – представился второй помощник Сурка и протянул руку. – Называй меня Костей. Я главный по финансам. Поздравляю с победой над Службой иммиграции и натурализации. Это крепкий орешек – уж мы-то знаем, пытались его расколоть.