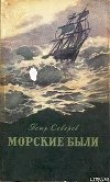Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
– Добро пожаловать к нам, любезный юноша. Иисус воскрес.
– Да, хм, – ответил Владимир, хотя и знал, что существует более удачный ответ, – в конце концов, они только что повторили его раз триста.
Но от вида его святейшества, широкоплечего и прямого, несмотря на преклонный возраст, с зычным голосом и пряными поцелуями, даже у отъявленного безбожника, обутого в «мартинсы», члена какого-нибудь «Союза Спартака»[39]39
«Союз Спартака» – организация левых социал-демократов в Германии, просуществовавшая с 1914 по 1918 г.
[Закрыть], подломились бы коленки.
– Вы, наверное, грек, – предположил священник.
– Наполовину грек, наполовину русский, – само собой вырвалось у Владимира.
– Прекрасно. Не присоединитесь ли к нашей скромной трапезе?
– Увы, не могу. Меня ждут родные в Фессалониках. Я заехал сюда по дороге в аэропорт. Но на следующей неделе обязательно.
– Прекрасно.
Тут подошла очередь Кости, который что-то шепнул на ухо священнику. Тот раскатисто захохотал, отчего борода его, такая же белая и величественная, как он сам, взвихрилась, зажив своей отдельной волосатой жизнью.
Этого веселья Владимир не мог понять, ведь Господний бизнес – дело сугубо серьезное, особенно когда кто-то из паствы оказался евреем под личиной грека.
Кланяясь, он пробрался мимо прихожан к двери и вышел на улицу, где монотонный дождь набирал силу, а небо расстилалось скатеркой неуступчиво серого цвета.
Ну вот, с этим покончено, слава богу. Он опять мчится по восточному берегу Тавлаты в чуде баварской сборки, мысленно подгоняя Яна: «Быстрей! Быстрей!» – его ждет Сурок в самом дорогом ресторане Правы. Да, он опять повел себя двулично с Костей Ангелом, бросив его на полпути якобы ради «краткого визита к американскому другу, благочестивому человеку сербского происхождения…». У метро, по предварительному сговору, его встретил Ян на грешном БМВ. Ехать на метро в ресторан – несколько не по рангу такому заслуженному гонифу, как Владимир.
Ресторан находился напротив замка, из его окон открывался отменный вид на реку, набухавшую под моросящим дождем, и на туристов, бегущих вприпрыжку по мосту Эммануила; их зонты рвал ветер, столь сильный, что мог бы вдохнуть жизнь в сотню големов. Этот ресторан был любим богатыми немцами, американскими мамочками и папочками, навещавшими свое дрейфующее потомство, и, разумеется, неким русским «предпринимателем».
Сурок расцеловал Владимира в обе щеки, после чего подставил собственные, рябые. Владимир, закрыв глаза, сопроводил каждый поцелуй дурацким «мва!».
По завершении этой мужской любовной прелюдии, сыгранной на восточноевропейский лад, Владимиру позволили сесть за стол. Напротив него гримасничал Сурок, словно счастливый маленький папуас, только вместо набедренной пеленки тучный мафиози был одет в тесный коричневый костюм, лишь подчеркивавший изъяны фигуры.
– Глянь, – сказал Сурок, – закуски уже подали!
И верно, на круглом блюде толстыми кольцами поверх молотых калифорнийских орехов (надо же!) были выложены кальмары, посыпанные посередке каким-то порошком, по запаху отдаленно напоминавшим тертый пармезан с чесноком. Запрашивая двадцать долларов за порцию, ресторан обязался не подавать карпа ни под каким соусом, изгнал из винной карты приторно-сладкие крепленые моравские вина, от которых у Правы ехала крыша, а кроме того, хозяева выписали из Парижа престарелого малого, щекотавшего слоновьи костяшки на «Стейнвее» под огромным панно в стиле модерн с шаловливыми нимфами. Bon appetit![40]40
Приятного аппетита! (франц.)
[Закрыть]
Щеки у жевавшего Сурка бугрились.
– Ты отлично управился с этим канадским обормотом, – произнес он, как только кальмар отравился по назначению. – И то правда, почему сразу не развернуться на всю катушку? Почему не начать с четверти миллиона?
– Да, хорошие деньги, – сказал Владимир. – Мир задолжал нам за последние семьдесят лет. Очень хорошие деньги.
В молчании они опустошали бутылки «шардонне», заменяя беседу сияющими улыбками – этим бессловесным жаргоном успеха. К четвертой бутылке и почти съеденному зайцу, тушенному с острым сыром, Сурок расчувствовался.
– Ты лучше всех, – сказал он. – Мне плевать, какого ты роду-племени. Ты просто гений.
– Да ладно.
– Это правда, – настаивал Сурок, споро уплетая хлеб с хреном. – Ты единственный, о ком мне не нужно беспокоиться. Ты – взрослый человек, бизнесмен. Знаешь, сколько у меня хлопот с ребятами Гусева?
Развернувшись, он показал фигу своей лохматой охране, облаченной в костюмы в полоску, пацаны сидели рядом с кухней, сложив локти на стол, уставленный пустыми бутылками «Джима Бима».
– Скажешь тоже. – Владимир покачал головой.
– А вот и скажу, – разошелся Сурок – Ты ведь слыхал о моих проблемах с болгарами, да? Насчет рэкета стриптизерш и проституток на площади Станислава? Так что же делают эти долбаные молодцы Гусева? Они идут в болгарский бар и заводят там бодягу про девочек – кто кого первым трахнул, да кто у кого и где отсосал. Побазарив, хватают одного парня, Владика Пончика, человека номер два у болгар, между прочим… Подвешивают его за ноги, отрезают ему член и яйца, и он загибается от потери крови! Вот тебе и ребята Гусева, чтоб их! Ни мозгов, ни навыков, ни шиша. Отрезать человеку член и яйца. Я говорю им: «Где вы, думаете, находитесь – в Москве?» Это Права, зал ожидания Запада, а они людей режут почем зря…
– Именно, – перебил Владимир.
– Отрезают…
– Да, оскопление, я понял… Где тут туалет?
Удостоверившись в целостности своей мошонки и подложив под нее слой жесткой столованской туалетной бумаги (будто она могла защитить его от мстительных болгар!), Владимир почувствовал, как к нему возвращается хорошее настроение – оно приливало из нижних частей тела. Когда он, семеня, добрался до столика, энергия из него уже била ключом.
– Тебе надо поговорить с Гусевым! – громко объявил он. – Мы бизнесмены!
Сурок ПОДНЯЛ руки:
– Ты поговоришь с ним. Расскажешь ему, как в Америке делают бизнес и как не делают. Этих дурачков учить надо.
– Все правильно, Сурок – Владимир торопливо чокнулся с шефом рюмкой шнапса. – Но, поверь, говорить с ними должен ты. Меня они не боятся.
– Будут бояться, – пообещал Сурок – Испугаются как самого Господа Бога. Кстати, давай выпьем за Костю и здоровье его матушки.
– За ее скорейшее выздоровление.
Сурок вдруг посерьезнел:
– Володя, хочу открыть тебе душу. Ты и Костя – будущее нашей организации. Теперь я это понимаю. Конечно, раньше весело было, бегали, взрывали всякие забегаловки, отрезали письки, но пора взяться за ум. Мы живем в девяностые. В… как его… век информации… нам нужны американизмы и глобализмы. Ты знаешь, откуда я родом?
– О да, – ответил Владимир. – Давай проведем съезд всей организации.
– И девок тоже позовем, – подхватил Сурок.
– Мы научим их жить по-американски.
– Ты их научишь.
– Я? – Владимир проглотил коньяк.
– Ты, – повторил Сурок.
– Я? – опять притворно удивился Владимир.
– Ты – лучше всех.
– Нет, ты лучше всех.
– Ты – просто блеск.
И тут Владимир прибег к аргументу не менее трезвому, чем прочие.
– Ты – просто блеск, – запел он, успевая отхлебывать грушевого бренди между фразами. – Фейерверка всплеск.
Видимо, его голос звучал громче, чем он предполагал, ибо пианист немедленно переключился с репертуара из «Доктора Живаго» на мотив песенки, исполняемой Владимиром. Пианист, как почти все в Праве, был открыт для предложений.
– Ты – Колизей, – продолжал Владимир еще громче. Немцы вокруг одобрительно заулыбались, радуясь, как водится, перспективе дармового заграничного развлечения. – И Британский музей.
– Встань и пой, товарищ Гиршкин! – Сурок подбодрил Владимира сильным пинком под столом.
Владимир с трудом поднялся, но не удержался и упал на стул. Повторный тычок от шефа вновь поставил его на ноги.
– Ты – вальс, ну просто Штраус! Шекспира сонет, кабриолет, ты – Микки-Маус!
Сурок подался вперед и, вопросительно глядя на певца, ткнул себя пальцем в грудь.
– Нет, нет, ты – Сурок, – успокоил его шепотом Владимир.
Сурок изобразил, будто с облегчением вздыхает. Да этот хомяк и вправду классный малый!
– Богемское стекло, – хрипел Владимир, – Карибское тепло…
Официанты отчаянно возились с микрофоном, стараясь направить его на певца.
– Малиновая ночь летом в Испании… Ты – Берлинале, капуста кольраби и само процветание…
Перевести бы эти строчки на немецкий, краснорожие дойчфольке зашлись бы от восторга, и, возможно, Владимиру удалось бы выставить их на чаевые или закадрить какую-нибудь немку.
– Я ж урод смурной, сплошь провалов треск…
Ох, любишь ты дешевые эффекты, Владимир Борисович.
– А ты, детка, просто блеск, но… только ряадом со мно-о-й!!.[41]41
Вольная интерпретация песенки «You Are the Тор» американского джазового музыканта Коула Портера (1891 1964).
[Закрыть]
Овация, даже более бурная, чем в «Радости» на поэтическом вечере. Охрана Сурка неуверенно поглядывала на хозяина, словно в ожидании тайного знака, повелевающего вскочить и изрешетить пулями весь зал, чтобы ни одного свидетеля этого маленького дивертисмента не осталось в живых. И было от чего встревожиться: Сурок, скорчившись от смеха, скрылся под столом, как серфингист под набежавшей волной, и сидел там, не переставая хохотать и биться головой о днище. Владимиру пришлось выманивать его клешнями омара, возлежавшими, в полном соответствии с меню, на пюре из киви пронзительно лаймового цвета.
3. Счастливейший человек на свете
Он решил приударить за Морган, хорошей девушкой, примкнувшей к тусовке в тот вечер в «Радости».
Это было не политическое решение и даже не совсем эротическое, хотя его привлекали формы Морган и ее бледность, и, возможно, – правда, Владимир был не очень в том уверен – она могла бы стать неплохой Эвой ему, новоявленному Хуану Перону. Но пиаровские заботы уступали в интенсивности романтическим позывам. Владимир тосковал по женскому обществу. Когда он просыпался в пустой постели, утро казалось ему странным и каким-то нескладным; а по ночам мягкого растлевающего пуховика, под которым он отключался, было все же недостаточно. Он с трудом понимал себя. После всех напастей, Через которые ему пришлось пройти по милости американок (занесло бы его в Праву, если бы не Фрэнни?), он по-прежнему зависел от их расположения, только оно позволяло ему чувствовать себя молодым млекопитающим – жизнелюбивым, нежным и полным спермы. Однако на сей раз выстраивать отношения будет он. С «аппендиксной» стадией, когда он всюду следовал за Фрэн и захлебывался от восторга, стоило ей произнести «семиотика», покончено. Сейчас ему необходима девушка наивная и податливая, как эта Морган, чем бы она потом ни оказалась.
Ухаживали в Праве различными способами. И большая часть этих способов была сопряжена со случайными встречами в клубах и на поэтических чтениях, с прогулками по мосту Эммануила или простаиванием часами в очереди в единственную в городе автоматическую прачечную – эпицентр экспатриантской активности. И при каждой встрече он, Владимир, будет стараться показать себя человеком необычайно умным, великодушным, компанейским, он будет сыпать именами, набирая таким образом фишки, которые позже отоварит свиданием.
Либо иной вариант: действовать в старомодном проактивном стиле, просто позвонив ей. Он решил (поскольку, по словам Александры, его координатора по связям с общественностью, почва была полностью подготовлена) испробовать последний способ и позвонил Морган из машины. Но телефонная линия сталинской эры не желала соединять двух кандидатов во влюбленные, и вместо Морган Владимир постоянно попадал к почтенной бабушке. На пятый раз та проскрипела: «Хер иностранный» – и велела «уебывать в свою Германию».
Тогда Владимир звякнул Александре. Она уже дважды устраивала с Морган «девичники», и дружба между девушками крепла день ото дня. Александра, позевывая (очевидно, она пребывала в объятиях Маркуса), выдала ему адрес Морган где-то у черта на куличках и пару острот касательно девичьей добродетели. Как бы ему хотелось сменить курс и, направив машину к окраине, где жила Александра, пригласить ее в кино или в иное место, куда люди ходят на свидание. Но Владимир двинул дальше, за реку, въехал в фабричный пейзаж и нашел тихую асфальтированную улочку с единственным и одиноким многоквартирным домом, словно угодившим в бюрократическую бурю, – парочки взбесившихся резолюций хватило, чтобы его отнесло прочь от братьев-панеляков.
Морган жила на седьмом этаже.
Владимир вошел в лифт, уютно пахнувший колбасой (ему потребовалось напрячь все силы, чтобы открыть и закрыть его железную дверь, – зарядка с Костей явно шла впрок), и постучал в дверь квартиры 714–21 Г.
За дверью послышался шорох, слабый скрип пружин на фоне негромкого бормотанья телевизора, и Владимир вдруг испугался, что какой-нибудь рослый американский парень опередил его – весьма разумное объяснение скрипа пружин и телевизора, включенного в пятничный вечер.
Морган отперла дверь, не спрашивая, кто там (прискорбная привычка всех не ньюйоркцев), и была она, к радостному изумлению Владимира, одна. Абсолютно одна – по телевизору двое унылых ведущих освещали столованские новости; на журнальном столике лежала маленькая пицца из магазина в Новом городе, смело экспериментировавшего с начинкой: яблоки, эдамский сыр и сосиски; на подоконнике толстый кот, русский голубой, тоскливо мяукал и скреб когтями, стремясь к заоконной свободе.
По лбу Морган морской звездой расползлась розовая блямба (отдаленная родственница винного пятна на темени Горбачева), щедро намазанная кремом; хозяйка куталась в махровый халат лавандового цвета, который был ей мал на несколько размеров, – такие халаты выдают узникам государственных приютов.
– Ой, это ты! – Ее круглое лицо просияло идеальной американской улыбкой. – Как ты сюда попал? Меня никто никогда не навещает.
Владимир слегка растерялся. Он ожидал затяжного смущения при таком-то состоянии ее гардероба и лба. Смущения, которое, надеялся он, оттенит его достоинства и облегчит задачу уговорить ее пойти с ним куда-нибудь, а заодно и влюбиться в него. Но вот она стоит перед ним, радуется его появлению и запросто признается, что гостей у нее почти не бывает. Владимир припомнил ее сногсшибательную искренность в «Радости», когда она впервые познакомилась с тусовкой. И опять все та же искренность изливалась из Морган потоками. Что это, новая разновидность патологии?
– Прости, что вломился незваным, – сказал Владимир. – Я был тут неподалеку по делу, ну и подумал…
– Все в порядке, я рада тебя видеть. Прошу, entrez[42]42
Входите (франц.).
[Закрыть]. У меня ужасный беспорядок. Тебе придется меня извинить. – Она направилась к дивану, и благодаря туго запахнутому халату Владимир заметил, что ее бедра и зад, хотя и не особенно крупные сами по себе, были крупнее, чем все остальное в ней.
Но почему она не бежит переодеваться, почему не торопится сменить этот дурацкий халат? Разве ей не хочется произвести впечатление на гостя? Разве не говорила она Александре, что находит Владимира экзотичным? Правда, Рави Шанкар[43]43
Рави Шанкар (р. 1920) – знаменитый индийский музыкант, мастер игры на ситаре.
[Закрыть] тоже экзотичный, но много ли девушек, ровесниц Владимира, захотят с ним спать? Владимир решил было, что у себя дома Морган желает оставаться такой, какая она есть, но затем отбросил это предположение как чересчур надуманное. Нет, здесь что-то другое.
Она закрыла коробку с пиццей, затем бросила на нее журнал. Словно для того, чтобы скрыть вопиющее доказательство одиночества, подумал Владимир.
– Вот, – сказала Морган. – Будь как дома. Садись. Где хочешь.
– Мы модернизируем фабрику в этом районе. – Владимир махнул рукой в сторону окна, где, по его представлениям, непременно должна была стоять фабрика в ожидании оздоровительных процедур. – Очень тупая работа, сама понимаешь. Каждые две недели я обязан ездить туда и ругаться с подрядчиками из-за перерасхода средств. Но они хорошие работники, эти столованцы.
– Ты меня ни от чего не оторвал, – крикнула Морган, очевидно, с кухни: Владимир слышал шум воды из-под крана. Смывает, вероятно, кремовую нашлепку со лба. – Я живу так далеко от центра. Выбираться отсюда – ужасная морока.
Ужасная морока Стариковское выражение. Однако произнесенное с беззаботностью молодой девушки. Владимир вспомнил, что столь же парадоксальная манера изъясняться была у молодых уроженцев американского Среднего Запада, с которыми он сталкивался в колледже, и это воспоминание успокоило его. Когда они оба устроились на диване и Морган выставила на стол бутылочку убогого местного вина и бумажный стаканчик для Владимира (замазка на лбу осталась нетронутой!), началась стадия «вопрос-ответ» – и то и другое отскакивало от зубов Владимира не хуже слов «Интернационала».
– Откуда у тебя акцент?
– Я – русский, – ответил Владимир мрачным тоном, какого и требовало это признание.
– Точно, ведь Александра мне говорила. Знаешь, в колледже я немного изучала русский.
– Где ты училась?
– В УШО – университете штата Огайо.
В ее устах это прозвучало вполне нормально, но Владимир не мог не вспомнить жирного студен тика из кафе «Модерн», и его футболку с надписью «Штат Огайо», над которой потешалась Александра.
– Так ты специализировалась в русском?
– Нет, в психологии.
– Ах, вот как…
– Но я проходила много гуманитарных предметов.
– О-о…
Пауза.
– Можешь сказать что-нибудь по-русски?
Она улыбнулась и поправила халат на груди, все более распахивавшийся; Владимир внимательно изучал прореху, чувствуя себя подлым, неотесанным вуайеристом.
– Совсем чуть-чуть…
Владимир заранее знал, что она скажет. Почему-то американцы, взявшиеся за неподъемный русский язык, обязательно учатся говорить «я люблю тебя». Возможно, это наследие холодной войны. Взаимные подозрения и нехватка культурного обмена подогревали стремление молодых доброжелательных американских мужчин и женщин навести мосты, разрядить боеголовки, упав в объятия Душевного, загадочного русского моряка или его аналога – отзывчивой, сладкой украинской крестьянки. В реальности же душевный русский моряк полжизни пребывал в беспамятстве и весьма вольно трактовал понятие «изнасилование», а сладкая украинская крестьянка шесть дней в неделю ходила перепачканной в свином навозе, но этих подробностей за серой непроницаемой сущностью, именуемой «железным занавесом», к счастью, было не разглядеть.
– Йа вас лублу, – произнесла Морган, как по заказу.
– Да? Спасибо.
Оба рассмеялись и покраснели, а у Владимира как-то само собой получилось придвинуться к Морган поближе; правда, они по-прежнему оставались на достаточно безопасном расстоянии друг от друга. Ее немодно длинные каштановые волосы липли завитками к шее и спутанными прядями падали на выцветший лавандовый халат; это обстоятельство вдруг вызвало у Владимира жалость и одновременно возбудило его. Она могла бы быть такой красивой, если б захотела. За чем же дело стало?
– И какие же у тебя планы на вечер? – спросил он. – Не хочешь заглянуть в кино?
Кино. Священный ритуал свиданий, который ему прежде не доводилось исполнять. Ни с чикагской подружкой в колледже (прямиком в постель); ни с Фрэнни (прямиком в бар); ни даже с Халой (прямиком к слезам и нервной икоте).
А как вам нравится «заглянуть в кино»? Нельзя ошибиться в парне, употребляющем подобные выражения. И когда на экране какой-нибудь дядюшка-миллиардер ломанется в Ротари-клуб, в общество таких же, как он, зануд, Владимир еще и поднимет предупредительно руку со словами: «А вот теперь начинается самое страшное». Черт с ним, с акцентом, с Владимиром Гиршкиным не пропадешь.
Морган скосила глаза на крошечные часики и задумчиво постучала по ним, словно жила по плотному графику, который Владимир разнес вдребезги своими кинематографическими мечтами и, возможно, худой рукой, обнявшей девушку за плечи.
– Я не была в кино с тех пор, как приехала сюда.
Морган сгребла свежий номер «Прававедения» со стола и, наклонившись к Владимиру, подняла газету повыше, чтобы обоим было видно. Несмотря на ее неприбранный и затрапезный вид в пятничный вечер, из-под вмятины под рукой исходил запах чистого тела. Выпадает ли хотя бы минута, когда американки не бывают столь инопланетно чисты? Ему настоятельно захотелось поцеловать ее.
Если верить газете, Права была наводнена голливудскими фильмами, один тупее другого. В итоге они остановились на драме о голубом, страдающем СПИДом юристе; по слухам, картина наделала много шума в Штатах и снискала одобрение умнейших людей в стране.
Извинившись, Морган отправилась в ванную переодеться (наконец-то!), Владимир же оглядывал ее комнату, забитую сувенирами из Нового и Старого Света. Все поточного производства, они были любовно расставлены на «одноразовых» полках из клееной фанеры: потускневший рисунок Углем с изображением замка в Праве, крошечная Мшисто-зеленого цвета статуэтка русалки из Копенгагена, треснувшая глиняная пивная кружка с логотипом некой «Пивоваренной компании на Великих озерах», увеличенный снимок толстой руки, державшей за хвост судака (папочка?), вставленная в рамку листовка, рекламирующая индустриально-шумовую группу под названием «Марта с грибами» (бывший бойфренд?), и экземпляр «Кота в шляпе» доктора Зюсса[44]44
Популярнейшая в Америке детская книжка.
[Закрыть]. Единственным выпадавшим из общего тона предметом был большой плакат с изображением Ноги – во всем сталинском великолепии она угрожающе нависала над концертным залом в Старом городе. Внизу призыв на столованском: «Grazdanki! Otporim vsyechi Stalinski cudovisi!» Владимир всегда ждал подвоха от этого забавного столованского языка, однако в переводе на нормальный русский лозунг означал приблизительно следующее: «Граждане! Вырубим топором всех сталинских чудищ!» Гм. Немного неожиданно.
Он закрыл глаза и попытался представить Морган всю целиком – симпатичное круглое лицо, вдумчивый взгляд, маленький детский рот, мягкое тело, завернутое в махровую ткань, безобидная ерунда на полках. Да, наверное, у нее найдутся странности и причуды, с которыми впоследствии придется мириться, но пока она являла собой отборную представительницу американского населения. Владимир тоже был не последним человеком: нынешний доход уравнивал его с десятью процентами самых зажиточных семей Америки, и он верил в моногамию с тем несколько унылым романтическим упорством, которое в рейтингах обеспечивало ему место повыше, чем у многих мужчин. Что ж, с цифрами был полный порядок; теперь надо, чтобы пришла волшебная американская любовь, а она всегда приходит, когда с цифрами порядок.
Тут он заметил, что Морган вышла из ванной и что-то говорит ему… О чем это она? О Ноге? Он посмотрел на плакат с Ногой. Он правильно понял? Долой Сталина? Власть народу? Она определенно ведет речь о Ноге и многострадальном столованском народе. Но, несмотря на горячность ее тона, Владимир был слишком занят обдумыванием стратегии, как заставить Морган полюбить его, чтобы вслушиваться в ее слова. Да, пришла пора любви.
Надо признать, она выглядела отлично – полное преображение! Короткая шелковая блузка явственно обозначила контуры фигуры, о чем Морган наверняка была осведомлена; волосы зачесаны наверх, и лишь несколько прядей очаровательно выбиваются из пучка – такую модную прическу Владимир видел на свежих рекламных щитах в нью-йоркской подземке. Возможно, после кино он поведет ее на коктейль к Ларри Литваку, куда Владимира пригласили по телефону, открыткой и в устной форме во время вязкой встречи с хозяином вечеринки, и там Морган окончательно уразумеет, какое положение занимает Владимир Гиршкин на общественном небосклоне Правы.
Кинотеатр находился в Маленьком квартале, в двух шагах от моста Эммануила и достаточно близко от замка, чтобы туда доносился звон соборных колоколов. Как и прочая недвижимость подобного калибра, кинотеатр был битком набит молодыми иностранцами, одетыми в основном в черно-оранжевые пуховики и бейсболки козырьком назад с логотипами американских спортивных команд. Такова была той осенью последняя мода, подхваченная этой отвратительно стерильной человеческой массой, что распространилась через спутник от Лагуны-Бич до провинции Гуандун, – международным средним классом. И Владимир вдруг затосковал по зиме, тяжелым пальто и окончанию туристического сезона, если, конечно, он когда-либо кончается.
Но нет худа без добра: эти глобалисты пялились на девушку Владимира так, словно она была живым воплощением причины, заставлявшей их париться днями и ночами над учебниками по инженерному делу и бухгалтерскими программами. Взгляды же, которые они приберегали для него, бородатой козявки с замашками поэта, послужили бы отличным подспорьем для начинающих католиков в определении места зависти среди семи смертных грехов.
Что касается женщин – ох, зря они звенели золотыми браслетами и щеголяли джемперами в обтяжку, ибо никто, даже бенгальская наследница или юристка из Гонконга, не носил украшения с такой уверенностью и фамильным изяществом, как кандидатка от Шейкер-Хайтс, штат Огайо. (Во время стремительной гонки в центр Владимир выспросил название Кливлендского пригорода, где Морган выросла столь высокой и прекрасной.)
Отлично! На кого бы, независимо от пола, он ни наткнулся в тот вечер, никто не смог омрачить мероприятия, называемого свиданием, и, дабы отпраздновать это событие, Владимир купил в буфете маленькую бутылку «Бехеровки», жуткого чешского ликера, отдававшего подгоревшей тыквой. А для дамы бутылочку венгерского пойла «Уником»; несмотря на фонетическое сходство в названии с комитетом по оказанию помощи бедным при ООН, напиток был источником бесчисленных издевательств над желудком и его чувствительной слизистой.
Они чокнулись, и Морган, отхлебнув, разумеется, поперхнулась и закашлялась, по эту сторону Дуная то же самое случилось бы с любым смертным. Владимир с импровизированной мужественностью принялся ее утешать, даже, снедаемый тревогой, легонько коснулся ее вспотевшей руки, и на секунду ему захотелось навсегда остаться вот так – в образе мужчины, объекта зависти, обладающего возможностью касаться Морган, пусть всего лишь ее конечностей. Но когда в зале погас свет, собственно ритуал ухаживания застопорился. Фильм предоставлял Владимиру мало поводов сыпать остротами и уж тем более делиться заманчивыми замыслами о том, что они будут делать после кино. До того ли, когда половина аудитории шмыгает носом и уливается слезами, глядя, как экранный герой привлекательной наружности тощает «а глазах по мере развития ужасной болезни и в итоге, облысев, испускает дух на заключительных титрах?
А какая сцена разыгралась следом! Носы трубили на весь зал, словно замковые стены, находившиеся неподалеку от кинотеатра, окружали Иерихон. Но Морган выглядела спокойной, разве что слегка осоловевшей; они в полном молчании пробрались к выходу на улицу. По-прежнему молча, они стояли перед кинотеатром, наблюдая, как отъезжают «фиаты»-такси, заказанные зрителями, и первая в тот вечер пьяная процессия итальянских студентов шумно пересекает зловещую тень пороховой башни на пути в сказочную страну диско.
Владимира распирали эмоции.
– Ненавижу! – закричал он. – Ненавижу! Ненавижу! – И даже станцевал короткий танец в тени мигающего уличного фонаря, словно демонстрируя первобытную силу своей ненависти. Далее следовало обосновать свое возмущение интеллектуально. – Какая пошлость. Тошнотворная банальность. Сделать из СПИДа еще одну напыщенную драму. Будто американцы не способны ничего выразить иначе как посредством юридических процедур. Я более чем разочарован.
– Не знаю, – сказала Морган. – По-моему, они правильно сделали, что сняли этот фильм. Многие ведь не понимают. Особенно в моих родных местах. Младший брат и его друзья порою бывают такими гомофобами. Просто от невежества. По крайней мере, в этом фильме говорится о СПИДе. Разве ты не считаешь это важным?
Что?! Что она несет? Кого волнует, как ее идиотский братец относится к педикам? Главное в том, что фильм провалился как произведение искусства! Искусства! Разве американцы едут в Праву не за искусством? Зачем она сама сюда притащилась? Маленький пристойный бунт в промежутке между окончанием университета и аспирантурой? Шанс похвастаться перед неудачниками, навсегда застрявшими в Шейкер-Хайтс: «А вот я с моим бывшим парнем, русским, а позади гостиница, где в 1921 году с Кафкой случилась какая-то важная хреновина. Видите мемориальную доску у двери? Клево, правда?» До сих пор Владимир даже не потрудился спросить, чем она здесь занимается, поскольку альтернативы – преподавание американского английского местным бизнесменам или обслуживание клиентов в утреннюю смену в «Юдоре» – были очевидны. О, как же много он должен ей показать. Как же много ей необходимо узнать об обществе, в котором она оказалась. Решено, он одолеет лишний километр ради этой милой кливлендской красотки. Ради этих румяных щечек. И носа.
– Ладно, – произнес он спустя некоторое время, когда они уже успели немного намокнуть под вялым дождичком. – Мне определенно надо запить это блюдо.
– Как насчет коктейля у Ларри Литвака? – спросила Морган.
Приехали! Значит, она приглашена. А теперь Жгучий вопрос современности: почему двумя часами ранее она сидела на диване в своем панеляке и смотрела телевизор на пару с котом? Возможно, она готовилась к выходу – душ, халат, мазь на лбу. Либо, еще хуже, плевать ей на вечеринку у Ларри Литвака. Черт бы все побрал! – мысленно выругался Владимир по-русски; это сердитое выражение неизменно и без приглашения возникало в его голове, когда житейский разлад достигал поистине достоевских пропорций.
– Тут поблизости есть тихий клуб, – попытался исправить положение Владимир. – О нем никто не знает, и там среди посетителей полно настоящих столованцев.
Но Морган настаивала на коктейле, и Владимиру пришлось подчиниться. И будто для того, чтобы усугубить ситуацию, позади вкрадчиво затормозил Ян на БМВ и принялся мигать фарами, требуя внимания. Исход вечера был предрешен.
Но не все оказалось потеряно, далеко не все. Когда они открыли дверь хаты Ларри, толпа разразилась громовым воплем «ВЛАААД!», так что задрожало вино в бокалах. Едва знакомой Морган, разумеется, ничего не кричали, хотя наверняка восхищались тем, как она выглядела, но молча.
Ларри Литвак, согласно его космической истории, жил в Старом городе, точнее, на его задворках, по соседству с автовокзалом, источавшим, как и все автовокзалы, затхлость и нездоровье и предоставлявшим кров персонажам, поголовно достойным телевизионной передачи о язвах общества.
Свет был приглушен, изрядно приглушен, и это обстоятельство придавало собранию сходство со школьными вечеринками, когда чем труднее рассмотреть лица присутствующих, тем больше кроватей будут трещать при свете раннего утра. Тем не менее Владимир разглядел, что жилище просторное; дом выстроили в межвоенный период экономического процветания, когда столованцы еще верили, что в скором будущем они заживут в квартирах более обширных, чем обиталища их такс. Потолки были столь высокими, что логово Ларри можно было принять за чердак в Сохо, но социалистическая реальность мощно напоминала о себе страшноватой мебелью – коренастыми, утилитарными диванами и креслами, обтянутыми той мохнатой шерстяной тканью, в какую в холод любят облачаться бабушки. Словно для того, чтобы подчеркнуть дрянное качество мебели, Ларри поставил в центре гостиной три бергамота и подсветил их снизу миниатюрными прожекторами, отчего узловатые ветки деревцов отбрасывали колеблющиеся тени на стены и потолок.