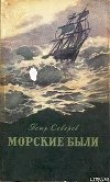Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
– Но где же молодые американцы? – спросил он Костю.
– Молодые в турпоездки не часто ездят. Хотя на мосту Эммануила их полно, они там поют и попрошайничают.
– Эти – не наша епархия.
– Впрочем, знаю я одно кафе, где любят собираться иностранцы, – вспомнил Костя. – Но сначала надо бы выпить за твой приезд, да?
Да. Они углубились в меню напитков.
– Боже, – удивился Владимир, – пятнадцать крон за коньяк.
Костя объяснил, что эта сумма эквивалентна пятидесяти центам.
Доллар стоит тридцать крон? Два коньяка за доллар?
– Ну конечно, – спохватился Владимир Гиршкин, прожженный бизнесмен-космополит. И великодушно добавил: – Я угощаю.
А про себя прикинул: жалованье в две тысячи долларов в неделю обеспечит ему четыре тысячи порций выпивки. Понятно, жадничать не надо, ему придется поить десятки людей и в придачу тратиться на такси, обеды и все такое, тем не менее пятьсот порций коньяка в неделю казались вполне достижимым показателем.
К их столику приплелся официант в знакомом лиловом пиджаке, с унылой, как у таксы, физиономией и прусскими усиками.
– Добри ден, — сказал он.
По-русски приветствие звучало очень похоже, и Владимир уже обрадовался, но словесная каша, которую Костя вывалил на официанта, весьма отдаленно напоминала русское «будьте любезны, два коньяка».
Они выпили. По улице маршировала группа итальянских школьниц, размахивая игрушечными кукарекающими петухами. Мимо столика, за которым сидели Владимир и Костя, нарочито медленно продефилировали две бронзовые нимфы, по очереди бросая взгляд то на одного мужчину, то на другого; большие круглые глаза нимф были лишь чуть темнее коньяка. Застенчивые русские сначала отвернулись и уставились друг на друга, а потом, когда итальянки скрылись за углом, принялись исподтишка разглядывать бронзовых девиц.
– Говоришь, у тебя был роман с классной американкой в Нью-Йорке? – немного натужно поинтересовался Костя.
– И не с одной, – не моргнув глазом, заявил Владимир. – Но одна оказалась лучше других, как это обычно и бывает.
– Верно, – согласился Костя. – Я всегда мечтал поехать в Нью-Йорк, найти там самую хорошую женщину на свете и поселиться с ней в большом доме на окраине города.
– В центре жить лучше, – со знанием дела заметил Владимир. – К тому же самые хорошие женщины редко бывают самыми интересными. Эти качества редко сочетаются, тебе не кажется?
– Кажется. Но если хочешь завести детей, то лучше найти хорошую и плевать на все остальное.
– Детей? – Владимир рассмеялся.
– Ну да, следующей весной мне стукнет двадцать восемь. Гляди. – Костя нагнул голову и дернул себя за седые волоски, росшие посреди макушки – Нет, конечно, я бы предпочел жену, которая ходила бы со мной на концерты, в музеи и, если ей уж сильно захочется, на балет. И чтобы была начитанной и детей любила, понятное дело. И умела вести хозяйство, ведь дом-то я хочу большой. Но вряд ли можно многого ожидать от красивой американки вроде той, о которой ты рассказывал.
Владимир вежливо улыбнулся. Подняв два пальца, он завладел вниманием проходившего мимо официанта и указал на пустые бокалы.
– А в Петербурге у тебя кто-нибудь есть? – спросил он Костю.
– Мама. Она совсем одна. Отец умер. И мама медленно умирает. Цирроз. Эмфизема. Маразм. А пенсия тринадцать долларов. Я отсылаю ей половину зарплаты, но все равно сердце не на месте. Надо бы, наверное, перевезти ее сюда. – И Костя вздохнул тем опустошающим легкие вздохом, который был знаком Владимиру по русским клиентам в Обществе им. Эммы Лазарус. Светловолосый гангстер явно расчувствовался, вспомнив свою маму.
– А ты не думаешь вернуться в Россию? – спросил Владимир и тут же пожалел, что затронул эту тему: меньше всего ему хотелось, чтобы Костя уехал.
– Каждый день думаю. Но ни в Питере, ни в Москве мне не платили столько, сколько здесь. Конечно, там тоже есть мафия… – В наступившей паузе оба задумались над этим особенным, ужасным словом. – Но там куда опаснее. Все, чуть что, хватаются за стволы. Здесь спокойнее. У столованцев лучше получается поддерживать порядок.
– Да, Сурок показался мне приятным человеком. Вряд ли здесь кому-нибудь придет в голову вредить ему. Или его подчиненным.
Костя засмеялся, наматывая галстук на руку, словно мальчишка.
– Ты пытаешься меня о чем-то спросить? – Третья порция коньяка возникла на столе без приглашения. – На самом деле здешние болгары не в восторге от того, что Сурок отхватил лучший кусок на рынке стриптизерш. Но эти разногласия легко решаются за парой бутылок вот этого… – Костя поднял бокал. – И никакой стрельбы.
– Вот и хорошо, – подытожил Владимир.
Костя посмотрел на часы:
– У меня скоро встреча. Но мы еще с тобой выберемся вместе в город, и не раз. Да, кстати, ты бегаешь?
– Бегаю? – переспросил Владимир. – Ты имеешь в виду – за автобусом?
– Нет, для укрепления физической выносливости.
– С физической выносливостью у меня полный завал.
– Тогда решено. Со следующей недели начинаем бегать. За нашим поселком есть отличная тропинка. – Они пожали друг другу руки, и Костя написал на салфетке адрес кафе экспатриантов.
Кафе называлось «Юдора Уэлти»[26]26
Юдора Уэлти (1909–2001) – американская писательница и фотограф; известность принес ей роман «Дочь оптимиста».
[Закрыть]. Затем Костя подтвердил свою отличную спортивную форму: резко вскочив, выбежал на улицу и в мгновение ока скрылся за углом.
Владимир притворно зевнул, допил коньяк и жестом попросил счет, составивший чуть более трех долларов. Настало время знакомиться с гринго.
3. Писатель Коэн
Подвал с «Юдорой Уэлти» Владимир отыскал как раз к середине тягучего гастрономического безвременья между обедом и ужином – в ресторане обреталось всего шесть душ. Пещерообразный зал наводил на мысль, что место, где ныне располагалось заведение для тоскующих по родине экспатриантов, в былые времена использовалось в иных целях – например, в качестве камеры пыток, где католики и гуситы по очереди подвешивали друг друга за волоски в носу к цилиндрическим сводам. Ныне о мученической религиозности напоминал лишь рекламный плакат: поджаренная рыба-ангел на листьях спаржи.
У входа в зал Владимира встретила официантка, молодая дерганая американка с короткими, с проседью, волосами и в юбке, напоминавшей шотландский килт. У нее были дурные манеры, к Владимиру она обращалась «родной»: «Присаживайся, родной». И в придачу была южанкой.
Владимир принялся изучать меню и соратников по позднему обеду. Слева от него, за столом с Дюжиной пустых пивных бутылок, сидели четыре девушки. Одеты они были для температуры градусов в двадцать: «мартенсы», вельветовые штаны и майки разнообразных мрачных оттенков – больничного, нарколептически-серого и черного, как бездна. Разговаривали девушки очень тихо, так что Владимир не мог разобрать ни слова, и все четверо выглядели до боли знакомо. Уж не учился ли он с ними вместе в Средне-Западном колледже? Владимира подмывало пробурчать название колледжа, чтобы посмотреть, какова будет реакция.
Последний из посетителей был настоящим красавцем: статный, широкоплечий, с львиной светло-каштановой гривой – неоспоримым признаком здоровья, колоколом опускавшейся на спину. Если у ценителей человеческой красоты и могли возникнуть претензии к этому джентльмену, то лишь касательно носа с легкой горбинкой – зачем скрещивать орла и льва? – а также нелепого пушка на подбородке. Парню пошла бы борода либо бритые щеки, но только не этот тощий мох.
Красавец что-то строчил в блокноте, на столе перед ним стояли в ряд непременные пустые бутылки, в недрах пепельницы на автопилоте дымилась сигарета. Время от времени взгляд парня блуждал по ресторану, небрежно минуя столик, облюбованный противоположным полом.
Владимир заказал запеченную свинину и мятный джулеп[27]27
Коктейль на основе виски или коньяка, с водой, сахаром и мятой.
[Закрыть].
– А что это за пиво, которые тут все пьют? – спросил он официантку.
– «Юнеско», – ответила она, улыбаясь и по вопросу легко определив, что Владимир здесь новичок.
– Ах да. Одно пиво.
Покопавшись в сумке, он достал толстый, потрепанный блокнот, наследие школьных времен; на страницах мелькали то стихотворение, то прозаический отрывок. Владимир швырнул блокнот так, чтобы его витой позвоночник звякнул о стол, а затем постарался изобразить полнейшее равнодушие, когда девушки за соседним столиком и молодой Хэмингуэй на другом конце ресторана уставились на него. Вынув мраморный «паркер» с логотипом материнской компании, Владимир улыбнулся. Улыбка адресовалась ручке.
Те, кто наблюдал за Владимиром годами, не обнаружили бы в его мимике ничего примечательного: улыбка, как всегда, расползлась по лицу, оседая на выпяченной нижней губе и в безмятежных зеленых глазах. Но Владимир (возможно, начитавшись плохих романов) верил, что улыбка способна рассказать целую историю, если вдобавок в нужные моменты вздыхать и благодушно качать головой. В данном случае Владимир надеялся выразить следующее: «Да уж, мы с этой ручкой много чего повидали. В те странные, отчаянные годы мы помогли друг другу не развалиться на части. Порт-Ланд, штат Орегон; Чэпел-Хилл в Северной Каролине; Остин в Техасе и, конечно, Седона, штат Аризона. Может, еще Ки-Уэст. Сейчас уж не вспомнить. Раздолбанные машины, случайные женщины, группы, которые распадались из-за яркости наших творческих индивидуальностей. И всегда и всюду она была со мной, моя ручка. Я пишу. Я писатель. Нет, скорее, поэт». Владимир слыхал, что в этих местах поэзия была на особом счету. Все рифмовали, в джаз-клубах устраивались поэтические вечера. Но Владимиру необходимо было выделиться из толпы… «Я поэт и писатель. Нет, поэт и романист. Но зарабатываю на инвестициях. Поэт-романист-инвестор. А еще импровизирую в танце».
Владимир уже довольно долго улыбался ручке. Пожалуй, и хватит. Он углубился в стихотворение. О матери. Сочинялось оно легко, мать прекрасно поддавалась версификации. Официантка принесла напитки, увидела, чем занимается Владимир, и ухмыльнулась. Да, здесь кругом были свои.
Владимир развлекался от души, описывая мать в китайском ресторане: «тонкая нитка жемчуга из тех мест, где она родилась», этот образ заслужил одобрение преподавателя сравнительного литературоведения в Средне-Западном колледже. И вдруг – о ужас! – ручка-путешественница выдохлась. Владимир потряс ее со всей элегантностью, на какую был способен, затем принялся покашливать, поглядывая в сторону другого обедавшего творца. Парень не реагировал, погрузившись (или притворившись, что погружен) в работу. Он щурился, с сокрушенным видом мотал головой, сгребал волосы, снова опускал руки – и грива рассыпалась весьма изящно, как раскрывается китайский веер. Затем красавец вздохнул и благодушно кивнул сам себе.
Женский коллектив отреагировал тем, что еще сильнее приглушил громкость разговора. Зачарованно и с некоторой тревогой они наблюдали за Владимиром и его ручкой, словно заблудившиеся туристки, наткнувшиеся на спонтанную уличную пляску туземцев вдали от безопасной крепости отеля «Хилтон». Владимир взял со стола бутылку пива – иных рекомендаций у него не было – и подошел к девушкам.
– Мне бы ручку.
У одной из девушек оказалась при себе сумочка; она открыла ее и начала рыться в ворохе бумажных носовых платков, чистых и использованных. При этом она испуганно поглядывала на товарок, пока одна из них – с прической «дикобраз»: высветленные иглы грозно поблескивали – не сказала за нее:
– У нее нет ручки.
Остальные кивнули.
– Нужна ручка? – То был писатель. Он прижимал бутылку к щеке. Владимир, будучи слегка пьян, истолковал этот жест как интернациональный символ доброй воли.
– Да, верно, – ответил Владимир, чувствуя, что Драма приближается к развязке. Пробормотав благодарности в адрес девушек (безответно), он направился к писателю за шариковой ручкой. – Чертова штуковина кончилась.
– Писатель всегда носит с собой запасную! – Рявкнул красавец. – Всегда! – Пиво он поставил на стол и, вздернув круглый, с ложбинкой, подбородок, взирал на Владимира, словно директор школы на своего самого нерадивого подопечного.
– Запасная тоже кончилась… – Но смущенный тон выдал Владимира: он провинился, взяв с собой только одну ручку. – Я сегодня слишком много писал.
Слишком много? «Слишком» в этом деле не бывает. Владимир уже не сомневался, что по глупости все испортил, но писатель неожиданно заинтересовался:
– И что же вы написали?
– Стихотворение о моей русской матери в пейзаже Чайнатауна. – Владимир постарался предстать в наиболее экзотическом свете, втискивая в одну фразу как можно больше этносов. – Но оно не получилось. Я приехал сюда, в Праву, специально для того, чтобы взглянуть на все со стороны, но пока ничего не проясняется.
– А откуда вы взяли русскую мать? – спросил писатель.
– Я – русский.
– Тсс!
Оба огляделись.
– Барменша – столованка, – объяснил писатель.
От обеденного зала бар отделяли перекошенные деревянные дверцы, как в салуне, где-то за ними обреталась русофобствующая туземка. Владимир сконфуженно уставился в пол, глотнул пива, не зная, что сказать. Попытки завязать беседу с литературным божком никак не удавались, и он начинал терять почву под ногами. Наперекор мудрому инстинкту Владимир решил прибегнуть к честности, смертельному врагу финансовых пирамид.
– Я только что приехал, – сказал он. – И пока не очень в курсе, как вести себя с местными.
– А ну их, – отмахнулся писатель. – Это американский город. Да ты присаживайся! Отдохни от своего стихотворения про русскую мамочку. Только не обижайся. Черт, у меня ведь тоже был период, когда мать была моей музой. Поверь, материнская титька до завтра никуда не денется.
И тут Владимир понял, что этот малый начинает ему нравиться. Ценные указания насчет двух ручек, беззаботное отношение к местным жителям, а теперь и квалифицированное мнение о материнской титьке. Непосвященный обозвал бы писателя занудой. Но Владимир прекрасно знал этих обаятельных отщепенцев процветающей Америки: сначала пятилетка бродяжничества и алкогольного самопознания, затем пятилетка упертого ускорения с целью вернуться на круги своя. Черт, у меня ведь тоже был период, когда мать была моей музой. Какая обезоруживающая агрессия. Средне-Западный колледж в лице его типичного представителя. Теперь Владимир не сомневался: этот Адонис обязательно окажется в его колоде в качестве подопытного клиента.
Стоило Владимиру присесть за стол, как принесли второй мятный джулеп. Официантка не смогла не улыбнуться, глядя на встречу двух родственных американских душ. Владимир допил пиво и поставил бутылку на поднос.
– Еще одну? – спросила официантка.
– Да, пожалуйста.
– Орешки?
– Нет.
– Лимон?
– Sans лимон.
– За мой счет, – сказал писатель, впечатленный краткостью и прямотой диалога. Прямо как у Раймонда Карвера[28]28
Раймонд Карвер (1938–1988) – поэт, новеллист, «крутой парень» американской литературы прошлого века, погиб от алкоголизма.
[Закрыть]. – Заливаешь пожар? – спросил он у Владимира, когда тот потянулся к джулепу.
– Разницу во времени. Возвращаюсь в реальность, – отозвался Владимир.
Думай. Какие у Карвера диалоги? Обманчиво простые, но предельно насыщенные.
– Я пока присматриваюсь. – Владимир отвернулся с загадочным видом.
– Нашел, где жить?
– Босс предоставил мне квартиру в пригороде.
– Босс? – Писатель открыл рот, демонстрируя достижения американской стоматологии. Покачал головой, грива заколыхалась; казалось, нет ничего естественнее, чем протянуть руку и погладить эту шелковистость. – То есть ты работаешь? Где?
Этот бунтарь и творец явно оживился при упоминании о материальном мире. Владимир представил себе его обеспокоенных родителей, гневные трансатлантические переговоры, бандероли, набитые анкетами юридических школ, которые таскали по улицам Правы измученные столованские почтальоны.
– В фирме по развитию.
– Правда? И что же вы развиваете? Кстати, меня зовут Перри, – он вытянул вперед руку. – Перри Коэн. Да, имечко странное. Так вот, знай: я единственный еврей в Айове.
Владимир улыбнулся, размышляя: а что будет с Коэном, объявляющим себя единственным и неповторимым, если в помещении найдется еще один еврей из Айовы? Коэну будет очень не по себе. Владимир запомнил эту мысль – на будущее.
– Как же вы, евреи, добрались до Айовы? – спросил он. – Я тоже еврей, – добавил он примирительным тоном.
– Еврей только отец, – объяснил Перри. – А мать – дочь мэра.
– И мэр позволил ей выйти замуж за еврея. Как мило. – Вот оно. Владимир почувствовал, что попал в тон. В тон здешних экспатриантов: режь правду-матку. – Твой отец наверняка блондин. И выкрест к тому же.
– Он – обрезанный Гитлер.
Стоило писателю это произнести, как случилось нечто неуместное и даже, возможно, незапланированное: Коэн подался вперед, грива упала ему на лицо, а под ней Владимир углядел – что? Шмыгающий нос, невольный всхлип? Часто моргающие ресницы, не подпускавшие влагу к глазам? Зубы, впившиеся в нижнюю губу, чтобы та перестала рожать? Владимир не успел толком разобраться, стал ли он свидетелем искренней эмоции либо спектакля, разыгранного специально для него. Откинув волосы со лба, Коэн громко откашлялся и вновь принял невозмутимый вид.
– Гитлер, ну-ну. – Владимир был только рад притвориться недоверчивым невеждой. – Рассказывай.
И Коэн рассказал Владимиру историю своего отца. Двое мужчин познакомились две минуты назад; один одолжил другому ручку; затем они выяснили этническое происхождение друг друга; обменялись парой саркастических реплик. Неужели такой малости – эквивалентной обнюхиванию задов собаками при знакомстве – достаточно писателю Коэну, чтобы поведать историю своего отца?
Или эта история – его фирменный знак? Его тема? За годы блужданий и самокопаний Владимир четко усвоил одно: крайне важно иметь свою тему. Внятную историю, годившуюся при случае для сольного выступления. Предоставлявшую шанс поглубже закрепиться в сознании других людей. История Коэна, как ни печально, была даже не его собственной, а лишь историей его отца. Однако Коэн отчаянно норовил сделать ее своей.
Он даже таскал с собой наглядные пособия! Снимок отца, чрезвычайно розового и плотного американского еврея: крошечные глазки, на которые наползает огромный лоб, залитый потом, все прочее втиснуто в зеленый клетчатый костюм; папаша стоит в обнимку с Ричардом Никсоном на фоне плаката «Партийная конференция в Де» Моин, 1974». Мужчины глядят друг на друга и улыбаются так, словно на дворе не 1974-й, но обычный, ничем не примечательный год в истории американского президентского правления[29]29
В 1974 г. отставкой президента Ричарда Никсона (республиканца) завершился так называемый уотергейтский скандал, вызванный обнаружением подслушивающих устройств в штаб-квартире Демократической партии США; устройства были установлены Республиканской партией.
[Закрыть].
– Па-па, – по складам произнес Коэн, подражая голосу трехлетнего ребенка, и пальцем потер отцовскую лысину на снимке.
И таки да, папашей старший Коэн был по-своему выдающимся. На тринадцатый день рождения Перри, когда, согласно иудейскому канону, на мальчика навешивают сомнительные обязанности мужчины, отец сделал ему подарок.
– Я меняю тебе фамилию, – объявил он. – Ты не останешься на всю жизнь Коэном. – И выдал сыну кипу бумаг на подпись.
Отныне мальчику предстояло называться Перри Колдуэллом.
Не то чтобы Коэн тогда впервые испытал ненависть к себе. В конце концов, имя у него тоже было подходящее — Перри. На службу в синагогу отец возил его в Сент-Луис, подальше от дома, и только по большим праздникам, а раввина за глаза величал преподобным Любофски.
– Надеюсь, хоть в этом году преподобный уволит того парня, – говорил отец, изображая муку на широком лице с пухлыми губами. Больше всего он боялся, что какой-нибудь земляк из Айовы увидит, как они заезжают на маленькую парковку перед синагогой.
И конечно, Коэн очутился в прогрессивном Средне-Западном колледже свободных искусств (заведении, родственном тому, которое посещал Владимир), где классовая ненависть к отцам была нормой. В этом виде искусств Коэн особенно отличился. В ранние девяностые для сотен недовольных молодых людей Средний Запад стал своеобразным перевалочным пунктом на пути в Праву, страну искупления. Озлобленный и растерянный, Коэн клюнул на эту приманку на предпоследнем курсе. И оказался здесь.
Так вот какова его история! Тема Коэна! Отец – богатый засранец. Ах, какой ужас. Владимир был уже готов ткнуть Коэна носом в свое детство – от наскоков на евреев в Ленинграде до «вонючего русского медведя» в Вестчестере. Ассимиляция, блин. Да что ты знаешь об ассимиляции, избалованная американская свинья? Лучше меня послушай, я тебе такое расскажу!
А эти ужимки! Когда речь зашла о том парне, Коэн понизил голос; перечисляя отцовские прегрешения, старался напустить на себя вид мужественного страдальца. Крокодиловы слезы, мой упакованный друг. Твой отец может вырубать леса или вырезать хуту, но в конечном счете твою судьбу решает размер попечительского фонда, изгиб носа и чистота произношения. Папочка Коэн по крайней мере не ругал сына за то, что тот ходит как еврей. Да пошли вы все! Убил бы этого Коэна, думал Владимир. Однако скорбно покачал головой и сказал:
– Боже мой. Трудно поверить, что такое еще случается в наше время.
– Мне и самому не верится, – ответил писатель. – Надеюсь, ты не покороблен моей откровенностью.
Тебя не покоробила моя откровенность, мысленно поправил Владимир (идиоты американцы даже родного языка не знают!). И конечно, покуда на горизонте маячит твердая валюта, Владимира ничто не покоробит.
– Отношения с отцом стали отличным материалом для моей работы, – продолжал Коэн. – И я подумал, что ты из тех людей…
Да? Из каких таких людей?
– Ты кажешься малым проницательным, с жизненным опытом.
– А-а, – протянул Владимир.
Вот как. Надо же, сукин сын попал в самую точку. И тут надменный Гиршкин немного смягчился. Оно и понятно: лучшего комплимента человеку двадцати пяти лет, чем похвала его проницательности и опытности, не сыскать. Да и айовец был, как мы уже говорили, большим, симпатичным, встрепанным львом (как бы Владимиру хотелось походить на него) и уверенным в себе настолько, что делился интимными подробностями за первой же бутылкой пива. К тому же у Коэна были красивые руки, по-деревенски крупные, руки настоящего мужчины, и он наверняка успел переспать с самыми разными женщинами. Владимир, который тоже стремился стать настоящим мужчиной, предпочел подружиться с Коэном. Владимир не ожидал, что потребность в дружбе и близости возродится столь скоро после его бесславного бегства из Нью-Йорка, однако явственно эту потребность ощущал. Он остался общественным животным, и тереться среди себе подобных ему было необходимо. Опять же, его выбор пал на льва. Вальяжного бродячего зверя.
В конце концов Коэн попросил Владимира показать стихотворение о матери.
– Оно еще не закончено, – покачал головой Владимир. – Извини.
Повисла долгая пауза. Коэн, в течение четверти часа распинавшийся о своем отце, наверное, обиделся, когда ему не ответили взаимностью. Но вскоре принесли запеченную свинину, о своем приближении официантка предупредила кашлем.
– Ты так и не сказал, что же развивает ваша фирма, – напомнил Коэн.
– Таланты, – ответил Владимир. – Мы развиваем таланты.
Когда Владимир и Коэн разделались со свининой, солнце уже приготавливалось ко сну в речных водах. На мосту Эммануила наяривали на саксофонах уличные музыканты, перед каждым стояла коробка из-под обуви «Бата» с бархатной тряпочкой на дне; слепой аккордеонист на пару с женой надрывно и под несмолкаемый звон монет орали немецкие застольные песни; две юные игривые блондинки из Калифорнии представляли «Гамлета», столованские парни пялились на них и свистели, соотечественники смущались и не подавали. В воображении Владимира вся эта допотопная коммерция и шоу-бизнес превращали мост в древнюю переправу, каменную ковровую дорожку, протянутую из замка и накрывшую весь город. По обе стороны моста высились статуи святых, почерневшие от угольной пыли, они корчились в героических позах.
– Смотри, – Коэн указал на три непонятные фигуры, прятавшиеся в складках одеяний двух величественных святых, – вот дьявол, вон там турок, а тот еврей.
Ну вот, мы опять вернулись к великой теме Коэна. Владимир выдавил улыбку. После обеда он был весел и доволен собой, но знал: его настроение как глина, из которой могучий алкоголь способен слепить что угодно, и не хотел, чтобы какой-нибудь трагический поворот истории испортил ему вечер.
– Почему их поместили под святыми? – спросил он из вежливости.
– Они их поддерживают, – ответил Коэн. – Это группа поддержки.
Владимиру не хотелось расспрашивать дальше. Ясно, они имеют дело со средневековым юмором, но что они понимали, эти столпы христианства? И земля у них была плоской, и логика вечно хромала. А сейчас, между прочим, 1993 год, и за исключением назревавшей бойни на Балканах, в Африканском Роге, бывшей советской периферии, ну и привычной резни в Афганистане, Бирме, Гватемале, Западной Сахаре, Белфасте и Монровии, мир вполне вменяем.
– А теперь пойдем, я покажу тебе мое самое любимое место, – сказал Коэн и резко прибавил шагу.
Владимир едва поспевал за ним. В мгновение ока они, сбежав с моста Эммануила, оказались на набережной. Проскочив мимо церквей, особняков и одинокой пороховой башни, заброшенной судьбой на эту сторону Тавлаты, они свернули в уютную улочку, взбиравшуюся на городской холм вдоль стены замка. Здесь на приземистых купеческих хороминах красовалась мозаика с изображением старинных ремесел и шутливых семейных гербов: три крошечные скрипки, растолстевший от вековой неподвижности гусь, печальная лягушка. Владимир поискал глазами корнишон – а вдруг у его семьи отыщутся корни в Праве[30]30
Фамилия Гиршкин происходит от немецкого gherkin – «корнишон».
[Закрыть].
Холм он одолел с трудом. Воздух Правы был смертельной отравой; сама жизнь здесь, казалось, пахла углем. Коэн, напротив, чувствовал себя прекрасно, хотя теперь, когда его новый друг принял вертикальное положение, Владимир отметил, что на заду тот носит груз более тяжелый, чем следовало бы, да и ляжки пострадали от местных свиных шедевров.
Меж тем Коэн нырнул в еще более узкий проулок, который вскоре выродился в нечто, что уже и улицей нельзя было назвать: пятачок на стыке задних стен четырех пастельного цвета домов. Писатель уселся на крыльце перед фантомным дверным проемом, давно превратившимся в глухую стену, и объявил, что вот эта клетушка с естественным освещением и является самым прекрасным уголком в личной Праве Перри Коэна. Именно здесь он сочиняет стихи и заметки для городской англоязычной газеты с прискорбно неуклюжим названием «Прававедение».
Значит, это и есть любимое место Коэна? Ради этого они пробежались вверх-вниз по четырем холмам Правы? Весь город (за вычетом Ноги) – бесконечная череда живописных видов, однако Коэн выбрал самый тесный, самый прозаический уголок Восточной Европы… Даже в панеляке, куда поселили Владимира, больше выразительности. Стоп. Владимир снова огляделся. Ему надо научиться мыслить, как Коэн. Это ключ ко всему. Сто лет назад он научился думать, как Франческа и ее друзья, нью-йоркские небожители. Теперь он опять должен адаптироваться. Почему Коэн считает это место таким особенным? Смотри внимательно. Думай, как он. Ему нравится это место, потому что…
Понял! Потому что в нем нет ничего особенного, что позволяет Коэну чувствовать особенным себя. И не таким, как все. Приехав в Праву, он совершил неординарный поступок, а затем подтвердил свою неординарность, выбрав этот закоулок. Владимир все понял и был готов продолжать.
– Перри, я хочу, чтобы ты сделал из меня писателя.
Коэн мгновенно вскочил. Возвышаясь над Владимиром, он простер руки, явно приглашая к объятию, которым они скрепят достигнутое соглашение, после чего потреплют друг друга по волосам в знак полного взаимопонимания.
– Писателем или поэтом? – уточнил Коэн.
Он часто дышал, как пожилой, грузный человек.
Владимир задумался. Стихи, вероятно, пишутся быстрее, чем проза. Скорее всего именно по этой причине Коэн выбрал поэзию.
– Поэтом.
– Ты много читал?
– Ну… – Владимир выдал список, которым мог бы гордиться сам Баобаб: – Ахматова, Уолкотт, Милош[31]31
Дерек Уолкотт – тринидадский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 года; Чеслав Милош – польский поэт, живущий в Америке, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года.
[Закрыть]…
Нет, нет. Коэн и слышать о них не хотел.
– Тогда Бродский? Симик?[32]32
Чарльз Симик – американский поэт, родом из Югославии, лауреат Пулицеровской премии.
[Закрыть]
– И на этом остановись, – сказал Коэн. – Видишь ли, как большинство начинающих поэтов, ты уже прочел слишком много. Не смотри на меня так. Я правду говорю. Ты чересчур начитан. Для чего мы приехали сюда, в старый мир? Не для того ли, чтобы избавиться от багажа нового мира?
– А-а, – протянул Владимир.
– Чтение не имеет ничего общего с писательством. Это диаметрально противоположные вещи, они отменяют друг друга. Послушай, Владимир, ты действительно хочешь взять меня в наставники? Если так, предупреждаю: ты должен быть готов к риску.
– Искусство без риска – застой, – заявил Владимир. – Перри, я хочу стать поэтом, потому и отдаюсь в твои руки целиком и полностью.
– Спасибо, ты хорошо сказал, – одобрил Коэн – Ты славный парень. И очень смелый. Давай-ка…
Они обнялись, как и задумывал Коэн. Владимир сжимал писателя изо всех сил, радуясь богатому дневному улову – двум добрым друзьям (первым был Костя). Пребывая в благовонных объятиях Коэна, Владимир даже решил поставить айовского еврея у основания своей финансовой пирамиды, там, где под ворохом бумажных векселей будут скапливаться доллары и немецкие марки.
– Перри, – сказал он. – Совершенно ясно, что мы станем друзьями. Ты ввел меня в свой мир, и я обязан ответить тем же. На самом деле я довольно богат и обладаю некоторым влиянием. Я не шутил, когда говорил, что моя фирма развивает таланты.
Две следующие, ключевые фразы Владимир придумал еще на бизнесменском обеде. У него хватило благоразумия конспективно записать их на ладони.
– Талант, Перри, иногда похож на океанский лайнер с ограниченным числом отдельных кают, но я не желаю, чтобы такие люди, как ты, провели всю жизнь на палубе. Позволь сделать тебя состоятельным человеком.
Коэн придвинулся ближе с намерением еще раз обнять нового друга. Господи, опять! Так вот каков Коэн, когда не рассиживается в «Юдоре», высмеивая новичков за то, что те не запаслись второй Ручкой и не оторвались от материнской груди, – совсем ручной литературный лев, сентиментальный столованский гуляка. Владимир возликовал: он правильно сделал, взяв Коэна в наставники. Неужели такого пустяка достаточно, чтобы айовец подобрел и размяк? Неужели Владимиру одним махом удалось возвысить Коэна в собственных глазах, доказать, что не зря он просиживал часами на этих тесных, невзрачных задворках Правы? И неужто Владимир обзавелся другом на всю жизнь?
Писатель уже почти обнял нового друга, но, сообразив, что ответного движения не последует (всему есть предел, полагал Владимир), ограничился похлопыванием по плечу.
– Ладно, мой финансовый шерпа, – сказал Коэн. – Двигаем в центр, я познакомлю тебя с нашими.
Они влезли в трамвай и поехали вниз по холму, замок опять нависал над ними. Теперь фасады дворца были залиты желтым электрическим светом, а шпили и кресты, стремившиеся в небо, ярко-зеленым – любовники, говорящие на разных языках.