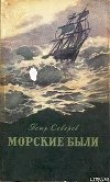Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Пока они тряслись в трамвае, пересекая Тавлату, их швыряло из стороны в сторону, а подтянутые местные старожилы, занимавшие сидячие места по исконному праву, молча, но от души наслаждались зрелищем: двое иностранцев то и дело валятся к их ногам. Владимир, изо всех сил пытаясь сохранить равновесие, попросил Коэна об уроке географии.
Коэн, как и Костя, с радостью взял на себя роль гида. Он указывал пальцем на достопримечательности, оставляя никотиновые следы на трамвайных стеклах. Слева от замка, на холме, где между друзьями только что произошел «тот разговор» (так это событие назовут впоследствии) и где под красными черепичными крышами сгрудились самые важные посольства и винные бары, располагался район под названием Маленка Кварталка.
– Маленький квартал! – Владимир не уставал радостно удивляться, когда его родной язык пересекался со столованским.
Но почему такое уничижительное имя для столь великолепных окрестностей? Коэн не знал ответа.
Там, куда они направлялись – к «морю шпилей», виденному Владимиром утром, при первом набеге на Праву, – находился Старый город. К югу шпили редели, крыши блестели сдержаннее и надо всем, словно призрак каучукового комиссара, грозно высилась гигантская галоша на Ноге – то был Новый город. Собственно, не такой уж он новый, пояснил Коэн, просто основан всего-то в четырнадцатом веке.
– А что там, в Новом городе? – спросил Владимир.
– К-март, – шепнул Коэн с почтительной издевкой.
В Старом городе, средь роскошного, хотя и потертого убранства кафе «Модерн», они пили кофе одну чашку за другой. Глаз всюду натыкался на приметы эпохи, в честь которой кафе получило свое название: зеркала в тяжелой позолоте, обшивка кресел и ковры красного бархата, обязательная беломраморная нимфа. Вечер затянулся. Слушая Разглагольствования молодого американца о современных поэзии и искусстве, Владимир поздравлял себя с тем, что у него нет ни малейших литературных склонностей и ему чужды художественные амбиции, иначе его сумбурная жизнь и впрямь кончилась бы печально. Взять того же Коэна, куда завели его иллюзии? А ведь Коэн был богатым денди, не каким-нибудь жалким русским, чьи шансы выглядели паршивенько уже на старте.
Пока Владимир предавался размышлениям, не забывая кивать речам Коэна, окружающая среда начала меняться к лучшему. На сцену вышел диксиленд, состоявший целиком из столованцев; тусовка зашевелилась, хорошенькие мраморные столики заполнились хорошенькими мальчиками и девочками, а уголок Коэна превратился в место паломничества.
Позже Владимир не мог вспомнить, со сколькими прекрасными сыновьями и дочерями Америки он познакомился в тот вечер. Он лишь помнил, что был подчеркнуто холоден и немногословен, снова и снова пожимая протянутые руки, когда Коэн представлял публике Владимира Гиршкина, международного магната, искателя талантов и будущего поэта-лауреата.
Мало кто понял, что он за птица. Владимир не расстроился. А что он сам понял про новых знакомых? Прежде всего, они составляли довольно однородное сообщество – белые американцы из среднего класса с модной неудовлетворенностью (из общих знаменателей последний был наименьшим). Им, рожденным в Америке, не приходилось биться над вопросом, кем быть: альфа-обывателем или бета-иммигрантом; пять поколений состоятельных предков наделили молодых американцев законной привилегией – позволить себе роскошь вторичности. И здесь, в сказочной Праве, они держались вместе, повязанные общей усредненностью, словно горошины из одного стручка, выращенного где-нибудь в графстве Фэрфэкс, словно многочисленные Ромулы и Ремы, явившиеся на свет в эпоху демографического взрыва и сосавшие одну и ту же волчицу. Но для явных аутсайдеров вроде Владимира правила были иными; таким, как он, надо было совершить нечто выдающееся – продирижировать в Большом, написать роман, построить финансовую пирамиду, – чтобы заслужить хотя бы толику признания.
Владимир обратил внимание на их манеру одеваться. Некоторые носили фланелевые костюмы – мода, успевшая расползтись из Сиэтла по всей стране в последний месяц пребывания Владимира в Штатах. Но и стиль «шикарный лох», самый ценный дар Франчески, тоже присутствовал. Если рубашка, то в обтяжку, свитер – толстенный, очки – в увесистой роговой оправе, а волосы либо уложены с экстравагантностью семидесятых, либо прилизаны, как в пятидесятые. Однако насколько моложе Владимира были эти модники! Двадцать один, двадцать два максимум. Кое-кого, наверное, не стали бы обслуживать в американских барах. По возрасту Владимир годился им если не в профессора, то уж по крайней мере за руководителя семинарских занятий мог бы сойти.
Тем не менее он не собирался сдаваться. С годами приходит мудрость. Владимир уже представлял, как его произведут в ветераны общины. Почему нет? Несмотря на относительную молодость, новым лохам мешало развернуться воспитание, полученное в демографически серых пригородах; Владимир же – бывший ньюйоркец, а значит, отвязный по определению. Но не единственный отвязный здесь. Среди тех, кто особенно старался выделиться, был Планк, тощий и нервозный парень, всюду таскавший за собой визгливую мелкую собачонку (на вид – помесь чихуахуа с комаром) в самодельном мешке с серебряным шнурком. Слюнявая, унылая собачья мордочка, похожая на меховые наушники с глазами, то и дело высовывалась из переносной конуры, и все девушки почитали своим долгом сообщить Планку, какая у него симпатичная псинка. Но Планк, следуя правилам игры, не улыбался в ответ, лишь кивал, памятуя о неуместности подобных сантиментов в наступившем сезоне. По словам Коэна, Планк разводил таких карманных собачонок в своем панеляке на продажу столованским старухам. Впрочем, к Владимиру Планк отнесся с прохладцей, обронив: «Деньги не главное, знаете ли». Та-ак, антибизнесменский выпад? Он разве не понял, что истинную страсть Владимир питает исключительно к своей музе?
С Александрой дело пошло легче. Высокая, стройная, темноволосая, с круглым, банально-хорошеньким личиком, доставшимся от средиземноморской прабабки, и строгой линией маленькой груди, она походила на Франческу (осмелься Владимир допустить такую мысль), отличаясь от нее лишь высокими скулами, длинными натуральными ресницами, загибавшимися вверх двумя параболами. У Фрэн красоту надо было сначала отыскать, а потом влюбиться в изъяны; Александра же со своими стандартными прелестями отлично бы смотрелась в паре с красавцем Коэном. И судя по тому, что писатель не сводил глаз с очертаний ее тела, обтянутых – при том, что нижнее белье отсутствовало, – узким черным свитером с высоким горлом и того же цвета легинсами (никаких шикарных обносков, спасибо), Коэна посещали те же мысли.
Не успели Владимира представить, как Александра схватила его за голову и ткнула пушистой растительностью в мягкую обнаженную часть шеи под подбородком.
– Привет, дорогой! Много слышала о тебе!
Слышала? От кого? Владимир познакомился с Коэном три часа назад.
– Идем! Идем со мной! – Взяв за плечи, она потащила Владимира к гобелену эпохи модерн, висевшему на обитой бархатом стене: длинные разноцветные лебяжьи перья обрамляли, причудливо изгибаясь, сильно стилизованное «Оплакивание Христа». Ох уж этот старый добрый модерн, подумал Владимир. Слава богу, абстрактные экспрессионисты с компанией зарубили это аляповатое чудище.
– Смотри! Смотри сюда! – кричала Александра хрипловатым, прокуренным голосом. – Пструха!
Что? Да какая разница… Александра была великолепна. Какие ключицы. Они выпирали из-под свитера. Она сама была как лебедь. Красная помада на губах, черная водолазка. Чистое хайку.
– Ты видел раньше Адольфа Пструху? Я на нем просто помешалась. Загляни в мою сумку. Загляни! – И правда, сумка была набита иллюстрированными книгами про этого малого на букву «П». – Понимаешь, Пструха на самом деле не был столованцем. Он принадлежал к группе «Словене Модерна». Тебе знакомо словенское искусство? О, приятель, мы обязательно съездим в Любляну. Нельзя лишать себя такого! Так вот, этого Пструху в Праве высмеяли. В начале 1900-х Права была дико реакционным городом, вонючая дыра Австро-Венгерской империи. Но…
Она заговорщицки склонила голову и прижалась ключицей к плечу Владимира, и он ощутил внушительный вес ее телесной брони, ничем не стесненной груди.
– Но лично я считаю, что столованцы смеялись над его фамилией. «Пструх» по-столовански значит форель. Адольф Форель! Это уж чересчур! Не согласен? Скажи, а ты когда-нибудь ловил форель? Знаю, вы, русские, любите порыбачить. Я как-то ездила на рыбалку в Карпаты с одним французом, который знаком с Житомиром Мельником, премьер-министром, и точно знаю, что этот лягушатник заинтересуется вашим «ПраваИнвестом». Хочешь, познакомлю? Можно вместе поужинать. Или встретиться в обед, если ты сильно занят. Либо… в последнее время я стараюсь не просыпать завтрак.
Да, да, да. И завтрак, и обед, и ужин. А потом можно вздремнуть вдвоем. Нет, пусть лучше бодрствует и говорит. Ее речь, нежная, легкая, консистенции фруктового пирожного. Владимиру хотелось наклониться и откусить от ее слов. Слопать все дочиста прямо из ее маленького ротика. Но, кошмар и ужас, у Александры был парень, пухлый круглолицый чувак из Йоркшира по имени Маркус, и вид у него был такой, будто до всей этой заварухи в Восточной Европе он зарабатывал на жизнь игрой в регби. Пока Александра любезно расспрашивала Владимира о его творчестве («О твоей матери? Как интересно!»), ее бойфренд шумно задирал других посетителей в продвинутой манере отмороженных бриттов («Чё? Чё ты сказал? Ну-ка, иди сюда, срань!»), вызывая натужный смех у Планка и Коэна. Было ясно, что на недомерка Маркуса здесь смотрят снизу вверх. А как же иначе, ведь его девушка – Александра, бриллиант в короне Правы.
Еще была Максин, ее Владимиру представили как исследовательницу американской культуры. С ног до головы в синтетике, она сильно потела в кофеиновом чаду «Модерна»; коротко стриженные волосы с помощью геля тянулись ввысь, к звездам, а влажные голубые глаза смотрели на все вокруг, включая Владимира, с неизбывным удивлением. В общении Максин проявила себя великой Дипломаткой, к собеседникам она обращалась строго по рангу: сначала к Коэну, затем к Планку, Марксу, Александре и, наконец, к Владимиру.
– Я пишу монографию о мифопоэтике автомагистралей на юге Америки, – сказала она ему. – Приходилось там бывать?
Владимиру понравилась ее пылкость и теплые руки. Он поведал ей о своих приключениях на магистралях Среднего Запада. Как, сидя за рулем «вольво», принадлежавшего его чикагской подружке, он чуть не задавил семейство бурундуков. Этот бессвязный и, в отличие от водительских навыков Владимира, безопасный разговор длился, пока расхрабрившийся Владимир не осмелился спросить, почему Максин, причисляя себя к исследователям американской культуры, живет в Праве. Максин, поднеся чашку с кофе ко рту, пробормотала что-то насчет видения на расстоянии. Ах да, старое доброе расстояние.
В целом Владимир чувствовал, что набрал неплохие баллы на данном этапе конкурса популярности. Правда, Маркус и Планк, объединившись, прохаживались насчет богатеньких придурков. Но Владимир не поддался на провокацию. Врожденное чутье, обостренное послеобеденным спаррингом с Коэном, уберегло его и на этот раз: Владимир во всеуслышание объявил, что он намерен делать со своим богатством. Конечно же, издавать литературный журнал. Коэн поначалу обиделся, почему Владимир не сообщил ему о начинании первому, но вскоре шепоток о литжурнале охватил весь зал, и не успели завсегдатаи уголка Коэна переварить новость, как уже снисходительно и твердо отшивали обнадеженных литераторов, стекавшихся к вратам славы.
Владимир, сам изумляясь своей идее, немного струхнул. Под каким соусом, черт возьми, он втюхает это Сурку? Но потом вспомнил, что в его колледже издавалось аж целых два литературных журнала, а значит, и в Праве ничего не стоит запустить небольшое издание. К тому же «ПраваИнвест» уже взялся печатать глянцевые брошюрки, рекламирующие «фирму». Несколько сотен экземпляров на бумаге попроще не сильно увеличат расходы.
– У кого-нибудь есть опыт редакторской работы? – обратился Владимир к своей новой тусовке.
Опыт был у всех, чего и следовало ожидать.
Напившись кофе в количествах достаточных, чтобы неделю летать под потолком, компания спустилась на первый этаж, на дискотеку. Обстановка была довольно простецкая, в колонках бухало нечто вовсе не авангардное.
– Ну прямо Кливленд какой-то, – скривился Планк, услышав прошлогодние хиты, но никто не развернулся, чтобы уйти (да и куда было идти?). Напротив, компания протиснулась к колченогому столику, одному из многих, окружавших ломаной линией танцпол.
– Пива! – крикнула Максин, и вскоре бутылки «Юнеско» выстроились в ряд на столе, образовав Дополнительную линию обороны от тел, двигавшихся неуверенно и неуклюже в лучах сторожевых прожекторов и летаргическом мигании стробоскопов.
– Вот так и живем, – сказал Планк Владимиру, который явно вырос в глазах Планка после анонса Литературного журнала. – Надеюсь, ты не рассчитывал оказаться в Нью-Йорке-на-Тавлате.
– Ну, мы еще поглядим, что с этим можно сделать, – произнес приободрившийся Владимир. – Поглядим!
С другого бока его теребила Александра, ей не терпелось поделиться своим авторитетным мнением о публике.
– Посмотри на этих туристов! Какие же они все жирные! А вон тот расфуфыренный кабанчик в майке «Штат Огайо»! Ну просто прелесть!
– Что они тут делают? – спросил Владимир.
– Ничего, – ответил Коэн, утирая пиво с подбородка. – Они наши смертельные враги. Их, как рождественский окорок, надо отдать на съедение бабушкам, провезти в трамваях по всем двенадцати мостам Правы, повесить на самом высоком шпиле Святого Станислава.
– А где наши? – прокричал Владимир Александре, стараясь перекрыть шум.
Она показала на столики позади них, за которыми, как понял Владимир, сидели коллеги-художники, невозмутимо потягивая пиво среди всеобщей, в лучших традициях американских пригородов, обжираловки.
Посланец от одного из «наших» столиков, юный амбал в майке с картинкой Уорхола, принес тонкий синий кальян с гашишем. На сей раз Владимира представили как «магната, мецената, поэта-лауреата, а также издателя». Они курили сладкий, пряный гашиш, наполняя трубку снова и снова, пока пальцы не порыжели и не слиплись; такова уж разновидность этого зелья в странах, сопредельных с Турцией, – влажная и бьющая наповал. Амбал назвал Владимиру цену: шестьсот крон за грамм, но Владимир был слишком возбужден, чтобы совладать одновременно с кронами и метрической системой. Тем не менее он приобрел гашиша на две тысячи долларов и попутно еще одного верного друга.
Дальнейшее Владимир помнил смутно. Он танцевал с Максин и Александрой и, возможно, с парнями тоже. Дискотечная охрана в коричневых рубашках выкосила туристов с доброй трети танцпола, чтобы компания Владимира могла как следует оттянуться. Тогда и случилась серьезная заварушка. Девица из феминистской организации, громко сквернословя, ни с того ни с сего набросилась на Владимира. Обкуренный вусмерть Владимир подумал было, что его завлекают: тесный контакт с ароматной американской плотью и пара наманикюренных когтей, вонзившихся ему в бок. И лишь когда Александра принялась оттаскивать активистку за волосы, Владимир понял, что оказался в эпицентре некого классового антагонизма.
Александра ловко укротила феминистку, и Владимир, освободившись от груза девичьего тела, должно быть, пылко поблагодарил спасительницу, потому что та, бросив «ер-рунда», расцеловала его в сиренево-сером дискотечном дыму, пропитанном парами гашиша, в обе щеки. После чего он Даже обрадовался этому дурацкому инциденту, который помог провести четкую границу между «нами» и «ними». Вот так всего за один вечер Владимир твердо вписал себя в графу «мы».
Позже в такси, по дороге домой, он, помнится тормошил заснувшего Коэна, требуя, чтобы тот полюбовался городом, раскинувшимся внизу: городские огни уже погасли, но желтая луна по-прежнему плыла вдоль излучины Тавлаты; сигнальные огни самолетов отражались на манжете на Ноге, и одинокий «фиат» урчал на пустынной набережной.
– Перри, взгляни, какая красота, – настаивал Владимир.
– Да, ладно, – отвечал Коэн и снова засыпал.
А потом, глядя на стены своего замка-панеляка, Владимир припомнил, каким грозным казался ему палаццо Гиршкиных, когда он, поддатый, плохо соображающий подросток, возвращался поздно вечером из школы в Манхэттене, и мать, вечный страж, донимала его расспросами разом по-русски и по-английски, не получая ответа ни на одном языке. В холле спали ребята Гусева, некоторые с игральными картами в руках. Вонь, стоявшая в помещении, придала Владимиру сил, он принялся карабкаться по лестнице в поисках своей постели, однако на нужный этаж попал лишь с третьего захода. Наконец он нашел и свою комнату, и даже кровать.
«А она красивая… эта Александра», – подумал Владимир, прежде чем, сбрызнувшись миноксидилом, тихо вырубиться.
4. Физическая культура и ее адепты
Утром его никто не разбудил. И ничто. Будильник Владимир забыл сунуть в чемодан, Сурок же и человеко-щупальца его мощной организации до сих пор нежились в постели с подружками и оружием, хотя было далеко за полдень. Костя, как выяснилось, по утрам ходил в церковь.
Эту занимательную подробность Владимир узнал на пятый день пребывания в Праве. Он проснулся поздно – то ли от взрыва на одной из древних фабрик, что облепили бархатистый горизонт, то ли в самом Владимире что-то взорвалось. С пивом, водкой и шнапсом, поглощенными накануне, спалось тяжело; в стерильной типовой ванной Владимира вывернуло наизнанку, гнусный павлин понимающе ухмылялся на клеенчатой занавеске. Владимир только сейчас заметил, что птицу изобразили в тесных боксерских трусах расцветки столованского триколора и с огромным зобом в придачу.
Прошлая ночь, ставшая третьим эпизодом саги «Кафе «Модерн»», закончилась для Владимира следующим образом: он схватился за то место, где, по его представлениям, печень давилась последствиями его бурной жизни, потом натянул футболку с надписью «Нью-Йоркский спортивный клуб» (клуб пытался навербовать членов в Обществе им. Эммы Лазарус – как будто у кого-то там водились деньги!) в искренней попытке оздоровиться посредством силы внушения. После чего спустился в пустующее казино, надеясь застать Марусю, вечно пьяную старуху, угощавшую сигаретами и особым опохмеляющим варевом. Но ее на месте не оказалось.
Зато в казино был Костя в спортивном костюме, невероятно ярком – павлин из ванной обзавидовался бы, – на шее у Кости болталась массивная золотая цепь, на ней крест, свисавший чуть ли не до пупка, с анатомически достоверной фигуркой Христа.
– Владимир, отличная погода сегодня! Ты выходил на улицу?
– Ты видел Марусю?
– Зачем она тебе в такой прекрасный денек, – ответил Костя, теребя крест. – Дай легким отдохнуть, самое время. – Он столь пристально разглядывал футболку Владимира, что тому почудилось, будто Костя изучает его хлипкое телосложение; Владимир вызывающе ссутулился. – Спортивный клуб, – прочел Костя с конца. – Нью-Йоркский.
– Это подарок.
– Нет, ты в самом деле очень худой, надо бегать.
– У меня железное здоровье от природы.
– Пошли, – сказал Костя. – За домами есть место, где можно побегать. Тебе надо наращивать мышечную массу в нижней части тела.
Нижняя часть тела? Где она начинается – сразу под подбородком? Что он несет? Ну да, в колледже чикагская подружка Владимира тоже заставляла его бегать вокруг очень мудреного, управляемого компьютерами поля (уступка школьного руководства маргинальным элементам, желавшим заниматься спортом). «Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо», – приговаривала подружка. Ага. Спасибо, любимая. Благодарю за бесценный дар – кровь и пот.
Но Костя опустил свою красивую лапищу с аккуратно подстриженными ногтями на плечо Владимира и вывел его, как строптивую корову, засидевшуюся в сыром, заплесневелом хлеву, на осеннее, подернутое дымкой солнышко и поникшую травку Правы.
Пейзаж выглядел очень по-дачному, плакучие ивы рыдали под тяжестью тетрагидропетракарбо-и-черт-знает-еще-какой дряни, извергаемой фабричными трубами; посткоммунистические кролики вяло прыгали туда-сюда, словно выполняя некую партийную Директиву, которую никто не позаботился отменить. Костя же сиял, будто фермер, выгодно сбывший урожай зерна городским. Он расстегнул куртку, обнажив безволосую грудь, и все время повторял «о-о-хх», «боже мой» и «наконец-то мы в раю».
Неподалеку зиял пустырь, по нему вилась дорожка, посыпанная – вероятно, самим энтузиастом утренней пробежки – песком; солнце в отсутствие заградительных ив пекло немилосердно.
«Если и существует ад на земле…», – подумалось Владимиру. Он прикрыл голову ладонью, опасаясь, как бы миноксидил не сгорел на корню, хотя вряд ли такое было возможно. И что дальше?
– Стоять на месте глупо! – крикнул Костя, отвергая многовековую мудрость русских крестьян, и помчался как сумасшедший по песчаной дорожке. – Вперед! Вперед!
Владимир неуклюже припустил рысцой и тут же столкнулся с проблемой: куда девать руки? Он глянул на Костю, пылившего по дорожке, и попытался рубить руками воздух – левой-правой, левой-правой. Господи, наверное, все-таки надо было закончить колледж, тогда бы не пришлось участвовать в этом безумии. Впрочем, на Уолл-стрит молодых специалистов тоже заставляют играть в теннис со стенкой в тамошних спортзалах. Но с другой стороны, всегда можно податься в социальную службу… если ты неприхотливый человек, предпочитающий отсиживаться в теньке.
Владимир не останавливался, жадно глотая жиденький столованский воздух. Каждый круг отнимал у него три года жизни. Густой, как шампунь, пот толстым слоем растекся по костлявому телу, тонкая хлопковая майка на плечах больше не ощущалась. И пока он перебирал ногами, высоко задирая колени, как те чудные птицы во Флориде, в его дефективных легких сгущалась мокрота.
Замедлив бег, Костя поравнялся с ним, спросил:
– Ну как? Чувствуешь?
– Д… да, – подтвердил Владимир.
– Чувствуешь, как тебе хорошо?
– Д… да.
– Лучше, чем обычно?
Владимир согнулся и замахал руками в знак того, что не может говорить.
– В здоровом теле – здоровый дух! – проорал его мучитель. – Какой грек это сказал?
Владимир пожал плечами. Зорба? Вряд ли.
– По-моему, Сократ, – крикнул Костя и припустил вперед, словно затем, чтобы показать Владимиру достойный пример.
Владимир задыхался. На глаза наворачивались слезы, пульс бился быстрее, чем крутились лопасти на вентиляторе Рыбакова, включенном на предельную скорость. Вскоре исчезла и дорожка. Вокруг потемнело – должно быть, солнце скрылось за облаком. Послышался шелест травы, хруст веток Затем окрик «Эй!». И Владимир врезался головой во что-то твердое.
Комок слизи размером с лягушку выкатился из его горла и упал рядом на траву.
– Ты наскочил на дерево, – сказал Костя, вытирая Владимиру лоб носовым платком. – Ничего страшного. С кем не бывает. У тебя тут Немножко кровит. Дома есть американские пластыри. Ребята Гусева расходуют их чуть ли не быстрее, чем водку.
Владимир моргнул несколько раз, потом попытался перевернуться. Отдых под деревом ему нравился много больше, чем бег под солнцем. Чувствовал ли он себя глупо? Отнюдь – командные виды спорта в его резюме не значились. Может, теперь этот идиот Костя оставит его, астматика и пьяницу, в покое.
– Ладно, в следующий раз начнем помедленнее, – сказал Костя. – Похоже, нам есть над чем поработать.
Нам? Взглядом Владимир попытался дать понять этому психу, сколь отвратителен ему спорт, но белый и пушистый Костя был слишком занят, обрабатывая рану с таким тщанием, будто Владимир был его закадычным дружком, сраженным пулей под Сталинградом. Владимир представил себе агитационный плакат с изображением этой сцены: «Мафия думает о тебе!»
– Ладно, – сдался Владимир, – помедленнее так помедленнее. А может, лучше… – Он не знал, как перевести на русский power-walking[33]33
Оздоровительная ходьба с нагрузками, шестами или без оных.
[Закрыть]. – Давай поднимать тяжести или что-нибудь в этом роде.
– Гирь у меня полно, – ответил Костя, – и пудовых, и каких хочешь – на выбор. Но, думаю, прежде надо оздоровить твою сердечно-сосудистую систему.
– Нет, по-моему, мне нужно поднимать очень легкие тяжести, – возразил Владимир, но спорить с Костей было бесполезно. В полдень по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам они станут медленно бегать по песчаной дорожке с гантелями в руках.
– В другие дни я не могу, хожу в церковь, – пояснил Костя.
– Ну конечно, – отозвался Владимир, тупо разглядывая пятна собственной крови, темной, зловещей, на возмутительно розово-фиолетовом Костимом костюме, чтоб его. Тем не менее ему пришло в голову спросить: – Но церковь ведь только по воскресеньям?
– Я помогаю там по утрам в среду и пятницу, – ответил херувим. – Православных русских здесь очень мало, и приход нуждается в помощи. Понимаешь, у моей семьи очень глубокие религиозные корни. До революции среди моих предков были и священники, и дьяконы, и монахи…
– Да? Мой дед был дьяконом, – рассеянно произнес Владимир.
И тут же получил приглашение в церковь.
На американском фронте наблюдались перемены. Целыми днями Владимир бродил по панеляку, делая вид, будто разрабатывает бизнес-стратегию либо учит местный язык Когда ему это надоедало, он призывал Яна, самого молодого и наименее усатого из столованских водителей, и они мчались мимо замка в Золотой город. Выделенный Владимиру БМВ не был супермоделью, как У Гусева и его ближайших помощников, не говоря Уж о Сурке, в чьем распоряжении находилось целых два «бимера»: обычный и кабриолет. Сведения об автомобилях Владимир черпал у Яна, с которым он также упражнялся в столованском. Пока его новый приятель сталкивал с рельсов трамваи и пугал до рвоты такс и их престарелых хозяек, Владимир выучил такую фразу: «Это плохая машина. В ней нет пятидискового сидюшника». И одно позитивное высказывание: «У тебя симпатичная мордашка. Залезай в мою красивую машину».
Паутина, сплетаемая Владимиром, захватывала все больше пространства – от «Юдоры Уэлти» и «Модерна» до «Бомбоубежища», «Бум-Бума», бара «У Джима» и даже Мужского клуба, куда Владимир забрел по ошибке. Всюду ему сопутствовал шепоток:
– Вон тот – издатель, из новых.
– Он ищет таланты. Для одного международного концерна. «ПраваИнвест».
– Романист, ты наверняка о нем слыхал… Да он везде печатается.
– Я видел его с Александрой! Как-то я сидел в «Модерне», и она попросила у меня зажигалку…
– Надо бы угостить его «Юнеско».
– Боже, он смотрит на нас и ухмыляется!
По ходу дела Владимир втюрился в Александру – с пролетарской основательностью. Он не сводил глаз с ее безусловно великолепного тела, пока она пробегала глазами меню, пивную карту, винную карту или была еще чем-нибудь занята, и уносил эти мгновенные снимки памяти к себе в панеляк. По ночам они проникали в его сны, днем погружали в созерцание: вот ее губы, пухлые, вишнево-красные на фоне серого кирпича ратуши в Старом городе; грудь – вид сверху – над квадратным мраморным столиком; длинные загорелые руки, постоянно протянутые к какой-нибудь местной знаменитости, чтобы прижать его (ее) к своей неподражаемо острой ключице. И никаких терзаний, как было с Франческой. На удивление честные, сексуально-положительные (хотя и без взаимности) отношения, которые Владимир всячески поддерживал. Он приглашал Александру на ланч, но, дабы его не заподозрили в романтических намерениях, приходилось приглашать еще кого-нибудь, и часто Александра являлась вместе с Маркусом. Это были еще те бизнес-ланчи: решений присутствующие не принимали, вопросы журнальной политики спихивали соседу, как фишки в маджонге, но сплетничали взахлеб. Незамысловатое «кто с кем спит» было единственным текстом, легко сочинявшимся в пряном дыму кафе. Александра, увы, спала исключительно с Маркусом, коротконогим регбистом и, по наблюдениям Владимира, законченной сволочью, из тех, что готовы каждодневно мозолить глаза и вертеться ужом, лишь бы заполучить вожделенный пост главного редактора.
– Ой, мудачье какое, – бросал Маркус в кафе/ баре/дискотеке/ресторане, разглядывая кислые мины завсегдатаев. Он щеголял говором простых лондонцев, которому научился в богемном Вест-Энде, там Маркус впервые явил миру свою физическую мощь и артистическую никчемность. – Воображают себя новыми Хэмингуэями.
На свою беду сочинять Маркус совсем не умел. Потому кривлялся, а также, пытаясь заполнить брешь между тем, на что был способен, и тем, чего от него ждала Права, взялся за живопись и – по выражению преданной Александры – «графическое искусство». Владимир придумал заткнуть ему пасть постом художественного редактора, что в теории означало: Маркус, если пожелает, будет редактировать свои же творения, впихивать их «в этот чертов журнал» и умывать руки.
Пост же главного редактора Владимир, стоявший на раздаче должностей, прочил, прислушиваясь к отчетливым сигналам с мест, Перри Коэну. А заодно и место лучшего друга, кореша, названного брата и т. д. Коэн был незаменим. Его любили денежные мешки за то, что он употреблял совершенно немыслимые выражения вроде «педрила» и «вот те на!», да и выглядел соответственно – туповатой деревенщиной из Айовы. Одновременно он был рассерженным молодым евреем с бунтарскими замашками, подозревавшим, что неопытный моэл[34]34
Особая должность в иудейской традиции – тот, кто совершает обрезание.
[Закрыть] отхватил лишку от его колбаски на восьмой день после рождения; в результате – душевный кризис, вполне соизмеримый с положением единственного еврея в Айове (не говоря уж о папе Гитлере). Словом, никто не сомневался, что весь мир ополчился на Коэна, потому он и оказался здесь, в Праве, на краю ойкумены.
Кроме того, у Коэна имелись крепкие связи как в западном Амстердаме, так и в восточном Стамбуле; пакетики с последними достижениями в области гидропоники и турецкой научной мысли доставлялись авиапочтой, по каковой причине на Коэна с обоих берегов Тавлаты изливался поток нижайших благодарностей. Баобаб, старый друг Владимира, занимался тем же самым, однако этот заокеанский обормот ворочал делами не ради общественного блага, но преследуя низменную личную выгоду (его товар к тому же славился большим количеством растительного мусора).
И нельзя забывать, что Коэн числился наставником Владимира, о чем он любил упоминать на людях: «Завтра я буду наставлять Владимира» или «Наставничество протекает вполне удовлетворительно». Протекало оно в Маленьком квартале, в тупике, где Коэн и Владимир впервые достигли литературного взаимопонимания. Попытки Владимира переместить классы в роскошный парк, располагавшийся над Маленьким кварталом, чтобы попутно любоваться видом на замок, или в куда-нибудь в Старый либо в Новый город за рекой успехом не увенчались. Коэн презрительно отверг все предложения: