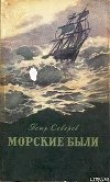Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
3. Засада у Большого Пальца
«Столованский винный архив» располагался прямо у Ноги, в тени так называемого Большого Пальца. У Пальца ежедневно митинговали сердитые бабушки; размахивая портретами Сталина и канистрами с бензином, они угрожали сию минуту учинить самосожжение, если кто-нибудь попробует снести Ногу или отменить показ их любимого мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут».
И пусть их, полагал Владимир, пожилым гражданам тоже надо чем-то заниматься, а их дисциплинированность и преданность идеалам были по-своему симпатичны. Самозваные стражи Ноги подразделялись на несколько отрядов. Наиболее сварливые старушенции находились в авангарде, встречая глубоко концептуальными плакатами («Сионизм = Онанизм = СПИД») посетителей «Винного архива» и бутика «Хьюго Босс», двух институций, процветавших по иронии судьбы под сенью Большого Пальца. Если подчистить и подтянуть их красные физиономии с двойными подбородками, удалив заодно привычную злобу, то можно было бы легко представить их в сороковые загорелыми юными пионерками, задабривавшими учителей пирожками с картошкой и сборниками любовной лирики Яна Жопки, первого пролетарского президента, под названием «Товарищ Ян глядит на луну». И куда же уходит время, милые дамы? И как вы до такого дошли?
За орущими старухами располагались другие, рангом пониже, в обязанности им вменялся уход за таксами агитаторов, с чем эти бабульки справлялись на славу, балуя агитщенков покупной питьевой водой и отборными потрохами.
Наконец, в третьей и последней фаланге бабушки-художницы лепили из папье-маше огромную куклу Маргарет Тэтчер, которую, не жалея трудов и материала, сжигали каждое воскресенье, выводя заунывными голосами бывший гимн Столованской республики: «Наш паровоз вперед летит, в будущее светлое».
Понятно, что при появлении у «Винного архива» БМВ с шофером неповоротливый, шерстистый рассудок старух неизменно помутнялся, но Владимиру нравилось немного подразнить их, прежде чем подняться в синий зал, чтобы налопаться устриц, запивая их мускатом.
Через Старый город они проехали в молчании. Морган по-прежнему теребила молнию на куртке, ерзала на сиденье, и ее ляжки терлись о мягкую кожаную обшивку салона. Возможно, она размышляла о том, что наговорила Владимиру на Репинском холме, обо всей этой ерунде про страшные университетские годы; возможно, она начинала понимать, насколько хуже жилось Владимиру по сравнению с ней. Он мог бы многое ей порассказать. А что, интересная тема для застольной беседы. С чего начать? Издалека, с расчудесного советского детсада, или сразу с флоридских приключений с Джорди? «Победа над превратностями судьбы, – закончит он свой рассказ. – Вот суть истории Владимира Гиршкина, иначе он не сидел бы здесь, смахивая чатни с твоего носа пуговкой…»
Но этой беседе не суждено было состояться. Вместо нее случилось вот что.
Как только они подъехали к «Архиву», машину окружили жаждущие крови старухи. Они были оживленнее, чем обычно, подхлестываемые переменой погоды и необходимостью согреваться действием. Владимир немного понимал их речевки, включая набившую оскомину «Смерть постструктуралистам!» и лестную для тусовки «Эпикуры, убирайтесь домой!». Удивительно, как легко эти громоздкие слова прижились во рту обывателей и насколько коммунистические лозунги звучали совершенно одинаково на всех славянских языках.
Морган открыла дверцу. Пока она вылезала из машины, вокруг Пальца установилось относительное затишье, и в это мгновенье Владимир подумал, что Морган – несмотря на глупую болтовню о приступах страха и срывах – на самом деле спокойная, здравомыслящая девушка в дешевых туфлях. Он растрогался, ему захотелось стать ее защитником. Он припомнил водительские права, выданные в штате Огайо, которые он обнаружил в ее бумажнике, фотографию старшеклассницы с вереницей прыщей, раскинувшихся Большой Медведицей по обе стороны носа, налет подростковой угрюмости, ссутуленные плечи, призванные скрыть нескромное содержимое мешковатого свитера. Он почувствовал, как в нем забил новый источник нежности. «Поехали домой, Морган, – захотелось ему сказать. – Ты выглядишь очень усталой. Тебе надо поспать. И черт с ним, с «Архивом»».
Но было поздно.
Стоило Владимиру захлопнуть дверцу, как одна из бабулек – самая высокая из стражей Ноги, с вытянутой по-собачьи мордой, пуком волос на подбородке и красной медалью размером с метательный диск на груди – протолкнулась сквозь ряды коллег, откашлялась и плюнула отходами разогрева в Морган. Внушительных размеров плевок пролетел над плечом Морган и приземлился на тонированном стекле «бимера».
Старушки дружно охнули. Какая смелость – изуродовать немецкую машину стоимостью два миллиона крон! Контрреволюция началась всерьез! История, эта потаскуха, перешла наконец на их сторону. Стражи Ноги встали на цыпочки, ветераны-инвалиды на костылях подались вперед.
– Говори, баба Вера! – подзуживала толпа плюнувшую. – Говори, агнец ленинский!
И красный агнец заговорила. Она произнесла одно-единственное слово. Совершенно неожиданное, немыслимое и решительно некоммунистическое.
– Морган, – сказала баба Вера.
Английское имя слетело с ее языка вполне естественно, оба слога в целости и сохранности. Морр. Гаан.
– Морган на ГУЛАГ! – завопила другая старуха.
– Морган на ГУЛАГ! Морган на ГУЛАГ! — подхватили боевой клич остальные.
Они подпрыгивали, как малыши на первомайском параде, – о, счастливое время! – не стесняясь, плевали на машину, рвали редкие волосы на своих головах, подбрасывали вверх самовязанные шерстяные шапки – все, кроме одной задрипанной старушонки с грустными глазами, пытавшейся втихую продать Владимиру свитер.
Что за черт? Что они говорят? Морган – в ГУЛАГ? Не может быть. Наверное, здесь кроется ужасная ошибка.
– Товарищи пенсионеры! – начал Владимир по-русски. – По поручению братского советского народа…
Морган оттолкнула его:
– Не лезь.
– Тростник мой сахарный, – буркнул Владимир. Он никогда не видел ее такой. Эти мертвые серые глаза!
– Тебя это не касается, – добавила Морган.
Но его все касалось. Он был королем Правы, она же – затянутой в джинсу королевой, и то только потому, что он приблизил ее к себе.
– По-моему, – сказал Владимир, – надо поехать домой и взять в прокате…
Но Куросаве сегодня не светило. Оскалив блестящие зубы, Морган накинулась на своих мучителей. Все произошло очень быстро. Язык уперся в нёбо… Раскатисто загремела буква «р»… За ней последовал ряд шипучих взрывов – «щ», «ш» и «ч»…
Бабушки в ужасе отпрянули, будто в Морган вселился демон, славянский демон с жутким американским акцентом.
– Шейкер-Хайтс – шептал Владимир, пытаясь успокоить себя географией. – Лесной бульвар.
Нет, на Лесном бульваре жил кто-то другой, другая Морган, милое, любящее природу создание, а не эта неведомая оголтелая баба, кричавшая на старух на удивительно бойком столованском, ронявшая словцо «полемический» столь же запросто, как настоящая Морган вбивала палаточные колышки в землю.
– Шьмерти к ногу! – вопила поддельная Морган.
Лицо ее было искажено злобой, она выбросила вверх кулак с побелевшими костяшками в знак солидарности с некой таинственной жизненной силой, не имевшей со штатом Огайо ничего общего. Смерть Ноге!
– Что? – пробормотал Владимир, инстинктивно пятясь к машине.
Между тем баба Вера, во всеоружии гнилых зубов и витриола, с медалью «Героя социалистического труда», болтавшейся на ветру, оказалась с Морган нос к носу, обрушив на американку поток пылких высказываний, суть которых Владимир плохо понимал. В ее речи то и дело всплывало имя Томаш; Владимир также разобрал блят, что и по-столовански, и на его родном языке означало одно и то же.
– Морган! – раздраженно крикнул Владимир.
Еще чуть-чуть, и он попросит Яна завести БМВ и умчать его прочь, в «Радость» или «Знак», куда-нибудь, где много бархатных подушек и недоумков-экспатриантов, где энтропия равняется нулю и все благоприятствует замыслам Владимира.
Ибо, по правде говоря, он не мог более выносить эту самозванку, которая говорила на непонятном восточноевропейском языке, билась насмерть с коммунистическими бабульками из-за стометровой галоши, поддерживала (сексуальные?) отношения с неким загадочным Томашем, не пускала его в запечатанную комнату и вела жизнь, явно выходившую за рамки свиданий с Владимиром и преподавания английского гостиничным клеркам.
– Морган! – позвал он опять, на сей раз довольно вяло.
И тут, когда Морган обернулась к ошалевшему Владимиру, баба Вера, подскочив к ней вплотную, толкнула американку скрюченной лапой.
Морган слегка пошатнулась, на секунду показалось, что она потеряла равновесие, но сильные двадцатитрехлетние ноги удержали ее в вертикальном положении. А затем Владимир обнаружил, что Ян каким-то образом протиснулся между Морган и старухой. Раздался звук удара чего-то твердого о мягкое. Глаза Владимира не поспевали за ушами, и взгляд не сразу зафиксировал происходящее.
Баба Вера упала на колени.
По толпе пробежал изумленный ропот.
Мелькнул блестящий черный предмет.
Баба Вера потрогала лоб. Крови не было. Только красный кружок, уменьшенная версия медали, покоившейся меж ее грудей.
Стражи Ноги молча пятились от павшего товарища. Собаки-колбаски выбрехивали свои крошечные легкие.
Ян замахнулся блестящим черным предметом, словно намереваясь ударить старуху еще разок, но баба Вера даже не отшатнулась, настолько она была потрясена.
– Ян! – крикнул Владимир, думая исключительно о собственной бабушке, что повязывала ему красный галстук и кормила драгоценным кубинским бананом на завтрак – Ян, стой!
Средством нападения шоферу послужило противорадарное устройство.
Земля продолжала вращаться вокруг Солнца. Ян по-прежнему возвышался над поверженной старухой. Баба Вера все еще стояла на коленях. Владимир отступал к спасительному БМВ, хотя и канувшему куда-то в иное, не-баварское, измерение. А Морган… Морган застыла с высоко поднятым подбородком, сжатыми кулаками, сохраняя на лице выражение необъятной и необъяснимой суровости, притихшая, но готовая к новой битве.
Позы, жесты – все слилось в единую законченную картину.
Спустя несколько минут Владимир мрачно глотал устрицы, Морган угощалась тепловатой «сангрией» из большой бутыли. Личный столик Владимира находился под стеклянной крышей синего зала, и, поднимая глаза, он видел густое угольное облако, опустившееся на Ногу подобно расклешенной штанине. С ума сойти: куда ни глянь, всюду проклятая Нога. Он чувствовал себя деревенским малым из обнищавшей американской глубинки, которому во время бесконечной охоты на опоссумов мерещится, будто его преследуют черные вертолеты ООН.
Метрдотель, ровесник Владимира, лощеный современный парень, не раз подходил к их столику с извинениями «от лица всех молодых столованцев». Именно он положил конец грызне у Большого Пальца. Выбежав из «Винного архива», он принялся размахивать узловатой веревкой направо и налево, обратив бабулек в паническое бегство.
– Ох уж эти старики… Старики – наша беда. Он покачал головой, проверил, на месте ли заткнутый за пояс мобильник, и продолжил: – Дорогие бабушки! Мало им того, что они украли у нас детство. Мало… Только плетку они и понимают.
Вскоре на стол между Морган и Владимиром водрузили жареного кабана – блюдо для почетных гостей, но расстроенный Владимир не сразу приступил к горячему, ковыряя в зубах и предоставляя поросячьей тушке медленно задыхаться под можжевеловым маслом и трюфельной пенкой. Он пытался скорректировать свой гнев, преобразовать его в печаль, прикидывая, какой накал эмоций он может себе позволить в стенах синего зала, этого святилища отменных манер.
Лишь к десерту, когда молчание стало совсем уж неловким, Владимир наконец открыл рот, чтобы спросить, что значит «Морган в ГУЛАГ»?
Она отвечала, не глядя на него. Отвечала тем же сердитым тоном, каким обращалась к стражам Ноги. Она говорила, пребывая в образе другой Морган, той, которая явно находила Владимира недостойным доверия чужаком либо, что еще хуже, человеком, не играющим никакой роли в ее жизни. Вот что она рассказала: у нее есть друг-столованец, его родители сидели в тюрьме при коммунистах, дедушек-бабушек казнили в начале пятидесятых. Однажды этот добрый друг отвел ее к Ноге, где они сцепились со старухами. С тех пор у бабушек на нее зуб.
Ее друга случайно не Томашем зовут?
В ответ она забросала его вопросами: уж не хочет ли Владимир сказать, что у нее не может быть личных друзей? Или теперь ей нужно спрашивать у него разрешения, с кем ей дружить, а с кем нет? И неужто она обязана все свободное время выслушивать нытье сытых бездельников вроде Коэна и Планка?
Владимир раскрыл рот. Конечно, она была права, но тем не менее давать в обиду тусовку он не желал. По крайней мере, мягкий и бестолковый Коэн был не способен на предательство. Коэн был Коэном, и никем больше. Он в совершенстве постиг американское искусство быть только и исключительно самим собой. Кстати, о предательстве: где она научилась столь бегло говорить по-столовански?
Морган улыбнулась со снисходительным видом победительницы и сообщила, что усердно учила столованский в своем университете для полиглотов. Он удивлен тем, что ей удалось освоить иностранный язык? У Владимира что, монополия на все иностранное? А может, он ее за идиотку принимает?
Владимира передернуло. Нет-нет, ничего подобного. Он просто спросил..
Но на самом деле происходило вот что: он терял Морган. Тоном отвергнутого возлюбленного он вымогал у нее утешение. Вспомнился известный афоризм: «В любви всегда один целует, а другой только подставляет щеку».
У него было ощущение, что все кончено. Пора забыть святую троицу – Возбуждение, Нежность, Нормальность. Забыть про палатку, про то, как она смахивала с него колючки, расстегивала его пролетарские штаны, взгромождала на себя и подталкивала вперед. Забыть, как она отреагировала на его слабость – по-доброму, с деликатностью соучастницы.
Ему осталось лишь размышлять над новым словом, словом, сводившим практически на нет три месяца, проведенные с этой женщиной, – «отдаление». И, помешивая эспрессо, отщипывая от грушевого струделя, Владимир думал, в какое предложение вставить это слово. Я все более чувствую отдаление. Нет, не годится.
Морган, мы отдаляемся друг от друга.
Да, очень верно. Но чего-то все равно не хватает.
И вдруг фраза сочинялась сама собой, но он не мог ее произнести.
Что ты за человек, Морган Дженсон? Кажется, я совершил ошибку, связавшись с тобой.
Да. Точно. В который раз. Хотя и на другом континенте, но в том же слепом, идиотском раже, с той же глупой надеждой бета-иммигранта, что ходит как еврей.
Он ошибся.
4. Ночь мужчин
Перед тем как наладиться, все должно окончательно развалиться. На следующий вечер после Ножного безобразия наступил черед страданий и сомнений – долгожданного мальчишника. Планк, Коэн и Владимир встречаются в городе, при них Y-хромосомы, щетина на физиономиях и тоска белого мужчины образца начала девяностых. Встречаются попить пивка.
Откровенно говоря, Владимир охотно поучаствует в этом мужском мероприятии. После вчерашних безответных поцелуев ему хотелось взаимных объятий, которые на данный момент могла обеспечить только тусовка – последний бастион, не таивший сюрпризов. Правда, утром Морган подала знак надежды. Отдраив зубы, прополоскав рот, она подошла к Владимиру (он, мрачный, сидел в ванне, поливая грудь мыльной водицей), чмокнула его в маленькую лысинку, прошептала: «Прости, что вчера все так вышло» – и помогла втереть ежедневную дозу миноксидила в безволосое пятно на макушке, сверкавшее, как бычий глаз. Изумленный неожиданной лаской, Владимир легонько сжал ее бедро и даже, словно ненароком, дернул за пучок лобковых волос, торчавших из-под халатика, но промолчал. Рано было еще разговаривать. Прощения она, видите ли, просит.
Заведение для мальчишника выбрал Ян и попал в точку: бар, сохранивший национальный колорит, насколько это было возможно в новой, усовершенствованной и рвущейся в Европу Праве; большинство клиентов – тощие прыщавые солдаты и полицейские, отработавшие смену. Те и другие были в форме, они жадно лакали доброе пиво, лившееся из длинного ряда кранов, которые столь преданно служили искусству раздачи, что даже в положении «закрыто» из них хлестала пенистая жидкость. Декор отсутствовал – лишь стены, крыша и микроскопический садик снаружи, где в беспорядке стояли складные стулья, скрипевшие под органами госбезопасности и вооруженных сил, восседавшими на них. Пластиковая фигурка розового фламинго, привезенная, по словам барменши, «первым новым столованцем, посетившим Флориду», торчала одноногим часовым средь звона кружек и веселого переругиванья.
Коэн и Планк поначалу чувствовали себя неловко в обществе местных. Владимир заметил, как они нащупывали карточки «Американ Экспресс» в карманах штанов, словно опасаясь, что туземцы съедят их живьем, если они не смогут заплатить по счету. Понятный страх, ибо солдатики выглядели голодными, а кухня не работала. Но по мере того как рос счет, парни расслабились, сгорбились, вытащили незанятые руки – те, что не держали кружку, – из карманов и, положив их на барную стойку, принялись постукивать пальцами в такт полному собранию сочинений Майкла Джексона, крутившемуся в магнитофоне. Сколько лет прошло, а эта странная птица все еще радовала слух.
Разговор между друзьями не заходил дальше причмокиванья и «классное пиво!», пока сидевшие рядом военнослужащие, Ян и Войцек, не пустили по кругу немецкую порнуху, решив заодно попрактиковаться в английском. Очень скоро Коэн с Планком увлеклись голыми дамочками, вздыхая дуэтом каждый раз, когда распустивший слюни Ян или его хихикающий приятель переворачивал страницу.
– Ну вылитая Александра, – объявили оба и попытались на смеси английского, столованского и мужеского объяснить солдатам, что у них есть знакомая, столь же великолепная и желанная, как девушка на картинке.
Ян и Войцек были потрясены.
– Это так? – спрашивали они, тыча пальцами в груди и лобки и с трепетом глядя на американцев, которые – во всяком случае, если судить по их знакомым женского пола – по-прежнему оставались для этих парнишек гражданами великой мировой державы.
Владимир, ограничивший свое участие в беседе возгласами притворного вожделения, не уставал поражаться: немецкие валькирии в журнале ни капельки не походили на Александру. Модели были невероятно высокими блондинками, все с раскинутыми, точно щипцы, ногами и раздвинутой пальчиками розовой, неукоснительно безволосой щелью. Александру, пусть не коротышку и не толстушку, блондинистой и тощей, как спица, каланчой назвать было нельзя. Португальские праматери наделили ее здоровой средиземноморской полнотой бедер, губ и груди. Единственным критерием, которому она соответствовала не меньше, чем девушки в журнале, была желанность.
Планку и Коэну хватило и этого. Им немного надо было, чтобы разгорячиться и расстроиться. Солдаты быстро уяснили причину недуга, мучившего американцев, и ушли, сославшись на необходимость встретиться с подружками для «профилактики».
– Ладно, джентльмены, – произнес Владимир, когда стандартный английский восстановил свои права в их уголке бара. – Еще по одной, а?
Одобрительные звуки, жизнерадостные, как коровье мычание.
– Отлично, – сказал Владимир. – Знаете, я ведь тоже на Александру запал.
Радостное изумление. И он тоже! Проблема вселенского масштаба!
– А как же Морган? – Планк озадаченно почесал свою огромную бритую голову.
Владимир пожал плечами. Морган? Не поплакаться ли парням? Нет, нельзя. Они слишком хрупки и по-своему консервативны. Известие о двойной жизни Морган доведет их до инфаркта.
– Можно любить и двух женщин сразу, – заявил Владимир. – Особенно когда спишь только с одной из них.
– Да, верно, – произнес Коэн тоном кабинетного ученого, будто речь шла о давно кодифицированном правиле и кодекс этот хранился в Институте вожделения им. Артюра Рембо. – Хотя рано или поздно все летит к черту.
Владимир проигнорировал последнюю реплику, продолжая гнуть свое в духе заправской сводни:
– Вам, ребята, надо приударить еще за кем-нибудь. Именно приударить, а не просто сидеть и ныть. – Смех. – Я серьезно. Прикиньте, какой у вас сейчас статус: в Праве вы – номер один, никогда вас не будут больше уважать… – Пожалуй, он был слишком откровенен. – То есть больше уважать как молодых людей, не подозревая о полноте спектра ваших артистических возможностей, – пояснил он, и совершенно зря. Эти двое не сомневались в своем величии. – В этом городе почти все женщины ваши! – воскликнул Владимир.
– Почти, – вставил Коэн, меланхолично потягивая пиво.
– Я понял тебя, брат, – пробормотал Планк, кивая Коэну.
Парни попытались улыбнуться и беззаботно пожать плечами, точно так же пенсионеры в Старом Свете реагируют на сообщение, что ежедневные фондю и кровяная колбаса могут отрицательно сказаться на их здоровье.
Однако Владимир был готов прочищать им мозги весь вечер напролет, подставляя кружки под волшебные краны. Он не ведал, что посетители пивной уже разнесли, спотыкаясь, слухи по округе: в местной забегаловке сидит компания странно одетых американских хлыщей. И вскоре эти слухи породили визитера.
Для столованца визитер выглядел весьма эффектно – рослый малый и будто сложенный из тех же тысячелетних кирпичей, что и мост Эммануила. Коротко стриженные волосы с залихватским чубом, как того требовали свежие тенденции, распространившиеся в западных столицах; одежда – серый свитер с высоким горлом и черная вельветовая жилетка – также соответствовала последней моде. Не говоря уже о том, что новому посетителю было за сорок, а к гардеробу этой возрастной категории мужчин следует проявлять снисходительность; вернее, им следует начислять очки за саму попытку выглядеть стильно.
– Здравствуйте, гости дорогие, – поздоровался он с акцентом не более заметным, чем у Владимира. – Ваши кружки почти пусты. Разрешите!
Он подозвал барменшу, и кружки наполнились вновь.
– Меня зовут Франтишек, – представился новенький. – Я старожил этого города и этого района в частности. А теперь позвольте угадать, откуда вы прибыли. У меня природная склонность к географии. Детройт?
Он был не совсем не прав. Планк, как Владимир успел выяснить, действительно вырос на окраине Автомобильного города.
– Но что во мне детройтского? – с нескрываемым возмущением полюбопытствовал собаковод.
– Я обратил внимание на ваш рост, худобу и цвет лица, – ответил Франтишек, неторопливо прихлебывая пиво. – И по этим признакам заключил, что ваши предки – выходцы из наших краев. Не обязательно столованцы, но, возможно, из Моравии?
– Вроде бы, – подтвердил Планк – Но лично я веду свое происхождение из другой земли – Богемы.
Франтишек не оценил шутку и продолжил:
– Вот я и подумал, где в Штатах больше всего проживает восточноевропейцев, и сразу вспомнил крупные города на Среднем Западе, но почему-то не Чикаго. Скорее, глядя на вас… Детройт.
– Прекрасно, – вмешался Владимир, уже прикидывая в уме социальную подноготную нового знакомца, объяснявшую его удивительную проницательность. – Но мои предки, как вы и сами видите, не из этих краев, и, следовательно, вряд ли я родом из Детройта.
– Да, возможно, вы не из Детройта, – невозмутимо отвечал Франтишек – Но если я не круглый дурак, хотя такую возможность исключить нельзя, ваши предки все же происходят из этих мест, ведь, по-моему, вы – еврей!
Коэн встрепенулся, услыхав «еврей», но Франтишек невозмутимо продолжал:
– Более того, ваш акцент наводит на мысль, что отнюдь не ваши предки, но вы лично уехали из этих мест, точнее, из России или Украины, ибо, увы, у нас евреев не осталось, кроме как на кладбищах, где они сложены по десятку в одной могиле. А значит, вы обосновались в Нью-Йорке и батюшка ваш либо врач, либо инженер; судя по вашей бородке и длинным волосам, вы – художник или, скорее, писатель; ваши родители в ужасе, потому что не считают писательство профессией; и хотя университет в Штатах удовольствие недешевое, вряд ли они поскупились бы на самый дорогой колледж для вас, поскольку вы, вероятно, единственный ребенок в семье; я исхожу из того обстоятельства, что космополитически настроенные москвичи и петербуржцы (вы ведь оттуда, правда?) заводят, как правило, одного, в крайнем случае двух детей, дабы не распылять скудные средства.
– Вы – ученый, – сделал вывод Владимир, или же путешественник и жадный читатель периодики. – Он не удивился, обнаружив, что подражает голосу и интонациям столованца. Очень уж смачной была у того манера говорить.
– Нет, – сказал Франтишек – Я не ученый. Нет.
– Отлично. – Коэн был явно доволен тем, что их гость не оказался антисемитом. – Я поставлю пива, если вы развлечете нас рассказом о своей жизни.
– Берите пива, а я возьму водки, – распорядился Франтишек – Эти напитки прекрасно сочетаются. Сами увидите.
Так и поступили, и, хотя водка поначалу царапала глотку, нежные американские нёба вскоре адаптировались или, скорее, утратили чувствительность, когда опьянение усугубилось. Между тем столованский джентльмен с большой охотой поведал свою историю, он явно радовался возможности рассказать о себе молодым раскованным американцам: их соотечественники постарше, особенно те, кто не прошел школу современной иронии, возможно, не нашли бы его историю столь занимательной.
В юности красавец Франтишек учился на лингвистическом факультете и, как и следовало ожидать, был первым учеником. С советского вторжения в 1969 году прошло почти пять лет, наступила эра так называемой «нормализации», и Брежнев все еще салютовал тракторам с мавзолея.
Отец Франтишека был большой шишкой в МВД, лихом министерстве, откуда безликие и безволосые чиновники посылали на похороны диссидентов вертолеты, и те зависали в нескольких метрах над открытыми могилами. Отец Франтишека обожал этот маневр. Однако его сын заразился где-то нравственным протестом – вероятно, в университете, там обычно и гнездятся подобные настроения. Протестовал Франтишек тихо. Его хватило на то, чтобы отказаться от стремительной карьеры в МВД, но заставить себя приобщиться к непосредственно диссидентской деятельности он не смог: распространять, крадучись, самиздатовские брошюры, посещать тайные собрания в провонявших серой подвалах или опуститься профессионально, к примеру, до смотрителя общественного туалета – основного рода занятий диссидентов.
Он стал замредактора любимой газеты правящего режима под весьма уместным названием «Красная справедливость». Замов у редактора было несколько, что, впрочем, не помешало Франтишеку с его талантом, блестящей внешностью и отцом в МВД пробиться вскоре на завидную должность – ему поручили ведать вопросами «культуры». Сие означало вылеты за рубеж из аэропорта им. Маяковского на хвосте столованских филармонии, оперы, балета и всяческих художественных выставок. Заграница!
– Моя жизнь закрутилась вокруг экспортной продукции, поставляемой лучшими коллективами Правы. – Взгляд Франтишека с тоской устремился вдаль, туда, где, вероятно, по его представлениям, прежде находился свободный мир. – Иногда и провинция выкаблучивала что-нибудь достойное поездки в Лондон, хотя чаще (вздох) в Москву или, не дай бог, Бухарест.
Для Франтишека Запад был любовницей, которую навещаешь, только когда ее ревнивого мужа отсылают проверять отчетность в аляскинском филиале. Особенно он любил Париж, привязанность не редкая среди столованцев, чьи художники в начале двадцатого века усердно черпали вдохновение у галлов. Покончив с идиотскими обязанностями в посольстве и отсидев положенное на спектаклях, Франтишек отправлялся в свободное странствие по городу. Пересаживался с такси на метро; бесцельно бродил вдоль Сены, неизменно завершая прогулки на Монпарнасе и при этом намеренно избегая встреч с внушительной столованской диаспорой, которая наверняка изжарила бы его вместе с карпом и клецками.
Но среди коренных обитателей Запада он пользовался большим успехом. После советского вторжения «молодой, угнетенный столованец, которого выпустили посмотреть одним глазком на свободный мир, чтобы тут же загнать обратно в сталинское стойло», не испытывал недостатка в сочувствии. Когда же бойкие француженки умоляли, а негодующие британцы требовали, чтобы он стал невозвращенцем, Франтишек, утирая слезу, рассказывал о папе и маме, забитых, перепачканных сажей трубочистах; они непременно проведут остаток жизни в ГУЛАГе, если их сын опоздает на свой двухчасовой рейс.
– Почитайте Грабала или Кундеру, – Франтишек чокнулся с аудиторией по случаю появления новой порции польской «Выборной», – и вы поймете, что секс для восточноевропейского мужчины не самое последнее дело.
И он заговорил о сексе, той его разновидности, что практикуется в тюдоровских особняках Хемпстеда[50]50
Хемпстед – лондонский район, место проживания академической элиты. В 30-х гг. здесь селились эмигранты из Центральной Европы, в том числе Зигмунд Фрейд с семьей; с тех пор считается, что в Хемпстеде силен дух космополитизма и открытости новым веяниям.
[Закрыть] или Трайбеке; и, глядя на этого здорового, широколицего мужика, не требовалось особых вывертов воображения, чтобы представить его едва ли не с любой женщиной и почти в любой позиции – все то же выражение лица, сосредоточенное, увлеченное, синяки и царапины на теле, изнуренном акробатикой.
Планк и Коэн погрузились в мечтательность, со счастливым видом они пялились на дно рюмок, пока Франтишек перечислял свои интернациональные связи. Владимир порадовался тому, что парни отнеслись к россказням столованца со здоровым любопытством. И понадеялся, что они не меряют эталонной Александрой – как в случае с нелепой немецкой порнографией – политическую активистку Черис и перформансистку Марту, снимавших комнату на двоих в амстердамском районе Йордаан, где они и приютили рассказчика, совершавшего мировое турне вместе с Детским кукольным театром Правы. Кто знает, чем объяснялся жгучий интерес американцев – то ли речи Владимира возымели действие, то ли смесью пива с водкой, а может быть, обаянием бывшего аппаратчика, живописавшего радости плоти с доселе не иссякшим чувством безграничных возможностей?
Но конечно, не только в голландских тюльпанах и леди Годивах[51]51
Леди Годива (предположительно 1040–1080) – легендарный персонаж британской истории. Проехала обнаженной верхом по городу Ковентри ради того, чтобы ее муж, эрл Мерсии, снизил налоги бедноте.
[Закрыть] пульсировала культура. На домашнем фронте тоже не дремали… Перед тем как продолжить, Франтишек сделал большой глоток пива.
– Ох, сколько же их было! В каждом селе, области, в каждой проклятой славянской стране… «Товарищи, мы рады представить вам народный хор из Ставрополья!» Чертовы народные хоры! Гребаные балалайки! И всегда одна и та же песня про Катюшу: яблони-груши – и привет сизому орлу. Нет, в самом деле! Попробуйте написать рецензию об этом без цинизма. «Вчера вечером во Дворце культуры наши социалистические братья из Минска в очередной раз продемонстрировали нам прогрессивную народную культуру, которой местные этнографы не устают восхищаться с первых бурных дней Революции». – Взяв рюмку, он брызнул остатками водки себе в лицо и зажмурился. – Что тут скажешь. Кошмар. Впрочем, потом все равно все развалилось…