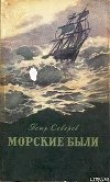Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
– Неслабое местечко, – крикнул Владимир Морган, перекрывая шум. Его тон подразумевал: он Уже бывал здесь, и не раз.
Морган ответила недоуменным взглядом. А дальше закрутилось-завертелось: со всех сторон к Владимиру тянулись руки, некоторые уже влажные и воняющие джином, не говоря уж о бесконечных объятиях и поцелуях в губы, которыми Владимира одаривали искренние доброжелатели. И разумеется, его юная дама не бывала прежде в обществе людей ранга Гиршкина. Оставался ли у нее теперь иной выбор, кроме как полюбить его?
С толпой их вынесло на кухню, изысканно освещенную свечами. Там расположился Ларри; его кальян работал сверхурочно, и кое-кто из наиболее хипповых иностранных обитателей Правы топтался под Джерри Гарсия[45]45
Джерри Гарсия (р. 1942) – гитарист фуппы «Грейтфул Дед», игравший также с другими легендарными группами.
[Закрыть]; лица танцующих ничего не выражали, расслабленные тела покачивались из стороны в сторону, как пальмы на ветру.
– Эй, парень, – произнес Ларри.
Он поработал на публику, надев прозрачное черное кимоно, сквозь которое отчетливо проступало сухощавое, но мускулистое тело. Прижимая к себе гостя все сильнее, пока не впечатался всеми сухожилиями, хозяин обнял Владимира.
– Эй, парень, – повторял Ларри, и Владимир с нежностью вспомнил старшие классы, когда он, Баобаб и прочие постоянно ходили обдолбанные, бормоча день-деньской: «Эй, парень… не ешь это, парень… это на потом…» О невинность тех дней, краткого периода в эпохе Рейгана/Буша, когда шестидесятые вернулись в американские школы на боевом коне. Согбенные фигуры, полуприкрытые глаза, словарь из ста слов. О.
Владимиру представили хиппарей, их имена скользнули и выскользнули из памяти. Главное блюдо – кальян высотой в метр – покатили по кругу почетных гостей. Ларри наклонился, чтобы зажечь кальян, Владимир присосался к прогорклому мундштуку, затем передал его Морган, и та не спасовала.
Довольный Владимир взял ее под руку, и они поплыли обратно в гостиную, едва не позабыв вежливо солгать Ларри Литваку и компании, как того требовал этикет вечеринок; «Мы сейчас вернемся». В гостиной снова возникло столпотворение, на сей раз вокруг Владимира и его девушки кружили исключительно высокие элегантные мужчины в модных хлопковых брюках, в очках в проволочной оправе и с серьгами в носу; они потчевали Владимира напитками, упоминали «Калиостро» и (сюрприз!) «ПраваИнвест», затем с улыбкой выталкивали вперед своих подруг, скороговоркой представляя их Владимиру. Эта сцена, словно списанная со «Степфордских жен»[46]46
В триллере «Степфордские жены» (роман Айры Левина, 1972; фильм, 1975, реж. Брайан Форбс; ремейк, 2004, реж. Фрэнк Оз) действие разворачивается в тихом американском пригороде, где за благополучными фасадами творятся всякие безобразия.
[Закрыть], напоминала о балах в русской провинции девятнадцатого века, когда местная знать мужского пола, завидев генерала, только что прибывшего из Петербурга, берет гостя в кольцо, обрушивая на него светские любезности и деловые вопросы, при этом не отпуская от себя красивых жен – символ их положения в обществе и хорошей родословной.
Неужто 1993 год на дворе? Что ж, наверное, такие анахронизмы являлись признаком возрождения викторианского духа, о котором было столько шуму. И хотя Владимира покоробили серьги в носу (зачем они их нацепили, ведь не цыгане и не бунтари), встреча с этими людьми задела в нем древнюю аристократическую струнку (ибо в начале двадцатого века Гиршкины владели тремя гостиницами на Украине), и он отвечал со все возраставшим ощущением noblesse oblige[47]47
Положение обязывает (франц.).
[Закрыть]:
– Да, приятно с вами познакомиться… Конечно, я слыхал о вас… мы виделись в «Мартини-баре»… Приятнейшие воспоминания… Это Морган, да… А вы?.. А вас как?..
Эмансипирующее влияние столбика наркотика высотой в метр быстро добавило веселья происходящему, и Владимир с легким сердцем витал над лепечущей, ухающей, кудахчущей толпой. Вскоре его русский акцент проявился в полную силу, наделив графа Гиршкина аурой подлинности, отчего славные представители Хьюстона, Боулдера и Цинциннати еще сильнее полюбили этого низенького поэта и бизнесмена, вокруг которого теперь вертелся весь экспатриантский мир Правы.
Владимир почувствовал, что Морган дергает его за рукав: пребывание в маргиналках ей явно наскучило.
– Давай найдем Александру, – шепнула она, коснувшись – то ли намеренно, то ли случайно – Владимирова уха своим душистым носом.
– Давай, – согласился Владимир и, обняв эту девушку из Огайо, стиснул ее широкие плечи, столь крепкие и удобные для объятий.
Они прорвались сквозь кордон поклонников и приблизились к деревцам бергамота; ветки, покачиваясь под дуновением вентилятора, оцарапали лицо Владимиру; он тупо посмотрел на древесных хулиганов, словно желая сказать: «Да вы знаете, кто я?» – но, опомнившись, слегка отодвинулся.
За бергамотами располагался длинный атласный диван с такими же креслами по бокам, где и обосновалась тусовка, запасшись бутылками мартини и графинами Кюрасао. Тусовщики смеялись, без конца обсуждая публику, будто некий наскоро сформированный Совет моды. Время от времени тусовка перебрасывалась парой слов с посторонними, подходившими к ним с тоненькими стопками бумаги, исчерканной словами или рисунками, либо с маленькими дискетками. Похоже, ожидаемый выпуск первого номера «Калиостро» здорово вскружил всем головы, аттракцион «мертвая петля» стал бы уже излишеством.
Коэн углядел Владимира и Морган среди зелени:
– Вон он! Владимир!
– Морган! – завопила Александра чуть ли не с трепетным восторгом, она явно трудилась над повышением статуса своей новой подруги.
Пара приблизилась к компании, и, как по волшебству, на лоснящемся небесно-голубом диване Для них вмиг было расчищено место. Александра расцеловала Морган в обе щеки, Владимир пожал Руки мужчинам и нежно чмокнул Александру в Щеку, а она его в обе.
Парни превзошли самих себя, сочинив для «шикарного лоха» официальную форму одежды: пепельно-серые пиджаки спортивного покроя, рубашки похоронных оттенков и мрачные узкие галстуки, змеившиеся по груди до пупка. Александра была в новом темно-сером жакете для верховой езды, найденном, очевидно, в одном из самых продвинутых антикварных магазинов Правы, под жакетом неизменный черный свитер с высоким воротом, штаны в обтяжку того же цвета.
Но одного человека в компании не хватало.
– А где же Максин? – спросил Владимир и прикусил язык, вспомнив, что комитет, ведающий свиданиями экспатриантов, уже назначил бракосочетание Гиршкина и Максин на ближайшую весну, а он вдруг возьми да переключись на Морган.
При упоминании Максин на лице Морган появилось странное выражение, как у ребенка, потерявшегося в сутолоке вокзала; несомненно, вечеринка у Ларри могла напугать сильнее, чем любой вокзал, и народу на ней было столько же.
– Максин заболела, – ответила Александра. – Ничего серьезного. Завтра уже встанет на ноги.
Заключительная фраза была добавлена явно для того, чтобы Владимир не вздумал помешать больной принять вертикальное положение. Наверняка Александра поведала Морган все, что той было необходимо знать, о бурном антиромане между Владимиром и Максин.
Ситуацию, сам того не ведая, разрядил Коэн. Он не видел Владимира несколько дней и теперь едва не прыгал вокруг него.
– Моему другу нужно проветриться в баре! – пьяным рыком объявил он. – А вам, девочки, есть о чем поговорить.
Владимир беспокоился, оставляя Морган одну. Но, оглянувшись, увидел такую картину: две привлекательные девушки, Морган и Александра, взахлеб болтают друг с другом, и у него отлегло от сердца – их поглощенность собой отпугнет потенциальных ухажеров. Молодые хищники Правы легко терялись перед феноменом женщин, не нуждающихся в мужчинах.
За стойкой бара – просто полкой, торчавшей из книжного стеллажа, забитого собраниями сочинений папы Хэма, святого покровителя экспатриантов, – неукротимый Коэн попытался угостить Владимира джином с тоником и залил его новые импортные туфли водкой. Когда Владимир, смеясь, сообщил поэту, что для джина с тоником требуется джин, а не водка, Коэн облил его в придачу и джином.
– Ты, смотрю, пьешь одну за другой, – заметил Владимир.
– Я пью одну за другой уже пять лет. Я – тот, кого в ликеро-водочной промышленности называют алкоголиком.
– Я тоже алкоголик – Владимир прежде особенно не задумывался над этим вопросом, но заявление Коэна прозвучало убедительно. – Давай за это и выпьем! – торопливо предложил он, стараясь отмахнуться от нахлынувшего дискомфорта, и друзья чокнулись.
– Кстати, об одной и другой, – сказал Коэн. – Мы с Планком собираемся дать бой бутылке. Будем сражаться до победы! – Он подмигнул полке с напитками.
– Понятно. – Владимир представил Коэна и Планка, двух боксеров, бьющихся в замедленном темпе на кулаках с запотевшей бутылкой «Столичной», словно в каком-нибудь перформансе.
– Хочешь с нами? Никакой этой фигни. Только мы втроем. По-мужски. – Затем, без предупреждения – а когда он предупреждал? – Коэн вскинул руки и стиснул Владимира изо всех сил.
К тому времени свет притушили настолько, что их запросто можно было принять за пару, стремительно движущуюся к постели через кассу «одна-две покупки». Испугавшись, Владимир выглянул из-за плеча Коэна и попытался высвободить руку, чтобы посигналить Морган и тусовке: мол, он тут ни при чем, но его сжимали столь крепко, что ни о какой жестикуляции не могло быть и речи. Впрочем, вскоре Коэн его отпустил, и Владимир с огромным облегчением увидел, что число гостей в комнате достигло критической массы и всем было уже плевать, кто чем занят. Даже на беззастенчивый гомосексуальный секс, озвученный стонами, транслируемыми по стереосистеме, и то обратили бы внимание лишь спустя несколько минут.
– О-у, нам тебя не хватало, чувак, – продолжал Коэн. – Ты так занят на работе и… – Он умолк, устав играть роль кокетливого любовника.
На другом конце комнаты Владимир заметил Планка, тот с отвращением смотрел в свой бокал, словно туда налили мочегонного; рядом с ним на диване Александра и Морган были целиком захвачены беседой. Что происходит с этими парнями? Неужто им мало быть краеугольным камнем здешней элиты? Неужто им еще и смысл жизни подавай?
– Хорошо, – сказал Владимир. – Втроем так втроем. Отлично проведем время. Выпьем. Напьемся. Ладно?
– Ладно!
Просияв, Коэн потянулся к бутылке, но в этот момент Владимир увидел краем глаза, что Морган украдкой показывает ему на часы. Она хочет уйти? Уже? И увести с собой Владимира? Ей здесь не нравится? Никто не сбегает с вечеринки Ларри Литвака, прежде чем часы пробьют три утра. Это просто неприлично.
– Как продвигаются стихи? – спросил Владимир собутыльника.
– Ужасно. – Толстые губы Коэна предательски задрожали. – Я слишком влюблен в Александру, чтобы писать о ней…
В том-то и заключалась самая суть: в город пришла любовь, и Планк с Коэном купили тайм-шеры в этом вечно перспективном предприятии. Судя по трясущимся губам и влажным глазам Коэна, он вложился по первому разряду: бассейн с плещущейся водой и поле для гольфа, достойное Джека Никлауса[48]48
Джек Никлаус (р. 1940) – игрок в гольф, добившийся выдающихся успехов в этом виде спорта.
[Закрыть].
– А ты не пиши о ней, – раздался суровый, скрипучий голос.
Поначалу Владимир вообразил, что в Праву на святой праздник явился дедушка Коэна с еврейской стороны. Он оглядывался в поисках источника голоса, пока Коэн не указал вниз и не произнес:
– Познакомься, это Фиш, поэт, тоже из Нью-Йорка.
Поэт Фиш не был лилипутом, но зазор между ним и этой категорией оставался ничтожным. Он выглядел как неумытый двенадцатилетний мальчик с густыми, спутанными волосами – казалось, ему на голову опрокинули миску вермишели. Но вопреки внешнему виду, голос у Фиша был как из бочки.
– Счастлив. – Фиш протянул Владимиру руку словно для поцелуя. – Здесь все только и говорят, что о Владимире Гиршкине. Первый раз я услыхал о тебе в аэропорту, когда получал багаж.
– Пустяки! – заскромничал Владимир. И подумал про себя: «А что он услыхал?»
– Фиш остановился у Планка на пару дней, – сообщил Коэн. – Его публикуют в аляскинском литературном журнале. – Внезапно Коэн побледнел, будто увидел кого-то в дальнем углу комнаты, кого-то, кто терзал его память самым жестоким образом. Владимир даже проследил за тусклым взглядом приятеля, но тот добавил будничным тоном: – Надо поблевать. – И завеса тайны рассеялась.
Коэн ушел, предоставив Владимиру поддерживать беседу с карликом (Владимир надеялся, что этот крошечный парень по крайней мере выглядит экзотично в глазах прочих гостей).
– Итак. Поэт, э?
– Слушай сюда. – Приподнявшись на цыпочки, Фиш задышал в подбородок Владимира. – Я слыхал, у вас тут чего-то такое происходит с этим долбаным «ПраваИнвестом».
– Чего-то? – Владимир распустил хвост, как павлин, красующийся перед объектом страсти. – Наш совокупный капитал составляет более тридцати пяти миллиардов долларов…
– Ну да, да, – перебил поэт Фиш. – У меня к вам деловое предложение. Ты когда-нибудь нюхал лошадиный транквилизатор?
– Прошу прощения?
– Лошадиный транквилизатор. Ты вообще-то давно из Города?
Владимир сообразил, что Фиш имеет в виду Нью-Йорк, и удивился, как он мог забыть: что бы ни происходило здесь, в Праве, в Будапеште или Кракове, Город – гигантская решетка сумасшедших улиц и никаких извинений – все еще остается центром вселенной.
– Два месяца, – ответил он.
– Эта штука везде. Во всех клубах. Нельзя быть художником в Нью-Йорке и не нюхать «лошадку». Уж поверь мне.
– И как оно?
– Похоже на фронтальную лоботомию. Если в башке заклинило, все вмиг проясняется. И ни о чем не думаешь. А самый прикол – это длится всего пятнадцать минут после того, как втянешь. Потом возвращаешься к своим делам. Кое-кто даже кричит о самообновлении. Ну, в основном прозаики. Они еще не то скажут.
– А побочные эффекты?
– Никаких. Выйдем на балкон. Я тебе покажу.
– Дай подумать…
– Что тут думать! Послушай, у меня есть знакомый ветеринар под Лионом, он сидит в совете директоров крупнейшей фармацевтической фирмы. С твоим «ПраваИнвестом» мы можем заполучить весь восточноевропейский рынок. А лучше места сбыта, чем Права, не найти, согласен?
– В общем, да. Но это легально?
– А то, – заверил поэт Фиш. – А что тут такого? – добавил он, видя, что сделка пока не клеится. И подытожил: – Знаешь, «лошадка» никогда не помешает. Я сам прикупил на днях парочку дохленьких в Кентукки. Давай, пошли. – И он вывел Владимира из комнаты.
Морган и Александра смотрели им вслед, завороженные странным зрелищем: исполнительный вице-президент «ПраваИнвеста» сосредоточенно следует по пятам гнома.
Балкон выходил на автовокзал, который, несмотря на величественный блеск полной луны, по-прежнему напоминал облупившуюся мозаику, сложенную из цемента и рифленого металла.
И автобусов.
С Запада прибывали двухэтажные, модель «люкс», с мерцающими телеэкранами и зелеными выхлопами кондиционеров, стелющимися по асфальту. Они извергали потоки чистеньких юных туристов из Франкфурта, Брюсселя и Турина, и те немедленно начинали праздновать вновь обретенную Восточным блоком свободу, обливая друг друга пивом и показывая два победных пальца таксистам, ожидающим пассажиров.
С Востока прибывали автобусы, очень уместно названные «Икарусами»: хронически больные, они содрогались на ходу всем низким, серым корпусом; двери, которые вечно заедало, открывались медленно, выпуская усталые семьи из Братиславы и Кошице либо пожилых служащих из Софии и Кишинева; по пути к ближайшей станции метро служащие крепко прижимали портфели к своим искристым синтетическим костюмам. Владимир почти ощущал запах этих портфелей, в них, как и в кейсе его отца, лежали остатки хлеба с колбасой, припасенных в дорогу; эти остатки пойдут на ужин – среднестатистическому болгарину золотая Права становилась не по карману.
Но раздумья над сей печальной дихотомией, обусловившей в некотором роде историю Владимировой жизни и возбуждавшей в нем одновременно упоение и горечь – упоение от обладания особым привилегированным знанием как Востока, так и Запада, а горечь оттого, что так и не вписался ни в один из этих миров, – эти раздумья были прерваны поэтом Фишем, который поднес щиплющие, царапающие кристаллики лошадиного порошка прямо к носу Владимира, и затем ничего особенного не случилось.
Нет, наверное, он преувеличивал. Что-то, конечно, случилось. На высших этажах мозга Владимира, куда он вознесся, повеял разреженный горный ветерок, не благоприятствующий мыслительному процессу. Автобусы продолжали прибывать и отъезжать, но теперь они были просто автобусами (транспорт, знаете ли, из пункта А в пункт Б), а Фиш, катавшийся нагишом по балкону, подвывая и помахивая луне маленьким лиловым пенисом, был просто воющим молодым человеком с лиловым пенисом. Ничего особенно потрясающего. Более того, небытие уже не было таким уж непредставимым (а сколько раз в детстве Владимир, будучи склонным к мрачности ребенком, закрывал глаза и затыкал уши ватой, пытаясь вообразить Пустоту), но скорее вполне закономерным следствием его дурацкого счастья. Обволакивающая, бездонная радость анестезии.
Когда пятнадцать минут закончились, Владимира, не мешкая ни секунды, бесшумно вернули в его тело. Фиш одевался.
Владимир встал. Потом сел. И опять встал. Все что угодно, лишь бы вернуть сенсорные ощущения. Он провел краешком визитки по пальцам, прежде чем вручить ее поэту. Очень мило. Он чуть было не нырнул головой в Тавлату.
– Я пришлю тебе пробную партию с инструкциями доя начинающих, – говорил Фиш. – И заодно кое-что из моих стихов. Я теперь попал под влияние Джона Донна, – добавил он, застегивая свою нелепую тунику эльфа.
– Скажи, ты хороший человек? – спросила Морган.
Пять утра. После вечеринки. Остров посреди Тавлаты, сообщающийся с Маленьким кварталом единственным пешеходным мостом неясного происхождения; островок, судя по всему, напрочь заброшенный призрачными муниципальными властями Правы: непролазные джунгли разросшихся деревьев и жмущегося к ним кустарника – совсем как слонята, что трутся о ноги матерей. Они сидели на траве под мощным дубом, покрытым, несмотря на наступление осени, густой листвой; грозный великан привлекал гостей в межсезонье своей укромностью. На другой стороне моста лунный свет изливался с высокого неба на узкие контрфорсы собора, отчего Св. Станислав казался гигантским пауком, каким-то образом одолевшим стены замка и устроившимся там ночевать.
Ему задали вопрос: хороший ли он человек?
– Прежде чем ответить, считаю своим долгом заявить: я пьян, – предупредил Владимир.
– Я тоже пьяная, просто скажи правду.
Правда. И как они до этого дошли? Всего минуту назад Владимир целовал Морган в пропитанные алкоголем губы, ощущал у нее под мышками влажность, которую так любил, прижимался к ее бедру, по-вуайеристски возбуждался, когда по ним скользил свет фар от его машины, – преданный Ян приглядывал за парочкой с набережной.
– Если начинать сравнивать, я лучше многих из тех, кого знаю. – Ложь. Стоило лишь вспомнить Коэна, чтобы понять: он соврал. – Ладно, сам по себе я не бог весть что, но я хочу быть хорошим для тебя. Я уже бывал хорошим для других.
К чему этот идиотский разговор? Она сидела прислонившись к трухлявому бревну, за которым высилась жертвенная куча, сложенная из пустых банок «Фанты» и пакетиков от презервативов. Из волос Морган торчали травинки, вздернутый кончик носа был испачкан губной помадой, с подбородка свисала слюна Владимира.
Хороший ли человек Владимир? Нет. Но он плохо относится к другим только потому, что к нему плохо отнеслись. Современная справедливость в постморальных обстоятельствах.
– Ты хочешь быть хорошим для меня, – повторила Морган на удивление внятно, хотя ее и качало от малейшего дуновения ветерка.
– Да, – подтвердил Владимир. – И я хочу узнать тебя получше. Это как пить дать.
– Ты в самом деле хочешь, чтобы я рассказала о своем детстве в Кливленде? О пригороде, где я росла? О моей семье? О том, каково быть старшим ребенком? Единственной девочкой? М-м… О баскетбольном лагере? Ты способен представить себе, Владимир, что такое баскетбольный лагерь для девочек? В графстве Медина, штат Огайо? Но самое главное, к чему тебе все это? Думаешь, тебе будет интересно узнать, почему иногда я бы предпочла оказаться в лагере, чем сидеть в кафе? И про то, как я терпеть не могу читать чужие стихи, только потому что вынуждена это делать? И как меня бесят люди вроде твоего друга Коэна с их бесконечными разглагольствованиями про чертов Париж двадцатых годов?
– Да. Я хочу обо всем этом услышать. Несомненно.
– Зачем?
Нелегкий вопрос. И вразумительных ответов на него не существовало. Придется что-то выдумывать.
Пока Владимир соображал, задул порывистый ветер и облака потянулись к северу. Запрокинув голову и игнорируя тот факт, что они находятся в самом центре города, можно было вообразить, что остров сдвинулся с места, поплыл, маневрируя по излучинам и рукавам Тавлаты, взяв курс на юг, к выходу в Адриатическое море. А если еще немного проплыть, то они могли бы пришвартовать свой остров к берегам Корфу и резвиться там средь шелеста оливковых деревьев, под гармоничные трели щеглов. Что угодно, лишь бы закончить этот допрос.
– Послушай, – начал Владимир, – тебя бесит, когда Коэн заводит разговор о Париже и культе экспатриантов вообще. Но должен заметить: в этом что-то есть. Самые прекрасные три строчки, которые я прочел в жизни, – те, которыми заканчивается «Тропик Рака». Сначала позволь объясниться: я вовсе не канонизирую Генри Миллера как человека, он был женоненавистником и ярым расистом, и я по-прежнему испытываю глубокие сомнения относительно его писательских талантов. Я лишь выражаю восхищение последними строчками одного из его романов… Генри Миллер стоит на берегу Сены, он только что прошел испытание нищетой и всевозможными унижениями. И он пишет примерно так (прости, если немного ошибусь в цитате): «Солнце заходит. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня – грунт, изменчивая атмосфера, глубокая древность. Холмы тихонько окружили ее: курс реки предопределен».
Он просунул руку меж ее теплыми ладонями.
– Я не знаю, хороший я человек или плохой, – продолжил Владимир. – И не уверен, можно ли знать об этом наверняка. Но сейчас я счастливейший человек на свете. Вот река – ее грунт, атмосфера, глубокая древность, и мы с тобой в пять утра посредине этой реки, посреди этого города. У меня такое чувство…
Она зажала ему рот его же рукой.
– Прекрати. Не хочешь отвечать на вопрос, не отвечай. Но хорошо бы тебе об этом задуматься. О, Владимир, только послушай, что ты говоришь! Ты не канонизируешь какого-то несчастного Генри Миллера как человека. Я даже не уверена, что понимаю, о чем речь, но звучит она довольно сомнительно…
Морган отвернулась, и Владимир уперся взглядом в строгий пучок ее волос.
– Знаешь, ты мне нравишься, – неожиданно сказала она. – Правда. Ты общительный, милый, умный и, думаю, хочешь добра людям. Своим журналом ты сплотил всех здешних американцев. Дал многим из них шанс. Первый в жизни. Но я чувствую… в итоге… ты так и не впустишь меня в свою жизнь. Я чувствую это, проведя с тобой всего один день. И мне любопытно – почему. То ли оттого, что ты считаешь меня дурой из Шейкер-Хайтс, то ли есть что-то ужасное в твоей жизни и ты хочешь от меня это скрыть.
– Понятно.
Владимир лихорадочно искал ответ, но что он мог сказать, чему бы она поверила? Возможно, впервые за долгое время лучше было промолчать.
На берегу, напротив замка, первые проблески рассвета легли на золотой купол Национального театра, и тот засиял над черными пальцами сталинской Ноги, словно священная подагрическая шишка; неподалеку трамвай, набитый рабочими первой смены, пересекал мост, и от его грохота дрожь пробежала по островку. И сразу же ветер стал совсем противным, подыграв Владимиру, которому очень хотелось обнять Морган. Ладонь соскальзывала с шелковой блузки, но он все равно ощутил Морган, бесконечно теплую, крепкую, пахнувшую потом и утраченными поцелуями.
– Тсс… – прошептала она, безошибочно угадав, что он собирается сказать.
Ну почему она все усложняет? Разве его вранье и увертки недостаточно правдоподобны? И все же вот она, Морган Дженсон, – заманчивая, но тревожная перспектива, напоминающая Владимиру, каким он был, пока в его жизнь не ввалился мистер Рыбаков с известием о существовании иного мира за пределами отчаянной хватки Халы. Мягким, бестолково ступавшим по земле Владимиром, чьим главным наслаждением по утрам был двойной сочный острый сэндвич с сопрессато и авокадо. Маленьким недотепой, как называла его мать. Человеком в бегах.