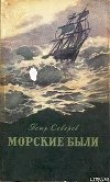Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Часть VI
Трудности с Морган
1. В походе
Он в жизни не видел столь сильных ног.
С вечеринки у Ларри Литвака прошел месяц, но эти ноги – крепкая белая плоть, испещренная молодыми голубыми венами, бедро, будто чистая поэзия соцреализма, – по-прежнему изумляли и завораживали молодого Владимира. Просыпаясь в несусветные семь утра в панеляке Морган, первым делом он видел вышеупомянутые ноги, плотные, мускулистые, возможно, слегка неженственные, на его непросвещенный взгляд, и – как бы это сказать? – прыгучие. На них Морган выпрыгивала из кровати, бежала в ванную, где отмывалась и полоскалась, готовясь к долгому рабочему дню. С самого раннего возраста эти ноги использовали в хвост и гриву, каждый день в баскетбольном лагере добавлял им проворства и выносливости. И теперь они, представься им случай, могли бы запросто доставить Владимира в качестве груза на Эльбрус.
Но вместо Эльбруса ноги, о которых идет речь, обутые в походные ботинки, обтянутые джинсами, отчего они походили на спелые баклажаны, отправились в Столованский национальный парк, резервуар зелени, раскинувшийся меж двух скал в двухстах километрах к северу от Правы. Приглашение сопровождать Морган в вылазке на дикую природу для домоседа Владимира стало неожиданностью. Ян подбросил их к входу в парк, после чего они двинули на своих двоих (ноги Морган приняли на себя вес привязанной к спине палатки) по бесконечной тропе, заросшей кустарником, через ручьи, расширявшиеся до настоящих стремнин и обрывавшиеся пенистыми водопадами, вдоль луга, служившего приютом для невесть откуда взявшегося оленеподобного животного, поглядывавшего на них из высокой травы черными влажными глазами. Наконец вспотевший, запыхавшийся Владимир с палкой в одной руке и небольшим мешком, полным китайки, в другой оказался на гранитном уступе, с которого открывался вид на озерцо – мальки, лягушки и стрекозы носились туда-сюда меж мшистых берегов. Владимир вдохнул чистого воздуха, и ему почудилось, будто с ближайшего дерева ему одобрительно улыбается дух Кости. Морган, сняв с себя палатку, принялась устанавливать эту чертову штуковину.
– Привет, мироздание! – крикнул Владимир, сплюнув на лист кувшинки, равнодушно проплывавшей мимо.
Несмотря на диктаторские замашки природы, на навязываемый ею культ зелени, он получил удовольствие от двухчасовой прогулки, от того, как подрагивал перед глазами пейзаж, как выпрыгивали кузнечики из-под ног; раздвигались ветки на узкой тропе, а в итоге – весомое воздаяние за труды: редкий шанс побыть наедине с новой подругой в странном и прекрасном месте.
Давно пора. За несколько недель, минувших с Ларриного суаре, они и часа не провели вместе при свете дня. Как Владимир и подозревал, Морган преподавала английский. Она работала по десять часов в день, вкладывая инглиш в головы по преимуществу пролетарской аудитории из пригородов, аспирантам стремительно расширявшей сферы услуг Правы, которым нужно было уметь сказать: «Вот чистое полотенце» или «Желаете, чтобы я вызвал полицию, сэр?»
Английский преподавали многие американцы из тех, кто не находился на полном иждивении у родителей, и Морган трудилась в свойственной ей методичной манере – ответственность uber alles, – напрочь отвергая просьбы Владимира прогулять уроки, чтобы пошататься с ним по городу. Владимир не сомневался: все ученики мужского пола влюблены в Морган и многие с места в карьер предлагают ей выпить кофе или просто выпить – способ соблазнить американку, к которому машинально прибегают европейцы. Он также не сомневался, что в ответ она немедленно краснеет столь густо, что даже самые закоренелые волокиты теряются, и говорит с расстановкой, по-учительски: «У меня есть друг».
Он наблюдал за тем, как Морган, вонзив каблуки в сухую осеннюю почву, натягивала палаточный брезент на две палки. Прекраснее всего ее ноги казались Владимиру, когда они сгибались под ее великолепной большой попой, как то было сейчас. Ощутив прилив возбуждения, Владимир зажал ладонью пах, но тут его отвлекло существо с перьями: птица.
– Ястреб! – закричал Владимир.
Хищник кружил в небе, нацеливая на него свой жуткий клюв.
Морган вбивала камнем в землю очередной колышек Она утерла пот со лба и выдохнула в ворот майки.
– Куропатка. Почему ты мне не помогаешь? Не любишь напрягаться, да? Предпочитаешь… даже не знаю, как сказать… пережевывать мысли.
– Я абсолютно никчемный, – подтвердил Владимир.
Пережевывать мысли. Остроумно! Она начинала врубаться. Сказывалась магия тусовки.
Пока Морган орудовала камнями и палками, Владимир держал брезент. Он разглядывал ее с тихим обожанием, представляя себе девочку с каштановыми волосами, хорошенькую, но не первую красавицу в ее шестом классе: вот она на крыльце размазывает хлопками комаров на лбу; у ее ног слегка сдувшаяся резиновая игрушка, динозавр из мультсериала; промокшие карты на плетеном столе, липкие на ощупь, красная краска смешалась с желтой, бубновый валет лишился головы; наверху в родительской спальне последние судороги привычной ссоры между матерью и отцом, порожденной вспышкой ревности, мелким унижением или, может быть, просто однообразием жизни – хот-доги летом, призы на соревнованиях, попутный ветер на озере, народные волеизъявления в ноябре, воспитание троих детей с сильными прыгучими ногами и большими руками. Эти руки тянут, чтобы погладить и утешить, ими подтягивают пухлые тела на вязы, чтобы распугать белок, возносят к вечно серым небесам баскетбольные мячи и вбивают палаточные колышки в землю…
Владимир одернул себя. Эк его занесло. Что он знает о ее детстве? Самому ему не повезло: ослепленный солнцем аист приземлился с ним на борту в роддоме на проспекте Чайковского, а не в благополучной клинике Кливленда. Ох уж эти вечные вопросы бета-иммигранта: что делать с непослушным языком, с родителями, потерявшими полжизни, с самим запахом тела, наконец? Или же, конкретнее: как вышло, что он, Владимир, третьеразрядный преступник, стоит сейчас посреди свежего европейского леса и наблюдает, как вырастает у озера палатка и крепкая, привлекательная, однако ничем не примечательная женщина молча строит временное пристанище для них обоих?
– Ты устала? – спросил он с искренней, как ему мнилось, нежностью. Придерживая брезент одной рукой, другой он погладил Морган по влажным волосам.
Она возилась с палаточным колом, крюком и еще каким-то приспособлением, и Владимир растрогался, глядя на ее тело, более складное, чем его собственное, тело женщины, которая с землей на равных. Все в ней – ноги, бицепсы, коленные чашечки, позвоночник – служило некой цели, прыгала ли она с трамвая на трамвай, добираясь до окраины Правы, торговалась ли на цыганском рынке, выгадывая на корнеплодах, продиралась ли через соломенного цвета листву.
Фрэн, Хала, мать, доктор Гиршкин, Рыбаков, Владимир Гиршкин – все они потратили жизнь, чтобы соорудить себе укрытие от окружающей действительности, будь то залежи денег, говорящий вентилятор, кордон из книг, деревянная изба в подвале, полки с полупустыми банками геля «Кей-Вай» либо хлипкая финансовая пирамида… А эта девушка, укрощавшая упрямый кол шилообразной штуковиной, ни от кого и ни от чего не скрывалась. Она была в отпуске. Она могла бы курить травку в Таиланде, колесить на велосипеде по Гане или плавать с аквалангом над коварным Барьерным рифом, но приехала сюда, чтобы на мощных ногах приплясывать в такт культурному ритму разрушающейся империи, не теряя при этом добродушия. А когда ее отпуск закончится, она уедет домой, он помашет ей рукой с бетонной площадки в аэропорту.
– Я почти закончила, – сказала Морган.
От этой фразы Владимиру стало грустно, словно его преждевременно покинули; гнев, трепет, любовь, растерянность – много чего нахлынуло разом и преобразилось в сексуальное возбуждение. Опять эти плотные ноги. Джинсы, испачканные землей. Его охватило странное и тем не менее естественное, как стихия, чувство.
– Хорошо. – Он едва коснулся ее теплого плеча. – Это хорошо.
Она взглянула на него. Ей хватило нескольких секунд, чтобы сообразить, в чем дело: Владимир переминался с ноги на ногу, стрелял глазами, прерывисто дышал, и она мгновенно смутилась, как смущаются юные.
– О черт. – Морган отвернулась с улыбкой.
Они забрались в идеально натянутую палатку, и Владимир немедленно прижался к ней, погрузил руки в ее натуральные округлости, стискивая Морган крепче и крепче в жажде радости и молясь, чтобы эти объятия не пропали даром. И вдруг ему пришло в голову… Одно-единственное слово.
Нормальность. То, что они делали, было нормально и правильно. Палатка – особая зона, в которой желание присутствует в качестве нормального позыва. Здесь ты стягиваешь одежду, твой партнер делает то же самое, а дальше, при благоприятном исходе, нахлынувшее возбуждение смешается с нежностью. Эта мысль, очевидная, как озеро, поблескивавшее за палаткой, напугала Владимира почти до импотенции. Он еще сильнее сжал Морган и ощутил сухость в горле и внезапную потребность помочиться.
– Эй, привет, – неловко произнес он.
Это становилось его любимой фразой. Она придавала его романтическим чувствам неформальность, будто они с Морган были уже лучшими друзьями и одновременно оставались почти чужими людьми, когда дело касалось раздевания.
– Привет, – ответила в тон Морган.
Пока он машинально мял ее грудь, она гладила его шею и дрожащее горло, приподняла его искрящую нейлоновую рубашку и сжала пальцами бледный живот, неотрывно глядя на него, и на лице у нее было написано терпеливое участие – она помогала Владимиру Гиршкину в трудную минуту. В рассеянном свете столованского солнца желтая палатка приобрела рыжеватый оттенок, и на этом фоне Морган показалась Владимиру старше, а кожа на лице красноватой и неровной; она прикрыла глаза, возможно, от усталости, которую выдавала за возбуждение (по доброте душевной, предпочитал думать Владимир, или даже из высочайшего милосердия). Когда он дотронулся до ее лба, его ударило током; Морган грустно улыбнулась: надо же, ее тело в соприкосновении с его телом заряжается электричеством, и прошептала вместо него «ой».
От монотонных поглаживаний она впала в почти полную неподвижность. Затем, приподнявшись на локте, смахнула с Владимира колючки, оценила ситуацию, поняла, что придется брать дело в свои руки, расстегнула молнию на его пролетарских штанах и стащила их, вылезла из своих джинсов, расцветив воздух землистым ароматом походницы, и помогла Владимиру взобраться на нее.
– Эй, привет, – повторил Владимир.
Она рассеянно коснулась его лица и отвела взгляд. О чем она думала? Еще вчера она наблюдала, как Владимир с Коэном едва по стенке не размазали бедного владельца клуба, несчастного канадца Гарри Грина, споря об одном из аспектов назревавшей войны в Югославии, и вот сейчас он, Владимир Завоеватель, дрожит в осеннем холодке палатки, трется о ее живот, будто понятия не имеет, как совокупляются с женщиной; он, мужчина, который не умеет поставить палатку, да и, по его же собственному признанию, вообще толком ничего не умеет, кроме как говорить, смеяться, размахивать крошечными руками и стараться всем нравиться. Она обхватила его и стала привычно пощипывать, иногда получалось немножко больно, но он делал вид, что ему приятно. Закрыв глаза, Владимир театрально закашлялся, гулкое клокотание мокроты эхом пронеслось по палатке. Потом он издал что-то вроде стона: «Маа-ум». И заключил: «А-аф».
– Эй, привет, незнакомец, – вырвалось у Морган, и по ее виноватой улыбке Владимир догадался, что она хотела бы вернуть эти слова обратно, потому что наверняка жалела его, прямо-таки светилась сочувствием, а может быть, то был длинный луч вуайеристского солнца, пролезший между ними; но нет, точно сочувствие…
Ах, если бы он мог рассказать ей… Милая Морган… Она задавала не те вопросы в ту ночь на острове посреди Тавлаты. Владимир не был ни плохим, ни хорошим человеком. Мужчина, лежавший на ней, с гусиной кожей на груди, короткой порослью на лице, торчавшей во все стороны света, с глазами, умолявшими хоть о каком-нибудь облегчении, с мокрыми трясущимися руками, вцепившимися в ее плечи, – то был конченый человек. Иначе оказался бы он, такой умный, таким потерянным? Иначе трясло бы его так жутко и неподдельно перед ней, столь непритязательной женщиной?
Владимир готовился произнести все это вслух, как вдруг Морган приподняла его, сняла его член со своего живота и направила куда следовало. Он разинул рот, и, наверное, она увидала пузырьки, забулькавшие в его горле, словно он пытался дышать под водой. В смятении он уставился на нее. Он явно опять собирался пролепетать «эй, привет». И, видимо, для того, чтобы лишить Владимира этой возможности, она ухватила его за задницу и рывком потянула на себя, отчего палатка наполнилась счастливым мужским рыком.
2. А что, если Толстой был не прав?
Все у них было хорошо.
Александра с самого начала курировала их отношения. Хлопотливая кумушка в современном обличье, она звонила Морган и Владимиру каждый день, дабы удостовериться, в порядке ли их эмоциональные паспорта. «Ситуация выглядит позитивно, – докладывала она Коэну в конфиденциальном коммюнике. – Владимир расширяет кругозор Морган, ее цинизм медленно возрастает, она уже не смотрит на мир с точки зрения привилегированной американки из среднего класса, но – по крайней мере, частично – глазами Владимира, угнетенного эмигранта, вынужденного преодолевать системные барьеры».
«В., со своей стороны, учится ценить необходимость деятельного диалога с окружающим миром. Спорит ли он с М. на мосту Эммануила рано утром или украдкой поглаживает ее на премьере бурлеска Планка, снятого в манере синема верите, такого Владимира мы более чем рады приветствовать! Что им дальше делать, Кои? Жить во грехе?»
Для греховного сожительства места в квартире Морган вполне хватало: две маленькие спальни и одна таинственная комната, дверь в которую была заклеена скотчем и забаррикадирована диваном. На двери в запретную комнату висел портрет Яна Жопки, первого столованского «пролетарского президента» при коммунистах. Физиономия Жопки – крупная лиловая свекла с несколькими функциональными отверстиями для вынюхивания буржуазной мягкотелости и пения агитационных куплетов – была дополнительно изуродована коряво нарисованными гитлеровскими усиками.
Владимиру хотелось бы спросить, что думает Морган о странных временах, в которые они живут, о падении коммунизма после того, как Рейган в середине восьмидесятых нанес ему удар под дых, но он опасался, что ее ответ будет слишком стереотипным, консервативным, среднезападным. И зачем вешать антижопкинский плакат, когда у всей продвинутой молодежи теперь новый жупел – Всемирный банк? Но о запечатанной комнате он все же решился расспросить.
– Над ней крыша протекает, просто ужас как, – объяснила Морган в своей просторечной манере.
Они расположились на диване в гостиной, Морган сидела на Владимире, как наседка, пытаясь его согреть (подобно многим русским интеллигентам, Владимир патологически боялся сквозняков).
– Примерно раз в месяц домовладелец присылает какого-то мужика чинить ее, – продолжила Морган, – но в эту комнату лучше нос не совать.
– Европа, Европа, – пробормотал Владимир, сдвигая Морган с одного бедра на другое, чтобы обогреваться равномерно. – Полконтинента в ремонте. Кстати, вчера в дверь трезвонил какой-то столованец, очевидно по имени Томаш, и орал: «То-маш тут! То-маш тут!» Я сказал, что никакие Томаши меня не интересуют, спасибо. В этом районе полно уродов. Тебе не стоит ходить одной. Давай я скажу Яну, чтобы он возил тебя.
– Влад, послушай меня! – Морган обернулась и схватила его за уши. – Никогда никого не впускай в квартиру! И не подходи к той комнате!
– Ай, только не уши, умоляю! – заверещал Владимир. – Они теперь долго будут красными. А мне сегодня председательствовать на Вегетарианской олимпиаде. Что на тебя нашло?
– Обещай!
– Ай, пусти… Хорошо, никогда и ни за что, клянусь. О, ты мой большой, вскормленный кукурузой зверь!
– Не называй меня так!
– Я любя. Ты и вправду больше, чем я. И тебя чаще кормили кукурузой. Это вопрос персональной…
– Да, это вопрос персональной идентичности, – перебила Морган. – Между прочим, чучело, ты говорил, что в эти выходные мы наконец-то отправимся к тебе. Говорил, что познакомишь меня со своими русскими друзьями. Парень, что звонил вчера, был таким милым и испуганным. И имя у него экзотическое — Сурок, в жизни такого не слыхала. Звучит по-индийски. Я посмотрела в словаре, и вроде бы по-столовански это значит «крот» или «землеройка». А что это значит по-русски? И когда я его увижу? Когда ты пригласишь меня в гости? А, чучело? – Она дернула его за нос, но ласково.
Владимир представил, как Морган и Сурок преломляют хлеб на еженедельном бизнесменском обеде: после трапезы, по заведенному обычаю, ребятки устраивают салют из автоматов, видавшие виды девицы из казино охмуряют Сурка под «Лови момент» в исполнении «Аббы», а пьяный Гусев кроет на чем свет стоит всемирный жидомасонский заговор.
– Исключено, – сказал Владимир. – Во всем панеляке до декабря не будет горячей воды, в котельной утечка сульфатов, в лифте – микробы гепатита…
И весь дом – база вооруженных воров и бандитов, набранных по преимуществу из рядов бывших советских спецслужб, тех, что дробили пальцы на ногах подозреваемых и веселили их электрошоком.
– Знаешь, мне надо переехать, – продолжил Владимир. – Может, мне просто пожить здесь? Сэкономим на квартплате. Сколько с тебя берут? Пятьдесят долларов в месяц? Поделим на двоих. Каждый по четвертаку. Что скажешь?
– Ну, – ответила Морган, – наверное, было бы неплохо. – Она сняла пушинку с волос на груди Владимира, внимательно осмотрела ее, затем положила себе на колени, откуда пушинка медленно порхнула вниз по шву джинсов. – Только…
Молчание длилось. Владимир потыкал ее в живот. У них был самый немногословный роман из тех, что с ним случались, и его это устраивало: меньше слов – меньше конфликтов. На ночь обняться, утром совместно прополоскать рот – вот она, звуковая дорожка простой, пролетарской любви. Однако случались моменты, когда ее молчание удивляло, когда она смотрела на Владимира столь же неуверенно, как и на своего кота, потрепанного бродягу из местных; заботами Морган кот разжирел до западных пропорций, и отныне вся его таинственная жизнь протекала на подоконнике.
– Только – что? – спросил Владимир.
– Прости… Я…
– Ты не хочешь, чтобы я переехал к тебе?
Она не хотела Владимира Гиршкина в режиме от-заката-до-заката? Не хотела учить его соскребать плесень с занавески в душе? Не хотела дряхлеть и толстеть вместе с ним, как прочие пары в панеляках?
– Я и так практически живу здесь, – прошептал Владимир и сам испугался печали, прозвучавшей в его голосе.
Морган встала с насеста, отдав Владимира на растерзание сквознякам-убийцам.
– Мне пора на работу.
– Сегодня суббота, – возразил Владимир.
– Надо подтянуть одного богатого парня с Брежневской набережной.
– Как его зовут? – спросил Владимир. – Опять Томаш?
– Может быть, – ответила Морган. – Половину мужчин в этой стране зовут Томаш. Дурацкое имя, тебе не кажется?
– Да, – подтвердил Владимир, кутаясь в огромное одеяло из гусиного пуха. – Причем на любом языке.
Он смотрел, как она переодевается в теплое белье. Он бы предпочел и дальше сердиться на нее, но бельевая резинка чпокнула на ее круглом животике, и этот звук навеял на него тоску и ощущение уюта одновременно. Живот. Теплое белье. Одеяло из гусиного пуха. Владимир зевнул и увидел, что кот Морган на другом конце комнаты зевает с ним в унисон.
В другой раз, когда его не будет клонить в сон, он обязательно взломает дверь в запечатанную комнату. Ни у кого не должно быть секретов от Владимира Гиршкина. Он позовет на помощь Яна; Ян – любитель вышибать преграды плечом. Им постоянно приходится заменять стекла в машине.
И рано или поздно он таки переедет к ней. Коэн показал ему докладную записку Александры. А значит, деваться им некуда.
После работы Владимир с Морган обычно ехали в город и обедали капустным супом в новом кришнаитском заведении или отправлялись в «Модерн», где пили кофе по-турецки, просыпались, оживлялись, пихали друг друга ногами под столом в быстром темпе диксиленда. Но чаще они гуляли – бодрым шагом, подстегиваемые ноябрьским холодком. Борясь с ветром, они забирались на вершину Репинского холма, самого высокого холма Правы, зеленого Акрополя, лишенного, увы, своего Парфенона. Сверху Старый город на противоположной стороне реки казался грудой безделушек на домашней распродаже: пороховые башни напоминали почерневшие перечницы, дома в стиле модерн – коллекцию позолоченных музыкальных шкатулок.
– Нет, это что-то, – сказала однажды Морган. – Только взгляни на все эти краны у «К-марта». Те, кто приедет сюда через двадцать лет, никогда не узнают, как тут все было. Им придется читать твои стихи, или стихи Коэна, или метаэссе Максин…
Владимир смотрел не столько на золотистый город, сколько в другую сторону – на непременный ларек с сосисками, грязноватую колбасную лавчонку «Имбисс», которую местные соорудили на скорую руку, чтобы кормить голодных немцев.
– Верно, время сейчас особенное, – отвечал Владимир, косясь на маленькую пухлую сосиску, завернутую в ржаной хлеб. – Но мы должны остерегаться вторжения… э-э… ну ты понимаешь… транснациональных корпораций.
– Я чувствую себя здесь удивительно легко, – продолжала Морган, не обращая внимания на его слова. – Все тревоги куда-то отступают. В прошлом году в колледже, когда я заходила в комнату, куда привозили почту, я часто застывала как вкопанная и на меня накатывала жуткая паника. Какое-то… необъяснимое… безумие. С тобой такое бывало, Владимир?
– Конечно.
Он скептически посмотрел на нее. Паника? Что она знает о панике? Весь мир лежит у ее ног. Когда большая птица в лесу, сова наверное, попыталась съесть Владимира, Морган стоило лишь произнести «фу!», произнести твердо, с интонацией «клиент-всегда-прав», и птица, жалобно ухая, немедленно улетела обратно под полог листвы. Паника? Сомнительно.
– Кровь отливает от рук и ног, – говорила Морган, – потом и от головы, и все плывет перед глазами. Университетский психотерапевт сказал, что это классический приступ страха. Ты когда-нибудь ходил к психотерапевту, Владимир?
– Русские не верят в психиатрию, – объяснил Владимир. – Наша жизнь трудна, и надо терпеть.
– Я просто спросила. Так вот, эти приступы случались среди бела дня, когда абсолютно ничего не происходило. Странно. Я знала, что университет я закончу, и училась я неплохо, у меня были классные друзья, я встречалась с одним парнем, не самым умным на свете, ну, сам понимаешь… колледж.
– В Огайо.
Владимир попытался представить себе это место. И вспомнил о Средне-Западном прогрессивном колледже, где он недолго пробыл. Эстафета голышом на празднике рабочей солидарности, жаркие, «дай-узнать-тебя-поближе» душевые, массовый кризис сексуальной ориентации в разгар весны. По части приступов страха пальма первенства точно принадлежала его колледжу.
– Да, в Огайо, – подхватила Морган. – Я хочу сказать, у меня было все в порядке. Ничего плохого. С родителями вполне нормальные отношения. Мать часто приезжала из Кливленда навестить меня, а когда я провожала ее до машины, она начинала плакать и говорить, как мне повезло и какая я красивая да замечательная. Приятно, но и немножко неловко. Иногда она проезжала сто пятьдесят миль только для того, чтобы привезти мне новую телефонную карту или упаковку содовой, а потом разворачивалась и ехала обратно. Не знаю, наверное, она вправду скучала. За год до того они разругались с моим братом. Папа вроде как силком заставил его поработать в своей фирме летом, это было слишком для него… Кажется, брат сейчас в Белизе. От него не было известий с прошлого Рождества. Почти год прошел.
– Мамаши. – Владимир покачал головой и застегнул куртку Морган: ветер усиливался.
– Спасибо, – поблагодарила Морган. – Ну и психотерапевт все допытывался: может, меня что-то угнетает? Беспокоюсь об оценках? Или у меня проблемы с законом? И не залетела ли я? Но конечно, ничего такого не было… Я была обычной хорошей девочкой.
– Гм, – Владимир ее почти уже не слушал. – В чем же, по-твоему, было дело?
– В общем, врач сказал, что мои приступы страха были как бы прикрытием. На самом деле я чувствовала жуткую злость, и приступы страха не позволяли мне сорваться. Они – вроде предупредительных знаков, а без них я бы совершила что-нибудь дикое. Ну, например, стала бы мстить.
– Но это на тебя совершенно не похоже! – Владимир искренне недоумевал. – С чего вдруг ты могла бы сорваться? Послушай, я в психологии плохо разбираюсь, но чему учит нас современная наука? Если у тебя проблема, виноваты родители. Но твои мама с папой кажутся абсолютно разумными людьми. – Он не кривил душой. По рассказам Морган, ее родители жили в доме, построенном уступами на Лесном бульваре, там они вырастили Морган и еще двух среднезападных детей.
– Я тоже думаю, что с ними все в порядке, – согласилась Морган. – Но на братишек они все-таки давили, хотя старшая из детей – я.
– Ага! А второй брат, он тоже прячется в Белизе?
– Нет, он в Индиане. Менеджер по маркетингу.
– Прекрасно! Какой-либо закономерности здесь не просматривается, – с облегчением вздохнул Владимир. Он и сам немного испугался: если с Морган что-то не так, то каковы тогда шансы у Владимира Гиршкина, выходца из семьи советских евреев? С тем же успехом Морган могла бы заявить, что Толстой ошибался и счастливые семьи не походят друг на друга. – Послушай, твои приступы страха, они участились в последнее время или стали реже?
– Вообще-то, с тех пор, как я приехала в Праву, ни одного не было.
– Понятно… понятно.
Владимир сцепил пальцы, как обычно делал доктор Гиршкин, размышляя над запросом из министерства здравоохранения. Он определенно обеспокоился, но что именно его тревожило, толком не знал. Они, двое любовников-чужестранцев, просто беседуют. Легко, без напряга.
– Давай уточним, что конкретно говорил твой психиатр, – напрягся Владимир. – Он сказал, что приступы страха – нечто вроде прикрытия, они не позволяли тебе «сорваться». Хорошо. А теперь скажи, находясь в Праве, не делала ли ты чего-нибудь… гм… говоря твоими же словами, «дикого» или «мстительного»?
Морган задумалась. Обведя взглядом линию горизонта, невидимую за городскими постройками, она опустила глаза на голую землю. Опять это непонятное молчание. Морган теребила застежку на куртке, и Владимир вспомнил, как эта застежка называется по-русски: «молния». Красивое слово, не то что английский «зиппер».
– Так были срывы?
– Нет, – наконец ответила она. – Не было.
И вдруг обняла его и коснулась его колючей щеки подбородком, оканчивавшимся ямочкой размером с десятицентовик. Эту расщелинку Владимир почему-то находил невероятно сексуальной, но теперь он счел ее знаменательным изъяном, вмятиной, которую он разгладит любовью и мыслью аналитика.
– Вот видишь, тростник ты мой сахарный, – сказал он, целуя гигантскую ямочку. – Мы выяснили, что психотерапевт у тебя был скорее всего второсортный… Не обижайся, но какими еще могут быть психотерапевты в Огайо?.. Да, итак, мы выяснили, что этот доктор кругом ошибался. Приступы страха вовсе не закупоривали твой гнев, предотвращая иррациональные поступки. Иначе как объяснить внезапное исчезновение этих приступов здесь, в Праве? И позволь заметить, возможно, тебе просто было необходимо проветриться, так сказать, сбежать на время от семейного очага, альма-матер и – хотя я и рискую прослыть самонадеянным – завязать новый роман. Я прав? А? Ну конечно, прав.
Его трясло от маниакального сознания собственной правоты. Он поднял руки, будто возносил хвалу Господу.
– Ну и слава Богу! – воскликнул Владимир. – Слава Богу! Ты полностью излечилась. Это надо отпраздновать, и не где-нибудь, но в «Столованском винном архиве». В синем зале, разумеется. Нет, людям вроде нас нет нужды заказывать столик заранее… Как ты могла такое подумать! Идем же!
Он схватил ее за руку и потащил вниз с Репинского холма, где у подножия их ждал Ян с машиной.
Поначалу Морган противилась, словно переход от любительского психоанализа к буйному пьянству в «Винном архиве» выглядел несколько неприличным. Но Владимир не мог думать ни о чем другом. Выпить! Хватит болтовни. Приступов страха. Срывов. Разум – наш господин. В самых ужасных обстоятельствах разум способен сказать: «Стоп! Я здесь главный!» А какие ужасные обстоятельства были у Морган? Беспокойство молодой девушки перед окончанием университета? Тоска матери по дочери? Отец, желавший сыновьям самого лучшего? Ох, любят американцы выдумывать себе проблемы. У русских есть старинное выражение на сей счет: с жиру бесятся.
Да, беседа оставила неприятный осадок. По дороге в «Винный архив» злость на Морган постепенно усиливалась. Как она могла с ним так поступить? Палатка в лесу вспоминалась теперь событием столетней давности. Нормальность. Возбуждение. Нежность. Вот что она ему молчаливо обещала. И вдруг этот нервный разговор и ее отказ поселить Владимира в своей квартире. Ну и хрен с ней! Нормальность все равно возьмет свое. Плюшевые, чуть ли не надувные банкетки «Винного архива» выдохнут многозначительно под его задом. В стереосистеме будет пощипывать струны Грант Грин[49]49
Грант Грин (1931–1979) – американский гитарист, в основном игравший в джазовом и блюзовом стиле.
[Закрыть]. Столованец с волосами, собранными в хвост, принесет бутылку портвейна. Владимир прочтет Морган краткую и внятную лекцию о том, как сильно он ее любит. Они поедут домой и лягут вместе в постель, в пьяном бессильном сексе тоже есть свое очарование. И все образуется.
Но Морган припасла для него кое-что еще.