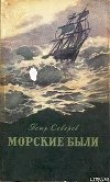Текст книги "Приключения русского дебютанта"
Автор книги: Гари Штейнгарт
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
– А-а-а! – завопил Владимир.
Он добился своего. Старый заскорузлый псих добился-таки своего.
Общий план банкетного зала в позолоте, мэр – высокий мужчина с квадратным лицом, которое даже две мощные челюсти не могли растянуть в улыбку, – стоит рядом с истерически хихикающим Рыбаковым. В банкирском костюме-тройке Рыбаков выглядит стройным и презентабельным. Над ними висит растяжка: Нью-Йорк приветствует новых ньюйоркцев.
МЭР. Когда я смотрю на этого человека, подвергавшегося преследованиям на своей родине и проехавшего три тысячи миль лишь затем, чтобы громко высказаться о тех же самых проблемах, которыми озабочен и я, – преступность, социальные пособия, оскудение гражданского общества – я бы хотел, невзирая на наскоки скептиков, поблагодарить Господа за…
РЫБАКОВ (плюясь от души). Преступность, тьфу! Социальные пособия, тьфу! Гражданское общество, тьфу!
ЖУРНАЛИСТКА. Своими резкими суждениями и консервативными взглядами мистер Рыбаков нажил немало врагов среди либеральной городской элиты.
СЕДОВЛАСЫЙ ЛИБЕРАЛ В ГАЛСТУКЕ-БАБОЧКЕ (на лице скорее усталость, нежели гнев). Я возражаю не столько против упрощенных воззрений так называемого Вентиляторного на расовую, классовую и тендерную проблемы, сколько против помпезного спектакля, устроенного в сомнительных политических целях, с участием человека, по всей видимости остро нуждающегося в помощи. Если таково представление мэра о хлебе и зрелищах, то ньюйоркцам не смешно.
Рыбаков за подиумом, с маленьким вентилятором в руках. Он улыбается, глаза затуманены от удовольствия, он нежно мурлычет: «Фе-еня… Фенечка. Спой «Подмосковные вечера» для седьмого канала, пожалуйста».
ЖУРНАЛИСТКА. Конец этой истории наступил очень скоро, когда мэр пригласил мистера Рыбакова зарегистрироваться в качестве избирателя на официальной церемонии в мэрии. Телевизионные съемочные группы со всей страны собрались, дабы засвидетельствовать первое голосование в жизни Вентиляторного, вокруг которого было поднято столько шума. Улицы вокруг мэрии были перекрыты на целый день ради празднества в честь обретенного Вентиляторным права голосовать, всюду стояли лотки с осетриной и селедкой, двумя основными продуктами питания Вентиляторного, любезно предоставленными фирмой «Закуски от Росса и дочерей».
МЭР (с куском осетрины, зажатым между большим и указательным пальцами). Я внук иммигрантов. Мой сын – правнук иммигрантов. И я всегда этим гордился. А теперь я призываю всех натурализованных иммигрантов прийти и проголосовать. Если мистер Рыбаков смог это сделать, сможете и вы!
ЖУРНАЛИСТКА. Но всего лишь за час до начала церемонии из городской администрации просочились сведения о том, что на самом деле мистер Рыбаков не является гражданином США. В архивах иммиграционной службы указано, что на церемонии натурализации, проводившейся в январе прошлого года, мистер Рыбаков набросился на мистера Джамаля ибн-Рашида, проживающего в Кью-Гарденс, в Квинсе, обрушив на него град расистских высказываний.
МИСТЕР РАШИД (в чалме, на фоне своего дома с садом, возбужденно). Он кричать на меня: «Турка! Турка! Убирайся домой!» И бить меня по голове – бах! бах! – этим, как его, костылем. Жену спросите, я до сих пор по ночам не спать. Мой адвокат сказать: «В суд!» Но я судиться нет, Аллах всех прощать, и я такой же..
Перебивка, и снова Рыбаков на пресс-конференции, окруженный помощниками мэра; некий репортер кричит:
– Мистер Рыбаков, это правда? Вы действительно лжец и психопат?
Замедленная съемка: Рыбаков поднимает костыль и швыряет его через весь зал, костыль опускается точно на голову нахальному репортеру. Беззвучные кадры рукопашной: служащие городской администрации обезвреживают Рыбакова, камера дергается, стараясь ухватить все подробности. Наконец включается звук и мы слышим вопль Рыбакова: «Я гражданин! Я Америка! Гиршкин! Гиршкин! Трепло! Ворюга!»
ЖУРНАЛИСТКА. Полицейские эксперты не смогли перевести термин «Гиршкин», однако из надежных источников нам стало известно, что такого слова в русском языке не существует. В течение двух недель мистер Рыбаков наблюдался в психиатрическом центре Бельвю, в то время как сотрудники мэрии пытались замять скандал.
ПОМОЩНИК МЭРА (молодой, затравленный). Мэр протянул руку помощи этому человеку. Он хотел поддержать его. Мэр глубоко озабочен участью повредившихся умом ветеранов Второй мировой войны, беженцев из бывшего Советского Союза…
ЖУРНАЛИСТКА. Однако в основанном на документах журналистском расследовании, опубликованном в сегодняшнем номере «Дейли ньюз», говорится, что мистер Рыбаков – на газетном снимке он запечатлен за рулем своей тридцатифутовой гоночной моторной лодки – получал социальное пособие, проживая в роскошных апартаментах на Пятой авеню. Этот факт грозит городской администрации проигрышем на выборах… А сейчас прямой репортаж с пресс-конференции мэра…
– Видишь! Видишь! – орал Баобаб на другом конце. – Видишь, что мне из-за тебя пришлось вытерпеть! Я пытаюсь заснуть, а тут Рыбаков и какой-то чокнутый серб вышибают дверь и Рыбаков кричит: «Гиршкин! Гиршкин! Трепло! Ворюга!» И костыли у него, как по телевизору показывали. Хала на кухне набирает 911. Нет, рядом с Вентиляторным Джорди выглядит вполне разумным человеком. Ну ладно, как сам-то?
– М-м?
– Как дела, спрашиваю.
– Эх, – ответил Владимир.
– Эх?
– Эх, – повторил Владимир. – Все, с меня хватит, Баобаб. – Он вспомнил о Джорди. О Гусеве. И о Сурке. – Бороться не имеет смысла. С меня достаточно.
– Бороться? Ты о чем? Ты за три тысячи миль отсюда. Все в лучшем виде. Я просто подумал, что тебя надо предупредить. Вдруг он вздумает поискать тебя в Праве.
– Сурок, – прошептал Владимир.
– Кто?
– Его сын.
– И что?
– Ничего. Проехали.
– Что ты бормочешь?
– Мне надо идти, – сообщил Владимир. – Передай от меня прощальный привет Хале.
– Эй! Я с тобой полгода не разговаривал. Куда ты поехал?
– В концентрационный лагерь.
4. Как бабушка спасла Гиршкиных
На парковку Аушвиц 2-Биркенау въехал кортеж БМВ, любимое средство передвижения Владимира в то время. Парковка была пуста, если не считать единственного туристического автобуса; туристы давно из него вылезли, и водитель-поляк убивал время, отмывая с любовным тщанием свои сапоги. Владимир и Морган только что прилетели из Лондона, Коэн приехал поездом из Правы. Попытки Коэна заменить БМВ американскими автомобилями потерпели провал. Джипы «ПраваИнвеста» участвовали в очередных так называемых «учениях по проверке боеготовности», затеянных Гусевым, о которых, вероятно, ни НАТО, ни останки Варшавского договора не были проинформированы. Потому Владимиру и его друзьям пришлось преодолеть расстояние в три километра от собственно Аушвица до дочернего лагеря на машинах военных преступников.
Они поднялись по ступенькам на главную смотровую вышку. То была знаменитая вышка, непременный атрибут каждого фильма о концлагерях. Видимо, ради пущего впечатления режиссеры часто снимали ее с нижней точки. В реальности башня была столь же приземистой и невзрачной, как станционный домик на пригородной нью-йоркской ветке Метро-Норт.
Вид с вышки тем не менее охватывал Биркенау целиком. Внизу пролегали рельсы, по которым подвозилось топливо для печей. Ряды печных труб тянулись до горизонта, напоминая коллекцию игрушечных заводиков, рассеченную песчаным полотном некогда перегруженной железной дороги. Отступая, немцы оставили только печи, взорвав все остальное в последнем пиаровском жесте. Но в некоторых секторах по-прежнему стояли ряды прямоугольных, жмущихся к земле бараков, и, если помножить их на число осиротевших труб, можно было легко вообразить, как лагерь выглядел прежде.
Заглянув в сильно потрепанный справочник по европейским концлагерям, Коэн обвел пальцем горизонт и произнес ровным ТОНОМ:
– Вон там. Пруды с человеческим пеплом.
Он указывал туда, где кончались трубы и начинался лес оголенных деревьев. По опушке леса ковыляли люди; возможно, та самая тургруппа, чей автобус пустовал на парковке.
Продолговатое облако уплыло, и солнце последних зимних дней засияло с удвоенной энергией. Владимир зажмурился и приставил к глазам руку козырьком.
– О чем ты думаешь? – спросил Коэн, приняв жест Владимира за проявление болезненных переживаний.
– Он устал, – сказала Морган. Она понимала: что-то не так, но подозревала, что не только в Аушвице дело. – Ты ведь немного устал, правда, Владимир?
– Да, спасибо. – Владимир едва не отвесил Морган поклон в благодарность за вмешательство. Меньше всего ему хотелось разговаривать. Ему хотелось остаться одному. Он улыбнулся и, выставив указательный палец, словно маня друзей за собой, принялся спускаться по ступенькам в гущу печных труб и уцелевших бараков.
Коэн и Морган шагали вдоль рельсов. Через каждые несколько метров Коэн останавливался, чтобы сделать изобличающий снимок. Время от времени они ныряли в бараки посмотреть, в каких ужасающих условиях существовали узники, хотя в отсутствие человеческого элемента многое приходилось домысливать. Продвигались они по направлению к яме с человеческим пеплом, вырытой в тупике железной дороги. Владимир, отколовшись от Коэна и Морган, бродил в одиночку между главной смотровой вышкой и лесом. Где-то здесь должна была находиться разгрузочная платформа, на которой новоприбывших сортировали: одних отправляли на мгновенную смерть от «Циклона Б», других на медленную – от непосильного труда.
Нелегко было воссоздать в воображении этот процесс, поскольку от того, что здесь когда-то находилось, осталась лишь узкая полоска пыльной земли, ведущая прочь от полотна. На рельсах стояла единственная постройка – дряхлый деревянный сторожевой пост, приподнятый на сваях, отчего он напомнил Владимиру избушку Бабы-яги. В сказках избушка держалась на куриных ногах, доставлявших Ягу туда, где у нее возникало желание устроить разгром. Изба могла также действовать по собственной воле, проносясь галопом по деревне и топча добрых христиан.
Бабушка Владимира, исполняя долг русских бабушек, рассказывала внуку сказки про Бабу-ягу, стимулировавшие поедание творога, гречневой каши и прочих пресных деликатесов отечественной кухни. Но, поскольку сказки были взаправду страшными, бабушка смягчала впечатление от кровавой резни, вставляя успокоительные оговорки, вроде: «Надеюсь, ты знаешь, что Баба-яга не съела никого из нашей родни!» Владимир так и не понял, осознавала ли она глубинный смысл этой оговорки. Однако его семье действительно удалось ускользнуть от Гитлера почти в полном составе. И спасла Гиршкиных от Гитлера именно бабушка, а вот доморощенный Сталин оказался ей не по силам.
До войны Гиршкины обитали на Украине, неподалеку от Каменец-Подольска, города, чье еврейское население было сметено с лица земли на начальной стадии плана «Барбаросса». И до первой войны Гиршкины обитали там же и даже тогда процветали. Они владели не одной, но тремя гостиницами, где останавливались пассажиры почтовых карет, и потому можно считать, что Гиршкины создали первую в истории сеть мотелей. То есть ее украинский вариант.
Члены семейного клана, будучи людьми практичными, всегда шли в ногу со временем. Когда исход большевистской революции был предрешен, семейство выгребло все свое золото, погрузило его в тачку (если верить бабушке, тачка наполнилась доверху) и вывалило груз в местную речушку, после чего решительно потопало домой доедать последнюю осетрину с икрой. Избежав таким образом обвинений в буржуазности, Гиршкины встали на пролетарскую ногу, и воплощением этой особой конечности – подобно тому, как на еврейской Пасхе баранья рулька символизирует силу длани Господней, – стала бабушка.
Она вступила в пионеры, потом в комсомол и, наконец, в саму партию. Сохранились фотографии с ней в этих ролях: глаза пылают, рот болезненно искривлен в ухмылке – ни дать ни взять героиновая наркоманка, закинувшаяся дозой. Иными словами, на этих фотографиях бабушка являла собой образец советского агитпропа, чему немало способствовала пышная крестьянская грудь и самые широкие плечи в округе, – плечи, навсегда оставшиеся развернутыми благодаря осанке, за которую бабушка получила приз в старших классах. Во всеоружии всех этих достоинств бабушка отправилась в Ленинград. Там она умудрилась поступить в печально прославившийся Институт педагогики, где наиболее надежных товарищей обучали науке идеологического воспитания первого поколения революционных малюток.
Окончив институт с отличием, Владимирова бабушка добилась громкого успеха в приюте для детей с психическими отклонениями. В то время как жеманные петербурженки чурались народных дисциплинарных методов воспитания, бабушка собственноручно выбивала дурь из сотен заблудших мальчиков и девочек, и уже через несколько дней детишки, стоя на коленях, распевали «Ленин – всегда живой». Распевали, когда не драили перила, не натирали полы воском и не прочесывали окрестности в поисках металлолома; бабушка убедила их, что металлолом будет переработан на танк, на котором они смогут прокатиться по городу. Не прошло и года, как этот деловой подход, выглядевший свежо на фоне орудующей розгами, размахивающей ремнем провинции, привел к столь поразительным результатам, что почти всех детей признали психически здоровыми. И верно, многие из них преуспели в разнообразных областях советской жизни, большинство – в армии и органах безопасности.
За приютские достижения бабушке дали дешевую оловянную медаль и целую среднюю школу во владение. Но самым полезным следствием ее успеха стала возможность перевезти Гиршкиных из унылого, индустриального Каменец-Подольска в просторный, обшитый вагонкой дом на окраине Ленинграда. Этот первый переезд избавил семью от столкновения с СС и их бравыми украинскими подручными, второй же бабушкин маневр – эвакуация семьи до того, как Ленинград был взят в блокаду, – спас Гиршкиных от голодной смерти и бомб Люфтваффе. Как бабушке удалось, потянув за нужные ниточки, усадить тридцать Гиршкиных в поезд, идущий на Урал, где ее четвероюродный брат, лишь отчасти еврей, мирно пас овец в тени завода по переработке руды, оставалось лишь гадать. Старуха хранила эту тайну, как НКВД свои архивы, но, впрочем, особой тайны и не было. Любой, кому под силу реформировать сиротский приют или, что еще замысловатее, десять лет тянуть мечтательного и забывчивого Владимирова отца, пока тот учился в мединституте (вместо обычных пяти), – такому человеку ничего не стоило пробиться сквозь запруженные железнодорожные артерии военной России.
Вот какова была женщина, думал Владимир, уберегшая его семью от лагеря Аушвиц 2-Биркенау. Если бы он хоть на йоту сомневался в агностицизме, сейчас было самое время пробормотать то, что осталось в памяти от поминального каддиша. Но Ивритская школа разрешила все загадки опустевших небес, потому Владимир лишь с улыбкой вспоминал свою неугомонную бабушку, какой он ее знал с детства.
Он глянул вниз, на рельсы, где Коэн, стоя на коленях, фотографировал облако, ничем не примечательное перистое облако, словно взятое с иллюстрации в учебнике по метеорологии и, однако, благодаря шальному польскому счастью сподобившееся бессмертия, проплыв над бывшим концлагерем именно в тот день, когда туда явился Коэн. Тем временем тургруппа добралась до железнодорожного полотна и направилась к ним прогулочным шагом, – вероятно, пруд с человеческим пеплом изрядно действовал на нервы и любящие комфорт туристы предпочли вернуться к баракам.
А возможно, Владимир был пристрастен.
Да, пора уезжать отсюда! Любая мысль неуместна, любой жест отдает ересью. Хватит! То ли дело его бабушка, ускользнувшая от газа и бомб, вложившая душу и тело в советский строй, который в итоге забрал не меньше жизней, чем тевтонское зло, выплеснувшееся за пределы Германии бронированными колоннами и меткими бомбежками. Урок, преподанный бабушкой, был предельно ясен Владимиру, и жаль, что соплеменники-евреи, интернированные в пруду с пеплом, его не усвоили. Сматывайся пока можешь и чего бы тебе это ни стоило. Беги, пока гои не добрались до тебя, а они доберутся, сколько бы ты кругов ни нарезал с Костей и сколько бы они ни клялись в любви, пока льется абсент.
Владимир обернулся на главную смотровую вышку: с той стороны прибывали составы с наполовину погибшим грузом из Бухареста и Будапешта, Амстердама и Роттердама, Варшавы и Кракова, Братиславы и… неужто?.. Правы. Его золотой Правы. Города, залечившего раны его самолюбия столь же мягко, как когда-то источники Карлсбада излечивали подагру. Сматывайся! Но как? И где оно, спасение? Он вспомнил бабушку, какой она стала через сорок лет после смерти Сталина, сгорбившуюся над седьмым томом американских «Правил социального страхования». С покрасневшими от бессонницы глазами, с лупой в руках она силилась уразуметь, что такое «остаточная функциональная способность».
Черт бы побрал этот двадцатый век! Он почти на исходе, а завещанные им проблемы только круче становятся, и Гиршкины опять в гуще веселья, в эпицентре шторма, в отстойнике всеобщего смятения и неуверенности. Черт бы его… Владимир услыхал за спиной жужжание выдвигающегося объектива, а затем щелчок затвора. Он обернулся. Туристы, очевидно немцы, были в нескольких шагах от него. Краснощекая женщина средних лет, высокая, стройная и ухоженная, как тополя вокруг Биркенау, суетливо засовывала фотоаппарат в переполненную сумку, стреляя глазами во все стороны, но только не в сторону Владимира. Она его сфотографировала!
Прочие немцы старались не смотреть на Владимира, отводя светло-голубые глаза, некоторые не без ехидства поглядывали на нахалку-фотографа. Поразительно, но многим из них на вид было за семьдесят – рослые, пышущие здоровьем, с не портившими их морщинами, в белых джемперах для неформального отдыха, – то есть вполне вероятно, что полвека назад они уже бывали в Биркенау, только в иной роли. Должен ли был Владимир расправить грудь, высоко поднять голову и, тряхнув темными семитскими кудрями, осведомиться с саркастической ухмылкой: «Улыбочку?»
Нет, оставим такие жесты израильтянам. Наш Владимир при приближении немцев был способен лишь застенчиво улыбаться, робко ссутулившись, точно так же его родители когда-то приближались к угрюмым чиновникам иммиграционной службы в аэропорту им. Кеннеди.
Гид туристов был красивым парнем, не намного старше Владимира, но выглядел определенно моложе. Волосы длинные и густые, а в очки, потерявшиеся на квадратном, пышущем здоровьем лице, похоже, были вставлены обычные стекла. Мускулистые грудь и живот слегка заплыли жирком, отчего он походил на деревенского здоровяка, обрюзгшего за полосу неурожайных лет. Да, именно такое впечатление он произвел на Владимира: пытливый провинциал, узнавший о либерализме и немецкой вине от дерганого учителя местной школы, бывшего хиппи в те времена, когда хиппи правили бал. А теперь парень сам вступил в прогрессивные ряды и возит захиревшее старшее поколение полюбоваться на то, что они натворили. Нарисовав сей законченный образ, Владимир не обрадовался и не огорчился.
Он встретился взглядом с гидом, тот улыбнулся и кивнул, будто старому знакомому.
– Привет, – произнес немец, и сколь коротким ни было слово, Владимир уловил дрожь в его голосе.
– Здравствуйте, – ответил Владимир и поднял руку в вежливом приветствии.
Он попытался напустить на себя сумрачность, но сообразил, что с ходу у него вряд ли получится, мешала неразбериха последних нескольких дней. Потому он продолжал приниженно улыбаться.
– Здравствуйте, – повторил гид за Владимиром и прошествовал мимо.
Его пожилые подопечные последовали за ним. Решив, что гиду удалось сломать лед, они оборачивались на Владимира и даже мимолетно, но сочувственно улыбались. И только женщина средних лет, та, что осмелилась щелкнуть Владимира, «живого еврея из Биркенау», прибавила шагу, глядя строго вперед.
«Спасибо, приходите еще», – едва не бросил ей вдогонку Владимир, но лишь вздохнул, глянул еще раз на гриву удалявшегося совестливого гида – превосходившего его по всем статьям, несмотря на гнилые ветви немецкого семейного древа, – и вновь подумал о том, что в который раз потерял свое место в мире, и о грозившей ему неминуемой гибели.
И куда теперь, Владимир Борисович?
В рассеянности побрел он к яме с человеческим прахом, где его ждали друзья – Коэн, ужасаясь как пеплу, так и туристам, и Морган – исключительно пеплу. Может, она уговорит Томаша и Альфу взорвать заодно и развалины Биркенау? Еще пара килограммов си-4, и тогда они точно разберутся с историей.
И тут зазвонил его мобильник.
– Ну-ну, – сказал Сурок.
– Не убивай меня, пожалуйста, – брякнул Владимир.
– Убить тебя? – засмеялся Сурок – Мою умную курочку, несущую золотые яйца? Да что ты, парень. Мы с самого начала знали, что ты за фрукт. Всякий, кто способен обмануть пол-Америки, может легко надуть моего отца.
– Я не хотел, – заныл Владимир. – Я люблю твоего отца. Я люблю…
– Ладно, заткнись уже, – попросил Сурок – Все прощено, только не плачь. Ты мне нужен в Праве. У нас тут нарисовалось новое любопытное дельце.
– Дельце, – пробормотал Владимир. Что было на уме у этого хитрющего Сурка? – Любопытное новое…
– Любопытное, потому что это не совсем дельце, а легальное предприятие, – объяснил Сурок. – Пивоваренный завод в Южной Столовии, с которым можно спокойно выйти хоть на западноевропейский, хоть на американский рынок.
– Легальное предприятие, – повторил Владимир, с трудом соображая. – Костя посоветовал?
– Нет, нет, сам придумал, – ответил Сурок.
– И никому об этом не говори, даже Косте. Особенно про то, что тут все по-честному. Не хочу, чтоб надо мной потешались.
И он пригласил Владимира осмотреть вместе с ним пивоваренный завод на следующей неделе.
– Без твоего профессионального мнения никакую сделку нельзя заключить, – добавил Сурок – Легальную или нет.
– Я никогда тебя больше не предам, – прошептал Владимир.
И вновь раздался смех Сурка, не привычное молодецкое ржание, но мягкий смешок После чего Сурок повесил трубку.