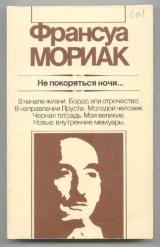
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц)
Лицемерие – единственный порок, который, кажется, более или менее чужд этим молодым людям, потому что они умеют без всякой задней мысли увлекаться противоположными мнениями и следовать противоречащим друг другу суждениям.
Зрелый, сложившийся лицемер приводит нас в ужас: это Тартюф. Но взгляните на Жюльена Сореля, изворотливостью не уступающего Тартюфу, – ведь мы любим его несмотря ни на что, и никакое его коварство не заставит нас разлюбить его. Дело в том, что герой Стендаля – подросток, противоречивость присуща его возрасту; и за все это – за ненависть к тирании и страсть к господству, за неистовство в любви и сознательную жестокость, за тягу к буйству и утонченную хитрость, – за всю эту мешанину чувств мы упрекаем юношу не больше, чем упрекаем реку за то, что в ней есть водовороты.
Не только воспитатели, но и критики попадают впросак, если молодой писатель, чье творчество они обсуждают, не рассматривается ими как некая «множественность». Например, стоит ли сомневаться, насколько глубоко уверовал Морис де Герен, когда согласился принять причастие перед смертью? Из того, что он не устоял перед Кибелой и конец его жизни был посвящен обожанию сотворенного им мира, не спешите заключить, что этот пантеист утратил надежду, свойственную христианину. В его словах нам слышится ропот смешанных и враждующих между собою чувств. «Молодость, – говорит он, – похожа на девственные леса под порывами ветра; щедрые дары жизни колеблются во все стороны, и в листве никогда не смолкает глухой ропот».
Юность страдает от этой внутренней разорванности. Разумеется, и зрелому человеку знаком такой разлад; но к середине жизни мы смиряемся с необходимостью подчиняться известным силам, а если и колеблемся, то даже наши колебания упорядочены; мы по очереди уступаем противоречивым желаниям; мы уже способны постигнуть законы, управляющие отливами и приливами в наших сердцах. А молодой человек хотел бы сделать выбор, принять решение, ни в чем не поступаясь своей безмерной требовательностью; потому-то любовь и даже дружба оборачиваются для него одиночеством: дело в том, что самая чуткая возлюбленная, самый проницательный друг скользят лишь по поверхности его облика. Он не смиряется с неизбежностью, обрекающей нас делать окончательный выбор и отказываться при этом от всего остального, заставляющей женщину или друга конструировать нас только из некоторых элементов, не зная и отвергая при этом все остальное.
Мы удивляемся, как это мистики с самого отрочества отдавались любви к богу; на самом деле удивляться тут нечему: нашу юную требовательность может удовлетворить только бесконечно могущественное существо – ему ведомы истоки самых тайных наших мыслей, и все закоулки сердца, и та кровоточащая рана, о которой никто не знает и на которую мы сами не осмеливаемся взглянуть.
Бывает, что современные молодые люди, отнюдь не страдая от внутреннего разлада, мучающего «сыновей века», отдаются без сопротивления водовороту собственных противоречий. Отчаявшись нащупать твердую почву, они уговаривают себя, что множественность – это и есть свойство их натуры. Их единственный закон – повиноваться своим побуждениям и не препятствовать им ни в чем. Они полагают, что даже мораль, и уж тем более логика, деформирует их личность. Можно подумать, что подсознание для них – это божество, в руки которого они предаются, словно бездыханные тела; они ищут ответа на вопросы у собственных сновидений и грез, словно видя в них оракулов этого тайного божества. Они простодушно чванятся тем, что истово следуют противоречивым велениям божества; они – бродячий хаос и сами себя воспринимают как хаос.
Но с какой стати, возразит читатель, придавать значение чудачествам нескольких сумасбродов? Дело в том, что эти сумасброды – писатели и художники; не думайте, что они сами изобрели этот очевидный парадокс, превратившийся у них в целое учение. Этот поток питается множеством могучих источников, имя которым Рембо, Достоевский, Фрейд, Жид, Пруст. Бесспорно, это литература для немногих; но не верьте, что герметичное искусство не оказывает влияния на публику. Следы его проникновения попадаются нам в самых далеких от литературы кругах. Множество нынешних молодых людей, вполне равнодушных к книгам, все же исповедуют убеждение, что основной наш долг – не препятствовать развитию инстинктов. Свою неорганизованность они оправдывают тем, что обязаны быть искренними и не подавлять в себе ничего – даже самого худшего.
Как опасна любовь этих юношей, для которых вожделение, влюбленность, ненависть, безразличие не более чем разные этикетки для обозначения приливов и отливов одной и той же переполняющей их мутной воды. Они изгнали абсолют из страны Нежности, начертанной нашими отцами, которые были искушены в науке любви *. То, что когда-то называлось любовью, по мнению нынешних юнцов, находится дальше от действительности, чем сады Версаля от дикой природы. Молодые женщины твердо знают, что теперь уже не следует полагаться на эту старинную игру с очаровательными правилами: измена перестала быть изменой; верность оказывается словом, лишенным смысла, потому что в любви не осталось ничего постоянного. Поразмыслите хотя бы над названием одной из глав у Пруста: «Перебои сердца».
Слепы те, кто не видит, что отмена вековых законов, правивших любовью, распространяется далеко за пределы кружка эстетов.
То, что еще не так давно называлось любовью, было сложным, изощренным чувством; его творили поколения утонченных людей; оно было соткано из жертвенности, самоотречения, угрызений совести и героизма. Его подкрепляли и религия, и христианская мораль. Чтобы собрать эти прекрасные воды, полные небесной синевы, в дело шли плотины католических добродетелей. Любовь была рождена стойкостью добродетельных и искушаемых женщин вроде расиновских принцесс, приносимых в жертву по велению богов или во имя блага государства *.
Любовь не может выстоять, когда размываются подпиравшие ее плотины.
Под натиском армии молодых людей, бунтующих против правил любовной игры, женщины теряют голову, и, словно по обычаям династии Меровингов, остриженные волосы становятся у них символом отречения от власти. Даже дамы из хорошего общества, стриженые, в не прикрывающих колени платьях, надетых прямо на голое тело, выглядят иногда точь-в-точь как те небьющиеся размалеванные куклы, что поджидают в порту матросов, возвращающихся из плавания. А эти юноши, которые уцелели в четырехлетней буре, – ну чем не матросы, вернувшиеся из страны смерти? Надышавшись ее воздухом, они принесли с собой на родину неутолимую жажду, а в придачу еще и жестокость, и дикарскую нечувствительность к гримасам страсти.
Тот, кто на своей шкуре познал значение слов «рана», «страдание», «пытка», «язва», не спешит обогащать ими лексикон любви.
Когда у тебя на глазах, рядом с тобой, истекали кровью, агонизировали, умирали твои юные собратья, да и сам ты сотни раз мог погибнуть, испытываешь отвращение, слыша: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза» 1. Люди, которые не перестают курить и смеяться среди трупов своих братьев, не могут согласиться с тем, что «всю жизнь любовное мученье длится» *.
1Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве. М., «Искусство», 1964, с. 25. ( Пер. Н. Любимова.)
XIV
Не надейтесь, что ваши сыновья доверятся вам по собственному почину. И Адам, согрешив, скрывался от ока Иеговы; провинившийся сын первым делом думает, как бы спрятаться от отца. Родители бывают единственными, кто не видит болезни, гложущей их. сына, между тем как целый свет с любопытством подмечает ее разрушительные симптомы.
Между отцами и детьми высится стена робости, стыда, непонимания, уязвленной нежности. Чтобы эта стена не выросла, требуются усилия, на которые еле хватает человеческой жизни. Но дети родятся у нас в ту пору, когда мы еще, переполнены собой, сжигаемы честолюбием и от детей просим не столько доверия, сколько покоя.
Отцов отделяют от детей их собственные страсти.
Если ты помнишь о своих грехах, в чем ты смеешь упрекать своего сына?
Наш удел – не принимать всерьез страсти, владеющие нашими сыновьями, страсти, которые в свое время мы не сумели победить в самих себе. Сколько отцов помнят, как они возмущались отцовской тиранией! Они равнодушно сносят сыновнюю беспорядочность, и это значит, что в глубине души они отрекаются от власти, считают себя не вправе судить и выносить приговор. Эта юная плоть от их плоти получила в наследство бремя склонностей и навязчивых идей, и этим бременем придавили ее сами родители.
Многим отцам знакомо смутное сознание того, что нельзя лишать молодежь удовольствия, по которому тоскуешь сам. Те, кто в отрочестве держался строгих правил, нередко опасаются навязывать сыновьям самоотверженность, о которой сами жалеют, достигнув зрелых лет: быть может, это и есть тягчайшее искушение зрелости – жалеть о том, что мог согрешить, но не согрешил? Опаснее всего, если в наставники подросткам попадет человек целомудренный, но усомнившийся в ценности целомудрия; менее пагубно было бы для них общение с развратником, который пресытился развратом.
В старости, когда отрешившись от всего остального, мы вглядываемся в наших детей, нам открывается, что «это – единственная мечта, которая не развеялась...», и мы бы не прочь наконец добиться аудиенции у этих обожаемых чужестранцев, которых сами произвели на свет и которые у нас на глазах плутают в тех же джунглях, где когда-то заблудились и мы. Но нам ничего не известно о сыне, который доверяется первому попавшемуся приятелю.
Слишком часто родители, не располагая доверием сына, воображают, будто делают для него все возможное, когда окружают юнца, достигшего «опасного возраста», всевозможными преградами и формальными запретами. Но жесткие правила и надзор за детьми, принятые в почтенных семьях, оправдываются только на прирожденных тихонях, которым и так не грозит никакая лихорадка. Остальные быстро вырываются на волю. Юная страсть разрывает цепи, проходит сквозь стены, усыпляет стражу. Чем крепче связывают этих хитрых ангелов, тем больше у них прибывает силы.
Юной душе нечего надеяться на помощь извне. Спасение заключено в ней самой.
Среди заметок, сделанных мною на двадцатом году жизни, мне попались слова Барреса, подчеркнутые красным: «...хотелось властвовать над жизнью – до дрожи, так, что сами собой сжимались кулаки...» Если тебе нужно спасти молодого человека – улови в нем эту дрожь. Открой ему, что властвовать над жизнью невозможно, пока не научишься властвовать над самим собой; ведь властью обладает только тот, кто существует, а мы не существуем: мы сами себя создаем. Многие отказываются от любого вмешательства в их жизнь, оберегая свое «я» от искажения; им хотелось бы остаться собственными свидетелями, все понимать, но при этом бездействовать: эти юноши знают о себе еще меньше, чем знают о них окружающие. Как же им найти себя, если их попросту нет? Откроем молодому человеку, что он появился на свет в виде хаоса, и наша жизнь – это игра, заключающаяся в том, чтобы родиться из этого хаоса вторично.
Что может быть увлекательней этой игры? Выбираешь между соединившимися в тебе потоками наследственности; приучаешься ясно видеть, в чем твои изъяны, в чем дарования.
Когда юное отчаявшееся существо признается нам в тайных склонностях, обуревающих его, в каком-нибудь пороке, который разрастается в нем и душит его, как чудовищный нарост,– откроем ему, что подобное бремя есть прекраснейшая, достойнейшая часть великого труда. Речь идет о том, чтобы из материала, предложенного нам судьбой, выстроить свою жизнь. Так пускай эта пагубная склонность, способная тебя убить, сослужит тебе службу, пробудит в тебе все жизненные силы – это и будет верхом искусства.
Когда мы наконец заговорим обо всем без ханжества (а этот день недалек), нам удастся показать, что у истоков прекраснейших жизней, прожитых апостолами и художниками, стояли обузданные пороки. Сдерживаемые страсти питают великую литературу, а также деяния завоевателей и святых.
Откроем подросткам, ищущим нашей помощи, что в природе нет чудовищ, а вернее, все мы чудовища в той степени, в какой отказываемся работать над собой. Наша жизнь ценна постольку, поскольку она стоила нам усилий: поэтому не надо удивляться, что на первых ролях почти не видать послушных мальчиков, которых хвалили в коллеже, – этим добрым душам не приходилось себя пересиливать. Решительно все, что в нас есть, даже самое худшее (особенно самое худшее), должно превращаться в наше богатство.
Нам всем предстоит одна-единственная задача: наше спасение (в мирском смысле этого слова). Мы должны спастись или погибнуть.
Взгляни на тех из твоих приятелей, кто решил не вмешиваться: они разрушаются, они присутствуют при собственном распаде и при распаде своих друзей.
Все самое мерзкое из нашего наследства должно пригодиться нам при создании шедевра, которого ждет от нас бог. Но это мерзкое не слишком-то нас слушается, не желает укладываться в наши расчеты. Живущие внутри нас дикие звери защищаются. Оглянись вокруг, задумайся над судьбой своего товарища или учителя. Укротитель обихаживает своих хищников, льстит им, но рано или поздно они его съедят: «Зло не сдается».
Загляни в подозрительную комнатенку, убежище, где умирает от любви великий человек. Войди в дом, где отдыхают поэты, романисты, политические деятели – они брызжут слюной, они звонят во все колокола. Все они поверили, что можно приручить зверя, отвести ему в самой упорядоченной жизни отдельный уголок и потихоньку носить ему туда еду; но он пожирает их самих – то лучшее, что в них есть,
Против любой другой опасности юноша бывает вооружен, едва вступая в жизнь; если он родился с добрыми задатками, его охраняет чувство чести; в ином случае выручает хорошее воспитание. Добрые задатки оберегают юношу от тысячи опасностей – но они бессильны против зла, проистекающего от нравственной порчи. На этой почве зарождающаяся страсть находит одних сообщников.
И только религия понимает всю значительность пустяков,то есть понимает трагедию плоти. На первый взгляд это поразительно, но «если в христианстве и есть свои странности, то, в конце концов, эти же странности есть и в реальной жизни» (Честертон). У кого повернется язык утверждать, что в любовных страданиях бывает виновата религия, а не то, мол, любовь состояла бы из сплошных удовольствий? Без всякого вмешательства свыше похоть сумела воспламенить весь мир. Откройте молодому человеку, что поддаваться ей еще не значит быть судьей учения, которое признает за грехом сластолюбия столь ужасную силу... Но здесь не место рассуждать о том, какой способ исправления нравственности наиболее надежен. К власти над собой каждый ищет собственный путь.
Молодой человек уговаривает себя, что, когда наступит время, он с легкостью приведет себя к повиновению. Но именно в молодости ты создаешь того зрелого мужчину, того старика, которым ты станешь. Самый тайный твой поступок, едва ты его совершил, меняет тебя на вечные времена; ты трудишься над своим вечным образом; после ты его уже не отретушируешь. Говоришь, бывают обращенные? Бесспорно. Но не слишком-то уповай на обращение. Убить себя прежнего дано не каждому. Обратиться – это значит умереть и родиться снова: не верь самомнению, нашептывающему тебе, что это чудо зависит от тебя одного... Впрочем, не будем сбиваться на трактат о благодати.
Страдать из-за того, что годы идут, обожествлять в других молодость, покидающую нас, – это, быть может, самый грозный симптом: «Удаляться от молодости надо решительными шагами, понимая, что все к лучшему. Быть совершенством в двадцать лет – дело нехитрое! Трудней усваивать то хорошее, что преподает нам жизнь, и становиться все богаче по мере того, как она вырывает у нас из рук свои первоначальные дары». Я часто вспоминал эти слова, с которыми обратился ко мне Баррес в 1910 году *. «...Понимая, что все к лучшему...» Понимаем ли мы, что так оно и есть? А если поймем наконец, то в чем же оно состоит, это лучшее? Главным образом в трезвости взгляда: яснее видишь самого себя, принимаешь себя таким, как есть, находишь силу и смелость смотреть на себя без отвращения. Приходит время узнать положенные тебе пределы и держаться в них. Перед нами всего одна дорога, могущая куда-то привести. Ну так что ж, мы согласны покатиться по ней.
Но зрелый человек, как нельзя лучше преуспевший в жизни – достиг ли он впрямь равновесия или так ловко замаскировался, что нашим взглядам уже не добраться до сути – представляется нам прежде всего специалистом, который не может нас научить ничему, кроме своей специальности. Даже тех, кого снедало отвращение к выбору, кто мечтал остаться «нерастраченным», отзываться на каждое побуждение, – даже их очень быстро вводит в берега их собственная плоть. Порок беспощадно упрощает их.
Следует ли изучать человека присмиревшим, дремлющим под слоем пепла – или по примеру Плиния Старшего, наблюдавшего Везувий *, приближаться к нему, пока он молод, пышет огнем и извергает лаву? Те из нас, чье ремесло – изучение человеческого сердца, отдают предпочтение молодости. Возможно, все это наши иллюзии, но нам кажется, что в начале жизни человек слабее защищен и в этом бурлящем источнике можно подглядеть тысячи тайн. Это очевидное заблуждение: множество юных честолюбцев следят за собой тщательнее, чем будут следить потом, когда почувствуют, что к ним пришел успех. Знаменитые старцы, из чьих уст ловят каждое слово, оброненное за обедом или перед отходом ко сну, старцы, которым нечего терять и нечего желать, не более циничны, чем недоверчивые, осмотрительные, искушенные в стратегии подростки, вступившие на стезю дипломатии, литературы или светской жизни. Добавьте свойственное большинству юнцов безудержное честолюбие, соединенное с огульным презрением к старикам, которых они бесстыдно водят за нос. Наконец, даже лучшие из них не всегда избавлены от хитрости и кокетства: они, точь-в-точь как женщины, жаждут нравиться во что бы то ни стало.
Но даже если нам удастся проникнуть в жизнь подростка, если мы, припомнив, какими были в этом возрасте, сумеем – скажем, в романе – воссоздать одно из этих юных сердец, то все равно у нас получится нечто незаконченное, еще бесформенное; сложившийся мужчина дает романисту типажи, закореневшие в ремесле, в пороке, в причудах; подросток открывает перед нами смутный мир, он представляется нам не единым существом, а множеством отдельных жизней. Одни утверждают: ничего нельзя узнать о человеке в годы, когда он еще не более чем заготовка и в нем бушуют страсти; они ждут появления человека, ждут, пока он сам себя выстроит, установит для себя законы, и тогда уже проявляют к нему интерес. Но другие возражают, что только в молодости мы и бываем сами собой – пока еще ничем не стеснены, бесхитростны, необузданны, – тогда-то, мол, и следует подглядеть тайну человеческой личности в процессе становления.
И впрямь, есть в молодежи какая-то непреодолимая привлекательность, какое-то печальное очарование. Мы любуемся каждым поколением, вступающим на арену, как быком, про которого точно знаем, что его сейчас убьют. Мы притворяемся, что исход борьбы нам неизвестен. Мы уговариваем себя, что эти новые пришельцы обладают неким секретом, несут нам некую весть, мы одолеваем их расспросами; мы принимаем всерьез все вплоть до невразумительного лепета. Мы узнаем в них себя. Они говорят, что сами себя не постигают, что они одиноки, что рады бы любить, да не умеют: они подхватывают извечную жалобу на одиночество. Они плачут перед нами, разучившимися плакать, или, наоборот, зубоскалят, выказывают нам презрение: делают своим ремеслом ненависть к интеллигенции, пренебрежение к таланту, а культуру и вообще ни в грош не ставят. Их привлекает только мечта, они бы рады всю жизнь прожить лунатиками. Мы с изумлением следим, как усердно эта странная молодежь избегает сознательной жизни, нас пугает их приверженность к галлюцинациям и самоубийствам. Но эти печальные дети не истребят себя. Они нас догонят и пойдут вместе с нами сквозь сумерки, их ряды смешаются с нашими, и, как-то сразу постарев, они вместе с нами будут зорко следить за новым юным быком, вступающим на арену.
Молодые люди – самая полезная порода на земле! Они поставляют солдат в казармы, студентов, приверженцев, учеников в университеты, журналы и цеха. Они примыкают к самым крайним партиям, не сулящим им ничего, кроме пинков и тычков. Они жертвуют собой ни за грош. В военное время их священная привилегия – смерть, а старики охотно притворяются, будто завидуют им: «Завидую тому, кто пал за край родной!» 1– распевал старый Гюго. Но привилегию на смерть невозможно отнять у юношества – ведь миру нечем, кроме его крови, расплачиваться за ошибки мудрецов.
1В. Гюго. Собр. соч. в 15-ти т., т. 13. М., ГИХЛ, 1956, с. 62. ( Пер. А. Гатова.)
В мирное время политические деятели побаиваются этих равнодушных, отрешенных созданий, для которых ни красная, ни фиолетовая ленточка * не служит ориентиром в жизни, этих юнцов, от которых им не дождаться никакой добычи. Молодые люди еще сохранили то, что утрачено в наши дни большинством мужчин: умение презирать; они способны на негодование и ненависть, они с жаром отдаются делу, которое считают правым.
Благодаря им одним на земле сохранится вера. Становясь старше, человек постепенно избавляется от идей, которые вредят его преуспеянию; но на каждый отвергнутый идеал находится юное сердце, готовое подхватить его, – и сын с великой любовью сотрет плевок с того лика, что был оскорблен отцом. Все евангелия жизни и евангелия смерти распространяют свет по земле лишь потому, что есть молодые люди, посвятившие себя их проповеди.
Когда мы стареем, нам так трудно хранить верность юношам, какими мы были! Какой тяжкой ношей кажется нашим плечам и рукам та самая истина, которую взваливала на себя с радостными кликами наша пылкая юность! Так спросим же у молодых, в чем секрет их отваги! Мы не сумеем обойтись без них, а они думают, что не обойдутся без нас. Чтобы их привлечь, нужно так немного! Марсель Арлан * писал, что отрочество – это пора, когда принцип так же необходим, как подружка. Он добавляет: «На всех ярмарках мира искали мы мировоззрений и доктрин; порой хватало угрожающего взгляда, нежной улыбки, движения тела или души – и наши сердца уже трепетали».
Но давайте пойдем к ним, только если в запасе у нас есть хлеб, чтобы им раздать. Человек, обладающий авторитетом, подвергается сильнейшему искушению перевалить на плечи молодых, которые ему внимают, то бремя, которое гнетет его самого. Ему кажется, что если бы юным сердцам его падение представлялось не преступным, а привлекательным, то он не чувствовал бы, как низко пал: он уговаривает себя, что примкнувшая к нему молодежь служит ему оправданием и отпущением грехов. Но эти простодушные свидетели не оправдают нас, если мы их проведем; стая голодных детей не приглядывается к пище, которую ей швыряют; и если руки у нас пусты или полны отравы, то лучше уж держаться от детей подальше.
Как бы то ни было, все эти лица, все эти тянущиеся руки помогают нам осознать нашу собственную нищету. Чтобы разбудить в нас жажду самоусовершенствования, довольно даже такой малости, как взгляд молодого человека, который пришел к нам за жизненно важным словом, а уходит печальнее, чем был прежде, и, быть может; еще более сломленный, еще более снедаемый жаждой и голодом.








