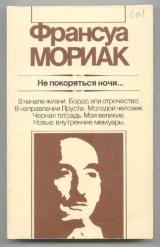
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Паскаль хотел видеть в болезни «естественное состояние христианина»; молодой Флобер обретет в ней повод для отказа от чувственных радостей, для ограничения потребностей сердца; ему понадобится сила, чтобы посвятить себя целиком искусству, ревнивому идолу, которому он поклонялся, еще когда лицеистом бродил по руанским набережным.
Уже в двадцать два Флобер будет говорить о своей молодости как о покойнице. Еще несколько лет, пока были живы его сестра Каролина и друг Альфред Ле Пуатвен, молодость как будто теплилась в нем. Но они унесут с собой в могилу то, что оставалось от нее. Каролина умерла 20 марта 1846 года. Навсегда умолк звонкий голос и смех «сорванца». «Вчера в одиннадцать часов мы похоронили бедную девочку. На нее надели ее подвенечное платье с букетами роз, иммортелей и фиалок. Я охранял ее всю ночь» 2.
В том же году течение его жизни потревожила последняя любовь. Однако чувство Флобера к Луизе Коле нисколько не напоминало юношескую страсть, заставлявшую его некогда грезить у ног г-жи Шлезенжер *; все время, пока будет тянуться эта связь, он будет вести себя как больной, берегущий силы, будет следить за собою, осторожничать, но главное – станет фанатическим почитателем фразы, для которого слово дороже поцелуя. Бедняжка Луиза Коле: ее, можно сказать, сбросили со счетов, едва в игру вошла Бовари! Что ж, искусство требует жертв. Покинутая, она, надо думать, перечитывала первые письма молодого провинциала, единственные, где сердце бьется еще по-настоящему пылко: «Ночь сейчас горяча и мягка. Я слышу, как дрожит от ветра магнолия под моим окном...» 3Или письмо от 9 августа 1846 года: «...Мне слышно, как поют
1Г. Флобер. Собр. соч., т. 7. М.—Л., Гослитиздат, 1933, с. 302. ( Пер. Т. Ириновой.)
2Там же, с. 96. ( Пер. М. Ромм.)
3Там же, с. 101—102. ( Пер. М. Ромм.)
моряки, подымающие якорь, чтобы отплыть с наступающим приливом. Ни облаков, ни ветра. Река белая под луной, в тени черная. Бабочки вьются вокруг моих свечей. И запахи ночи доносятся до меня через раскрытые окна. А ты, – ты спишь?» 1Однако уже через несколько строчек он предостерегает: «Ты полагала, что я молод, а я стар».
Флобер даже сам не представлял, насколько он прав: только что от него отдалился человек, унесший с собой все, что еще оставалось от молодости, – Альфред Ле Пуатвен женился. Гюстав твердит Луизе Коле: «О, лучше люби искусство, чем меня! Обожай Идею...» 2Но в дружбе он и не помышлял отграничивать искусство или идею от взаимной приязни. Преимущество дружбы в том и состоит, что она укрепляется совместным чтением, совместными духовными исканиями, даже скукой вдвоем. Искусство, объединявшее друзей, разделило влюбленных. Должно быть, красивое лицо Луизы Коле омрачилось, когда она читала такое вот признание: «Самыми большими событиями в моей жизни были несколько мыслей, чтение, несколько солнечных закатов на берегу моря в Трувиле и пяти-шестичасовые разговоры с другом, который теперь женат и потерян для меня» 3. Он был потерян, но еще жив. Альфред Ле Пуатвен умер в ночь с 3 на 4 апреля 1848 года. 7 апреля Флобер послал описание его агонии, смерти и похорон Максиму Дю Кану *. Эта страничка многого стоит! Во всем наследии Флобера вряд ли найдется еще одна, столь же великолепная.
Молодость Ле Пуатвена задушить было куда труднее, чем флоберовскую: ее хотя бы отчасти защищала природа, которой он, пантеист, поклонялся. В один из последних дней, глядя, как в открытое окошко льется солнечный свет, он восклицает: «Закройте, слишком красиво, слишком красиво!» 4Закрылось окно и для Флобера.
1Там же, с. 108—109. ( Пер. М. Ромм.)
2Там же, с. 120. ( Пер. М. Ромм.)
3Там же, с. 122. ( Пер. М. Ромм.)
4Там же, с. 139. ( Пер. М. Ромм.)
Правда, прежде чем окончательно стать затворником, он сделал последнюю и блистательную вылазку: совершил путешествие на Восток. Однако все там наводило на него скуку; словно старик, он весь в прошлом. Не то чтобы он очерствел – в этом разубеждают нас его письма к матери. До чего же трогателен у высокорослого молодого человека тон ласкового ребенка, когда он обращается к ней «моя бедняжка», «милая старушка», «милая моя бедняжка»! В этой обширной корреспонденции потрясает затаенный поток нежности, детской беззащитности. К тем же выражениям он вернется и в старости, забыв, что уже писал их сорока годами раньше; но ведь человеческое сердце мало меняется, в нем нет переменчивых течений, а есть лишь вихри и водовороты перед скрытыми преградами. Прочитав исполненные нежности слова, обращенные к матери в октябре 1849 года накануне отъезда в Египет: «Милая моя бедная старушка, сейчас ты, наверно, спишь. Как ты, должно быть, плакала сегодня вечером, и я плакал тоже... О, как я расцелую тебя, моя бедняжка, когда вернусь!» – стоит обратиться к письму, которое Флобер почти через три десятка лет, в 1876 году, написал племяннице (его мать давно уже умерла): «Куда делись, куда ты задевала шаль и садовую шляпку бедной мамы? Я люблю иногда прикоснуться к ним, бросить взгляд...» И в следующем письме: «Я перепутал. Я искал вовсе не шаль, а старый зеленый веер, который был у мамы, когда мы путешествовали по Италии...» Таковы были грустные тайные радости этого грубого, бесчувственного чудовища, которым так возмущался Гонкур.
Во время этой последней поездки, последнего побега на Восток, предшествовавшего пожизненному затворничеству в святилище идола, путешественник не столько наслаждается молодостью, сколько вспоминает отошедшее отрочество. Когда он на рассвете уходит из дома куртизанки Рушук-Ханем; перед ним стоят не картины только что изведанных наслаждений, а воспоминания об утре после бала у маркиза де Поммерё: «Я совсем не ложился и совершил одинокую утреннюю прогулку на лодке по пруду, в костюме школьника. Лебеди следили за мной, листья кустарников падали на воду. Несколько дней оставалось до отъезда, мне минуло пятнадцать лет» 1.
1Там же, с. 165. ( Пер. Б. Грифцова.) .
После того рассвета пришла заря, потом настало утро, и вот наступило время заточить себя до конца жизни, чтобы выбирать слова, пробовать их на слух, охотиться на созвучия. И тут мы имеем дело не просто со склонностью, а со всепожирающим даром. Даже если бы он не заболел, эта великая страсть так или иначе заставила бы его отринуть все, препятствующее безумной жажде писать: женщин, семью, дела. Отождествив себя со своим трудом, Флобер отверг разом и людей и бога. Все это приобрело настолько чудовищный характер, что Флобер сам назвал себя «человек-перо»: он жил ради пера, благодаря перу, только им одним. Это выражение 1852 года, но и в конце жизни Флобер писал примерно то же самое. В этом смысле он, покорный неизменному уставу, с юных лет до старости оставался невероятно самодовлеющим.
Отныне в его жизни ничто не изменится. Вот он в Круассе, запершись у себя в кабинете, склонился над круглым одноногим столиком, обтянутым зеленым сукном, а за окнами сырой ветер треплет высокую магнолию. В каждом слове смысл целого письма, каждая фраза – провал или триумф. Он не скрывает чисто мистический характер своей концепции искусства: «Жизнь я веду суровую, лишенную всякой внешней радости, и единственной поддержкой мне служит постоянное внутреннее бушевание, которое никогда не прекращается, но временами стенает от бессилия. Я люблю свою работу неистовой и извращенной любовью, как аскет власяницу, царапающую ему тело. По временам, когда я чувствую себя опустошенным, когда выражение не дается мне, когда, исписав длинный ряд страниц, убеждаюсь, что не создал ни единой фразы, я бросаюсь на диван и лежу отупелый, увязая в душевной тоске» 1. Крайне важный текст: он раскрывает величие и ничтожность Флобера. Но прежде чем критиковать, писатель наших дней должен совершить акт покаяния: поспешная и топорная работа, реклама, издательская кабала, спекуляция на коллекционных тиражах, все, что ныне является позором литературной жизни, обязывает нас говорить о Флобере, даже если мы его не любим, только с пиететом и почтительностью. Исключительное требует исключительного подхода, и к обожествлению искусства должно относиться снисходительней, нежели к его эксплуатации.
И тем не менее вина Флобера велика. Искусство подменяет бога и в силу этого вступает на путь, который куда опаснее, чем путь, где его ждет осмеяние и презрение. Недаром же, описывая свою жизнь, отданную литературному труду, Флобер прибегает к мистическому языку. Он вполне сознательно захватывает место предвечного существа, разумеется не для себя, но для своего продолжения, своих произведений, для «Госпожи Бовари» и «Саламбо», своего восторга и своей муки. Ему ведом мучительный подвиг святого, но еще лучше – наслаждение, имитирующее блаженство христианина. Флобер тоже проливал, подобно Паскалю, радостные слезы: «...мне пришлось встать и пойти за носовым платком – у меня по лицу текли слезы. Я сам умилялся над тем, что писал; я испытывал сладостное волнение и от своей идеи, и от фразы, передавшей эту идею, и от удовлетворения, что нашел самую фразу» 2. Флобер здесь вынуждает нас вспомнить радости, о которых святая Тереса * писала, что «они заставляют струиться мучительные слезы, словно их породила некая страсть...» И чтобы не оставить никакого сомнения относительно произведенного им полного ниспровержения ценностей, далее Флобер пишет о бесслезных эмоциях, среди которых «встречаются и самые возвышенные», и утверждает, будто духовной красотой они превосходят добродетель. Доходит до того, что он имитирует предельные состояния мистиков; как святые доводили безумие самоотрешенности до такой степени, что даже не молились небесам, так и он обретает «то возвышенное состояние души, при котором слава – ничто и самое счастье – ненужно» 3. Годами мучаясь над книгой, он вдруг обнаруживает, что утратил к ней интерес, и рукопись тут же отправляется к издателю. Его божество требует безучастности к любым чувственным наслаждениям, требует абсолютной отрешенности. Вся судьба Флобера укладывается в такую вот имитацию мистического подвига.
1Там же, с. 240. ( Пер. Т. Ириновой.)
2Там же, с. 240. ( Пер. Т. Ириновой.)
3Там же, с. 241. ( Пер. Т. Ириновой.)
Разве не подчиняет он эстетике метафизику, мораль, науку? В своем унылом кабинете в Круассе Флобер растрачивает дни на чтение тысяч томов. Он глотает книги по философии, религии, истории, механике, прикладным наукам, но не затем, чтобы что-то узнать, постичь крупицу истины в той или иной области, а чтобы превратить этот бесконечный набор сведений в кошмары и ложные идеи, которыми он начинит мозги святого Антония, Бувара и Пекюше! Ему даже в голову не приходит проверить, не блеснет ли среди трофеев, добытых при чтении, среди этого нестоящего хлама, бесценная жемчужина. Усилия многих веков сводятся им к неимоверным карикатурам. Ни одна идея, ни одно открытие не являются ценностью в себе. А нелепое сваливание в кучу всего человеческого опыта ради создания парочки кривляющихся субъектов порой просто бесит!
Конечно, за Буваром и Пекюше мы не должны забывать Шарля и Эмму Бовари, г-жу Арну, «Простое сердце». Флобер, слава богу, только к концу жизни достиг вершины абсурда. К счастью, первейшее требование его идола, искусства, – наблюдать жизнь; единственная заповедь художника – изображать реальность, то, что он считает реальностью, и тайна великих произведений Флобера в покорности этой заповеди. Но осуществляет он ее лишь отчасти: из-за своего духовного изъяна Флобер видит лишь внешнюю сторону людей. Для него существует только совокупность притязаний, привычек, пунктиков, то есть то, что прежде всего поражает в поведении человека и что весьма успешно использовал Лабрюйер, которым Флобер восхищался и которого по-настоящему любил, что указывает романисту путь, но не ведет по нему, оставаясь на периферии человеческого, притягивавшей и в то же время пугавшей Флобера, и страх этот ослепляет его и не дает двигаться вперед.
Жупел Флобера, буржуа, отравивший ему жизнь, все время торчит у него перед глазами, застит весь мир. Флобер не верит, что его смешные герои таят в себе некую бессмертную сущность. Иногда она проглядывает у Эммы Бовари и г-жи Арну, но это происходит вопреки его намерениям. Он считает, что изображает жизнь, и отсекает от нее все, что не раздражает ему нервы. В жизни он видит только то, что разжигает и питает его ненависть, и наконец от избытка отвращения поворачивается спиной к этому чудовищному миру, найдя убежище в воспоминаниях о народах, исчезнувших с лица земли, и в возрождении памяти о них. «Немногие поймут, – пишет Флобер, – в какое надо было впасть уныние, чтобы приняться за воскрешение Карфагена. Это моя Фиваида *, куда меня погнало отвращение к нынешней жизни...» Кажется, он порой и сам верит, будто в древних нет ничего, что он так ненавидит в современных людях. Автор «Саламбо», к вящему своему удовольствию, создает вселенную, где нет буржуа, а в это же примерно время Ренан из разных обломков выстраивает профессорскую Древнюю Грецию, мудрую, гармоничную и благоразумную. Кропотливые историки, они накапливают документы, но, в сущности, творят мифы по собственной мерке, утоляют свои рассудочные страсти.
Однако Флобер родился человеком ясного ума, и эллинский мираж недолго морочил его: «Античная меланхолия кажется мне гораздо более глубокой, чем современная... Ни воплей, ни судорог, одна только застывшая задумчивость на лицах. Богов уже нет, Христа еще нет; единственный момент между Цицероном и Марком Аврелием, когда человек был в одиночестве». Разочаровавшись в древних, Флобер постоянно возвращался к своим буржуа, потому что совесть художника не давала ему покоя, и вновь покорно принимался наблюдать жизнь.
Оторваться от изучения новейшего г-на Прюдома * Флобер уже не мог и потому решил взглянуть зверю в глаза, схватить быка за рога – сделать темой книги безмерную глупость буржуа; он, автор, воплотится в него и создаст шедевр. Флобер сам, собственными руками сотворяет свой кошмар. Буржуа в облике Бувара и Пекюше сидит за его столом, спит в его постели, заполоняет собой его дни и ночи и в конце концов хватает за горло. Буржуа расправился с Флобером, убил его, в буквальном смысле слова. Алхимик из Круассе пал жертвой опытов, которые производил над человеком: он удалял из души человеческую составляющую, чтобы выделить глупость в чистом виде, и она задушила его. Бедный Флобер однажды сказал: «Госпожа Бовари – это я». Понимал ли он, что Бувар и Пекюше похожи на него, как братья-близнецы? Конечно, понимал! Он сам признается: «Не начало ли это поглупения? Бувар и Пекюше до такой степени заполоняют меня, что я превратился в них! Их глупость стала моей, и я подыхаю от нее». Он ведь тоже верил печатному слову, учебникам, полагался на тех, кто обладает знаниями. А как он, утверждавший, что испытывает страх перед своим временем, подчинялся велениям «князей науки»! Флобер, как никто другой, зависел от интеллектуальной моды эпохи. Словно прилежный ученик, он затверживал уроки Мишле * и Ренана. Он высоко мнил о себе, но ему недоставало критического духа. Поистине, у него были только рефлексы, и потому он отбрасывал лишь то, что его раздражало. Реагировал он гораздо лучше, чем рассуждал. Ощетиниваясь при общении с иными людьми, он без сопротивления принимал навязываемые ему доктрины.
Флобер является жертвой антихристианской эпохи, которая оклеветала человека. Вне всякого сомнения, Флобер временами сам чувствовал это. Его персонаж Оме доказывает, как негодует автор на хулителей божественного начала. Но стоит коснуться вопросов религии, и Флобер в лучшем случае расхохочется и пожмет плечами. Нужно иметь в виду его странное пристрастие к поискам самой ничтожной душеспасительной литературы вроде «Светский человек у ног Девы Марии» или «Как должна одеваться в жару верующая служанка». Он откапывает эти примитивные церковные брошюрки, как свинья трюфели. В нем есть какой-то желчный садизм, он обожает выходить из себя – для него это наивысшее наслаждение. В десятке писем он повторяет одно и то же название, одну и ту же фразу с одинаковой ожесточенностью, и это приносит ему облегчение.
Этот наблюдатель жизни, кичившийся тем, что беспристрастно «отображает» ее и не позволяет себе привносить в книги свое личное отношение к описываемому, старательно убирает все, что не создает комического эффекта, не заставляет его кричать. Сказать, что на его пути не встречались подлинные мистики, было бы неверно. Скорей, он их просто боялся. Этот человек, отказавшийся иметь жену, детей, профессию, живший взаперти на берегу реки, пленник сырого дома, часами просиживающий над одной-единственной фразой, преуморительно осуждает отшельников Пор-Рояля! «Почему Шагабарима * вы находите почти комичным, – пишет он Сент-Бёву, – а ваших господ из Пор-Рояля столь серьезными? На мой взгляд, Сенглен много теряет по сравнению с моими слонами. Я считаю татуированных варваров гораздо более человечными, не столь специфическими, смешными и редкостными, как люди, живущие вместе и до самой смерти величающие друг друга милостивыми государями!» 1
В письме, адресованном Мишле, он пошел еще дальше: «Великий Вольтер свои многочисленные записки кончал «Ecr. l'inf.». У меня нет никакого права произнести эти слова. С моей стороны было бы нелепо поощрять Вас, но я жму Вашу руку из ненависти к anty-physis... 2» Anty-physis! Как было бы легко противопоставить это опрометчивое слово всем тем письмам, где Флобер стенает из-за своего противоестественного существования и нестерпимых условий, которым вынужден покоряться! Флобер, разумеется, выбрал эти условия, потому что предпочитал их и потому что для него превыше всего стиль, однако это не мешает ему понимать всю чудовищность своей жизни: через всю его огромную корреспонденцию проходят одни и те же жалобы, и под старость он повторяет те же сетования, что в молодости, когда только-только замкнулся в Круассе: «Я находил удовольствие в том, чтобы убивать свою плоть и терзать душу. Ожесточившись против самого себя, обеими руками, полными сил и гордости, с корнем вырвал из себя мужчину. Из дерева с зеленой листвой хотел сделать голую колонну и на самой вершине ее, точно на алтаре, возжечь бог весть какой небесный огонь...» 3
1Г. Флобер. Собр. соч., т. 8. М.—Л., Гослитиздат. 1938. ( Пер. Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
2Противоестественное, противоприродное ( лат.) .
3Там же, с. 68. ( Пер.Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
Вечный реванш католицизма в том и состоит, чтобы взирать, как на него восстают во имя Природы все те, кто всякий миг насилует ее, – все проституирующие себя, все жертвы «странных и печальных заблуждений», все добровольно самоотравляющиеся. Но аскетизм Флобера по крайней мере свободен от всего нечистого и постыдного. Он пишет, что дни свои проводит в полном одиночестве, как если бы находился в дебрях Центральной Африки. Трагическая несоразмерность подобной отрешенности и идола, являющегося ее предметом и целью, душит Флобера. Чтобы ободрить себя, он читает и перечитывает Спинозу, но богу философов и ученых не нужна эта искупительная жертва, и Флоберу опять приходится отыгрываться на человеческом.
Ему остается, даже не сознавая того, искать в человеческом божественную печать. Его ненависть к буржуа, ненависть, которую внушает ему Беранже, возникла главным образом из-за самодовольства, которое так и прет из представителей среднего класса, а также из-за того, что им легко и удобно обходиться без бога. «Величину души можно измерять страданием, – пишет он, – подобно тому, как глубину реки определяют по скорости течения». Благоденствующие буржуа на ионвильской Сельскохозяйственной выставке * раздражают в нем обездоленного христианина, у которого отняли его господа. Одни только поэты, философы и ученые, то есть те, кто постигает реальность, и те, кто отображает ее, кажутся ему логичными существами. От них он ждет полного отречения и спокойного отчаяния. Он не допускает, что у них может быть право устраиваться в жизни, и Максим Дю Кан теряет его дружбу, едва начинает метить на высокий пост. Большие деньги, которые зарабатывают его младшие собратья Золя и Доде, возможно, и вызывают у Флобера некоторое чувство ревности, но в основном возмущают. Нельзя быть счастливым в соответствии с мерками общества, и художник не имеет права «преуспевать».
Флобер поистине прожил жизнь в школе смерти. С раннего детства смерть выработала в нем безразличие к ней. В Руане анатомический театр городской больницы примыкал к саду, где играли маленький Гюстав и его сестренка Каро. «Сколько раз, бывало, мы с сестрой взбирались на забор и, свесившись среди виноградных лоз, с любопытством разглядывали покойников: солнце заливало их, те же мухи, что садились на нас и на цветы, ползали по трупам...» 1
1Там же, т. 7, с. 341. ( Пер. Т. Ириновой.)
Итак, уже с детства Флобер знал удел человека в этом мире и, несмотря на свой антикатолицизм, приобрел глубокое пристрастие к тем, кто ищет, кто бросается в крайности. «...Вид монашеской рясы, опоясанной веревкой с узлами, всегда будит притаившийся где-то глубоко в моей душе аскетизм» 1. Эта фраза взята из письма, где есть несколько великолепнейших страниц о проститутках. Флобер считает, что нужно уметь броситься – будь то в объятия бога, будь то на дно бездны. Только творцы имеют право вытащить свою лодку на песок, да и то при условии, что они изнуряют себя работой. Он восхищается Вольтером за его страстную, исступленную работоспособность, но ненавидит вольтерьянцев и говорит о них: «Люди, которые осмеивают все великое».
Над великим и над великими смеяться легко, и, правду сказать, Флобер дает много поводов для смеха, достань у нас смелости остановиться на них. Из-за своей странной жизни он стал слеп ко всему, кроме искусства и стиля. Недовольный браком любимой племянницы с нормандским буржуа того типа, который он всегда люто ненавидел *, Флобер тем не менее ухлопал на аферы этого благоприобретенного племянничка все свое состояние: буржуа-таки подобрался к своему врагу и разорил его, а разорив, убил, поскольку Флобера погубили постоянные денежные заботы, из-за которых он не мог спокойно работать.
Впрочем, разве у писателя чутье было лучше, чем у его буржуазного племянника? Советы, которые он давал последнему, были, надо полагать, не слишком разумными. Обращаясь к политике, Флобер последних лет Империи, бывавший в Компьене и у принцессы Матильды *, писал глупости похлеще, чем самые большие глупцы того времени. Стоит послушать его пророчества в год сражения при Садовой *: «Ну, а я считаю, что император сильнее, чем когда бы то ни было... Император держит Австрию под своей пятой, и я считаю, что в вопросах внешней политики сила, безусловно, на его стороне, что бы там ни говорили» 2. И Флобер добавляет для племянника: «Но если бы я был близок к политике, то действовал бы сейчас очень смело».
1Там же, с. 324. ( Пер. Т. Ириновой.)
2Там же, т. 8, с. 173. ( Пер. Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
Он не видит, что надвигается буря, но видит приближение старости, неизбежной муки. С возрастом он как-то непонятно укрощается. Он пишет, что силы слабеют и это его размягчает. Постоянная мысль о старости преследовала Флобера до такой степени, что когда-то он даже мечтал написать книгу про Сент-Перин *. Но если не воспринимать конец жизни как пору молчания и сосредоточенности, когда все суетное намеренно, целенаправленно отступает, чтобы оставить человека наедине с пока еще незримым богом и дать приуготовиться к встрече с ним лицом к лицу, как проводить человеку свои последние дни и ночи? Сент-Бёв, который был уже при смерти, но выкарабкался и на несколько месяцев вернулся к жизни, написал Флоберу. «Получил от Сент-Бёва письмецо, – сообщает Флобер, – убедившее меня относительно его здоровья, но очень мрачное. Он, кажется, в отчаянии оттого, что не может посетить Киприйских рощ!» 1* Добавив, и совершенно напрасно, что его друг на верном пути или «по крайней мере верном с его точки зрения, что в конечном счете одно и то же», Флобер не может удержаться, чтобы не заговорить о себе, и содрогается, представив себя похотливым старикашкой... Но Гюстава Флобера обережет от этого его характер. Он склонен не столько к наслаждениям, сколько к печали. Его последние письма более чем когда-либо исполнены детской нежности. Если временами он и крутится около кухни или бельевой, то на его лице нет того омерзительного выражения, что у старого Сент-Бёва. Флобер пишет: «Потребность в нежности я удовлетворяю тем, что после обеда зову Жюли (свою старую служанку) и смотрю на ее платье в черную клетку, какое носила мама. И я вспоминаю эту прекрасную женщину, пока слезы не подступят мне к горлу. Вот таковы мои радости...»
Итак, сердце – орган, наиболее чуткий к восприятию бога, – у Флобера было замкнуто до конца жизни. Но неужели в этом смысле в нем ничего не происходило? Неужели оно ни разу не было потревожено услышанным зовом? Честно говоря, я не думаю, что Флобер ближе всего к Христу, когда объявляет себя католиком. «А я ненавижу жизнь, я католик...» 2Нет, нет, напротив, его ненависть к жизни, его презрение к человеку отдаляют его от католической религии. Чтобы обрести свет, недостаточно сохранить в себе силу сердца, а во Флобере так велико презрение к человеку в себе и других, что он ничем не выделяет этот орган божьего творения, на котором господь оттиснул свою печать. И не зря в письмах он прибавляет к подписи разные насмешливые словечки, да и не только в письмах. Гонкур рассказывает, что как-то Золя настойчиво уговаривал Флобера написать книгу о Морни * и Второй империи, а тот, отказываясь, несколько раз обозвал себя дурындой.«Почему дурында?» – поинтересовался Доде. «Нет, никто лучше меня не знает, какая я дурында... Ну в крайнем случае старый шейх! *» И, произнеся это, Флобер сделал какой-то неопределенно-безнадежный жест.
1Там же, с. 196. (Пер. Т. Ириновой и М. Эйхенгольца.)
2Там же, т. 7, с. 389. (Пер. Т. Ириновой)
Бедный шейх забыл простейшую истину, что в каждом из нас есть нечто, не являющееся объектом искусства, а смысл и причина этого «нечто» неприкосновенны. Притом даже с эстетической точки зрения невозможно истолковать и отобразить душу, если отрицаешь ее. Нет, Флобер вовсе не был безучастен к духовным стремлениям, но, если не считать «Простого сердца» и г-жи Арну, показать это ему не удалось. У него все выглядит так, словно человечество в поисках света постоянно ошибается дверью. Человек, который смог написать «Три повести», несомненно, не только предчувствовал, но и распознал, где подлинная жизнь, но остановился на пороге. И меня поражает, что в своем «Флобере» Тибоде * сравнивает флоберовский эстетический католицизм с католицизмом Бодлера. Не будь даже у нас недвусмысленного свидетельства «Моего обнаженного сердца» *, все равно было бы совершенно ясно, что для Бодлера, даже когда он ропщет и кричит, что утратил веру, сверхъестественное, причем сверхъестественное христианское, существует, и в его глазах оно остается, возможно, единственной реальностью, без которой рухнул бы видимый мир, исчезли бы цвет и форма.
Эстетический католицизм – это выражение годится для Флобера, но не для грешника, не для жертвы из «Цветов зла». И разумеется, эстетика могла бы открыть Флоберу ту галерею, ведущую на неведомое небо, через которую его посредственный ученик Гюисманс проник в храм. Тщетно стали бы мы вчитываться в тексты Флобера: ни разу он даже не приближается к тому, чтобы пасть на колени. Но каким образом искусство из высшей цели жизни смогло обратиться у него в средство? В плане сверхъестественного или, в крайнем случае, чудесного отказ от бога и замещение его идолом представляется мне бесповоротным. Бог всегда может явиться и занять в человеке предназначенное ему место, если оно свободно, но что ему делать, когда это место уже захвачено, яростно и ревниво оберегается либо для Мамоны *, либо для Венеры, либо для Аполлона и Муз?
Разумеется, для отказа от бога у Флобера существовали внешние причины – прежде всего эпоха, о чем мы уже упоминали, атмосфера конца века, когда самые выдающиеся люди уже не довольствовались только отрицанием христианства, а устраивали ему похороны и подводили итог его наследию. Ренан сделал опись наследства для передачи его божеству по имени Наука, убившему христианского бога, чтобы встать на его место. А чтобы поколебать Флобера, лишенного, как мы уже видели, критического духа и рабски покорного жрецам, понадобились бы иные жрецы, не уступающие в авторитетности Сент-Беву, Мишле, Ренану, Бертело *. Но Флобер ведь бывал, да и то изредка, лишь у отца Дидона *, друга его племянницы Каролины. Кстати, письма этого знаменитого доминиканца к г-же Команвиль недавно изданы, что совершенно правильно: он человек, внушающий симпатию, а его страдания во время корсиканской ссылки трогают сердце. Однако ловушки моды так притягательны! Создается впечатление, что люди, которые могли бы открыть Флоберу глаза, ослеплены врагом и считают, что защищают проигранное дело; они хранят безмерное богатство, но даже сами не имеют ясного представления о его огромности. «Госпожа Бовари – это я...» – сказал Флобер, но, должно быть, никогда Эмма не была так похожа на него, как в тот момент, когда, с жадностью обратившись к кюре Бурнизьену, столкнулась с тусклым, неспособным понять ее человеком, который с закрытыми глазами извергает затверженные формулы. Во многих письмах Флобера распознаются приметы разочарованности, обманутой надежды. Еще в 1846 году на крестинах племянницы Каролины его удручает небрежность, с какой служится литургия: «Священник бормотал галопом и не понимал своей латыни... Самым умным из всего этого, наверное, были камни, которые когда-то все это понимали и, может быть, сохранили кое-что в памяти» 1. Все-таки он сознавал: в обрядовых формулах и жестах «кое-что» продолжает жить.
Вне всякого сомнения, во Флобере ничего не переменилось бы, встреть он даже на своем пути святого. И напрасно он поехал бы дилижансом в Арс-ан-Домб: кривое стекло, через которое он смотрел на человека и мир, исказило бы арсского кюре *, как, впрочем, и остальных смертных. Несомненно, Флобер обладал кое-какими добродетелями из тех, которых господь требует от избранных им: отвращением к мирской тщете, склонностью к одиночеству, к самоотречению, отрешенностью, постоянством, уверенностью, что царство искусства принадлежит сильным. Видимо, ему недоставало главного – милосердия в самом широком смысле. Флобер, безусловно, был добрейшим существом по отношению к друзьям, родственникам, слугам, и тем не менее человека он, как мы видим, презирал. Во время войны и после Коммуны его реакция, «реакция романиста, чьи привычки нарушены», просто-напросто жестока. Да все эти литературные вельможи, собиравшиеся на обеды у Маньи *, были люди, по сути дела, бессердечные. Но Флобер виновнее прочих; в нем, столь несомненно созданном для любви, запасы нежности, как нам кажется, до конца жизни оставались нетронутыми. Он намеренно законсервировал их. Когда Гонкур заявляет: «Ни Флоберу... ни Золя, ни мне самому никогда не случалось влюбляться очень сильно, и поэтому мы не способны живописать любовь» 2, то в отношении Флобера он очень сильно ошибается; правда состоит в том, что ни один человек не прикладывал больше усилий для того, чтобы оставаться бесчувственным. Флобер совершил, по выражению Шарля Дю Бо, «перемещение сердца в голову». И Дю Бо добавляет: «От обыденной жизни Флобер требует неизменности ритма, исключения случайностей, монотонности долгого тягучего урока и постоянного, ровно выделяющегося тепла». Всех, абсолютно всех, кто нарушает этот неизменный ритм, он ненавидит, порой даже какой-то низкой ненавистью. Суровой зимой он клянет бедняков, которые звонят в дверь его дома в Круассе.








