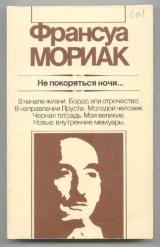
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц)
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
... пред юностью святой,
Перед ее теплом, весельем, прямотой,
Глазами, ясными, как влага ключевая, —
Пред ней, кто все свои богатства раздавая,
Как небо, всем дарит, как птицы, как цветы,
Свой аромат и песнь и прелесть чистоты.
Бодлер 1
Молодость, этот дикий лебедь...
Шелли 2
1Ш. Бодлер. Цветы зла. М., «Наука», 1970, с. 22. (Пер. В. Левика.)
2П. Б. Шелли. Стихотворение «Стон».
ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие не узнают того молодого человека, чьи черты я здесь запечатлеваю, и не вспомнят ни единой минуты, когда сами былибы похожи на него. Дело в том, что не каждому довелось быть молодым. Не следует думать, что молодость– благо, которое боги даруют всем подряд; припомним наш коллеж:, припомним четырнадцатилетних торгашей или светских щеголей, столь рассудительных, столь спесивых, мечтавших о любовнице и о клубе, необходимых им для того, чтобы, едва вырвавшись из школьных стен, упрочить свою репутацию.
Немало юных созданий умирает вскоре после рождения; их быстро превращает в мужчин свет, если они родились в буржуазной семье, или нужда– если они из простых. Светские обычаи и условности убивают юность так же неотвратимо, как подневольный труд. Дети из народа мужают как-то сразу: юности необходим досуг– для бескорыстных занятий, чтения, бесед. Сколько гениальности должно быть присуще двадцатилетнему чернорабочему, отстоявшему в себе молодость! Воспоминания Горького о детстве читаешь с тревогой: кажется, что жестокие испытания вот-вот погасят высокое пламя. Ницше, безусловно, прав, когда разоблачает принятую в современном обществе ложь о святости труда.
Неопределенность– вот первая черта, по которой мы узнаем молодого человека. В нем живет девственная сила, еще не отданная чему-то одному; он еще ни от чего не отказывается; перед ним открыта любая стезя. На эту недолгую пору нам позволено не жертвовать ни единой частицей нас самих, а может быть, просто бог до поры до времени согласен любить нас несмотря на. то, что мы служим двум господам, а вернее сказать, бессчетному множеству господ. Это время беспутства и святости, печали и ликования, насмешек и преклонения, честолюбия и жертвенности, жадности, самоотречения... Через какую ломку надо пройти, чтобы достичь так называемого возмужания!
I
Ребенок жил в стране чудес, под сенью родителей, полубогов, исполненных совершенства. Но приходит отрочество, мир вокруг ребенка внезапно сужается и темнеет. Какие там полубоги! Отец на глазах превращается в деспота и обидчика; мать – жалкое существо. Теперь уже не вне себя, а в себе самом подросток открывает бесконечность: он, который был малым ребенком в огромном мире, восхищенно созерцает свою необъятную душу в съежившейся вселенной. Он носит в себе пламя, питаемое бесконечным чтением и раздуваемое любым ветерком. Правда, и для него придумана узда – это экзамены: «До двадцати лет приходится сдавать столько экзаменов, – замечает Сент-Бёв, – что это отбивает охоту ко всему». Но вот наконец диплом получен. Что делать дальше?
Он ощущает в себе молодость, словно болезнь, болезнь нашего века, а на самом деле – всех веков с тех самых пор, как существуют молодые люди, которые страдают. Нет, никакая это не «чудесная пора». Мы должны понимать, что в старом присловье «Пусть-ка молодость пройдет» скрыт вполне серьезный, едва ли не трагический смысл. От молодости нужно исцелиться; нужно проделать этот опасный переход и не погибнуть.
Молодой человек – это огромная, неистраченная сила, которую со всех сторон сдерживают, ущемляют люди зрелых лет и старики. Юноша рвется подчинять других, но вынужден подчиняться сам; все места разобраны, трибуны заняты. Остается разве что игра, вот мы и бросаем молодежи мяч: пускай набегается, устанет. А игра есть не что иное, как замена главному увеселению – войне.
Войны не переведутся, пока не переведутся юноши. Разве без их соучастия были бы возможны эти грандиозные побоища? В рассказах бывалых вояк о перенесенных испытаниях сквозит такая тоска по прошлому, что мы диву даемся. Дело в том, что на время войны старики не прочь назначить начальниками молодых. И, как ни трудно в это поверить, большинство юношей любят Наполеона и преклоняются перед ним: они помнят о безусых генералах. Быть может, такая же любовь бросала и критских юношей в пасть Минотавра *. Юность прощает тем, кто обрекает ее на заклание, лишь бы выпустили на волю эту ее чрезмерную силу, от которой она задыхается, лишь бы дали ей наконец свободу действий и власть.
Миром правят старцы, и мы никогда не узнаем, чем будет владычество молодежи. Но что такое, в сущности, опыт? Обогащаемся мы с течением жизни или скудеем? Говорят, с годами приходит зрелость. Увы, у Сент-Бёва есть все основания утверждать, что на иных должностях люди черствеют, на других портятся, но только не созревают. Послушаем Монтеня: «Я же считаю, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой, или же они никогда не проявят себя... Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до тридцатилетнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время... Что до меня, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и мое тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперед» 1.
1М. Монтень. Опыты. М., «Наука», т. 1, 1980, с. 289—290. ( Пер. А. Бобовича.)
Продвигаться в возрасте – значит обрастать привычками, усваивать незаметно для себя полезные навыки; это значит сознавать свой предел и смиряться с ним. Чем обширнее наше прошлое, тем больше оно нас ограничивает. Доля выдумки, неожиданности, заложенная в нашей судьбе, год от году все уменьшается, пока под ногами у нас не остается лишь разверстая яма. Чего ждать от человека, шагнувшего за пятьдесят? Мы интересуемся им лишь из вежливости да по необходимости, если только он не наделен талантом: талант – это молодость, которая сильнее времени, молодость, неподвластная увяданию.
II
Эту нерастраченную силу, переполняющую каждого юношу, истощает наслаждение. Бедных несмышленышей так и тянет к нему. Огромными стаями ударяются они в разгул. Набрасываются на него, как дикие утки на болото: самые лучшие сплошь да рядом гибнут. Те, кто потрезвей, порасчетливей, умеют перебеситься, не теряя головы; даже в излишествах они блюдут меру; их распутство тщательно продумано.
Для юного существа, предающегося наслаждению, нет ничего опаснее благородства: презрение к миру и отвращение к жизни часто увлекают прекрасную душу в бездну. Разнузданные юнцы порой отличаются чудовищной смелостью и самым прискорбным безрассудством. Не будь они хотя бы так безучастны, так равнодушны ко всему! В каком-нибудь баре, среди заурядных пьяниц, я люблю угадывать этих заблудших детей, с их чрезмерно увлекающейся душой, тратящих себе на погибель ту неисчерпаемую силу, с помощью которой они могли бы себя обуздать. Куда им деваться от дилеммы: сделать выбор и оскудеть или уклониться от выбора и погибнуть? Возможен ли выбор без оскудения, отказ, сулящий обогащение? Мистикам была ведома эта тайна.
Иные тратят свою силу на то, чтобы одолеть самих себя. Усматривать в молодости возраст праведников вовсе не парадоксально. Припомните: именно в двадцать лет или около того вам нравилось сочинять для себя правила, которые, разумеется, вечно нарушались; но никакие поражения не истребляли в вас тяги к упорядочению вашей духовной жизни.
Целомудрие не столь редко, как принято думать, встречается среди мальчиков-подростков. Тому, кто, отважась написать историю начала любовных отношений, сумел бы вызвать молодых людей на откровенность, пришлось бы выслушать повесть о сплошных обидах и отвращении... Молодые мужья и те признавались мне в том, что прошли через сильнейшее смятение: зачастую Дафнис более, чем Хлоя *, наделен чувством меры и потребностью в воздержании. Помню, после перемирия суровые, еще не сбросившие военной формы кавалеры провожали на балах чрезмерно декольтированных дам строгими, а то и недобрыми взглядами. Ипполиту от века претит исступление Федры *.
До двадцати лет наше прошлое слишком легковесно, чтобы раздавить нас своей тяжестью; время еще не отковало нам цепей-привычек. В эту пору легко принимаются героические решения. У траппистов * в Сетфоне и у доминиканцев * в Сольшуаре я видел подростков-послушников: быть может, бог, чтобы привлечь к себе своих избранников, пользуется их юностью. Случаи так называемого позднего призвания чрезвычайно редки. Именно в отрочестве некоторым кажется, что блюсти целомудрие нетрудно: зверь еще спит. Юный человек так переполнен духовной силой, что не ведает, где ее предел. Он отрекается и умирает, не познав отчаяния; он бесстрастен – или попросту не успел ни к чему пристраститься.
Отметим некоторые перемены: новое поколение находит, что старшие чересчур увлекались жертвами; это мнение довольно-таки распространено в среде двадцатилетних. Они не пропустили мимо ушей тех доводов против романтизма, которые приводили им наставники, – и вот борьба с романтизмом принесла неожиданные плоды... Но ведь романтизм ничего не стоит спутать с бескорыстием – к тому же это удобно. Все преувеличенное внушает нынешней молодежи отвращение; она явно своего не упустит.
Разумеется, юноши, рвущиеся к успеху, составляли предмет литературных произведений всех эпох; большинство, вопреки Паскалю, и не думало откладывать собственное преуспеяние на самый конец жизни. Но, сдается, молодые все больше и больше торопятся; с самого начала они преисполнены честолюбия и не отделяют его от любви. И то сказать, им требуется больше карманных денег, чем нам в их возрасте: нужно оплачивать ежевечерние коктейли. Какая это роскошь в наши дни – быть студентом! Трудись да еще плати за то, что трудишься!
За все надо платить, и не потому ли нынешние молодые люди не столь щепетильны, как их предшественники, в отношении подарков, которыми женщины мечтают осыпать своих возлюбленных? Похоже, что возрождаются нравы Фронды *. Если у дамы появилась разорительная прихоть поужинать у «Сиро», то ее спутник нередко платит по счету купюрой, которую ему сунули под скатертью. Кто из двадцатилетних устоит перед неделей страсти и шампанского в «Негреско»? Так под влиянием «стоимости жизни» смягчается «кодекс чести».
И все же вряд ли стоит противопоставлять одно поколение другому: характеризовать поколение столь же бессмысленно, как характеризовать отдельного человека. Что вы надеетесь высмотреть в этом зыбком потоке? Молодежь – это тысячеликое божество: автор любого опроса получит именно те ответы, на которые рассчитывал. Если мы и отважимся на некоторые утверждения, то разве что в таком духе: первейшее желание нынешних молодых людей – это автомобиль; юнец без машины чувствует себя кастратом; несмотря на спорт, в этом поколении немало толстяков: ведь они не ходят, а ездят.
В каждом поколении современники силятся выявить черты «нынешнего молодого человека» и показать, чем он отличается от старших, но как искусственны все эти схемы! Вот уже более века французская молодежь от поколения к поколению ни в чем не меняется. Едва стала слабеть родительская власть, едва юноша вызволился из ярма, имя которому – семья, среда, ремесло, оказалось, что, став свободнее, он стал куда более одинок и, понеся большие утраты, приблизился к одной из двух общностей, которые со времен романтизма объединяют отроков в нашем отечестве: первая – это племя, чтущее Сен-Прё, Вертера и Рене * как своих родоначальников, святых и мучеников, это род, восставший против действительности, отвергший и суровые господние законы, и законы человеческие, изнемогающий в поисках выхода, в поисках «ворот, распахнутых в неведомые небеса», род, осаждаемый видением смерти, чьи последние представители у нас на глазах ведут дознания о самоубийствах.
Вторая общность собирает тех юношей, кто подчиняется правилам игры и полон решимости выиграть. Их родоначальников при желании можно отыскать среди стендалевских и бальзаковских потомков Бонапарта: тут и Растиньяк, и Рюбампре, и Марсе *, и Жюльен Сорель.
Чем круче обходится жизнь с теми из юнцов, кто одинок и не находит поддержки, тем резче обозначаются черты этих двух ликов, которые обращает к нам французская молодежь. «Болезнь века, – сказал мне один юноша, – это проблема денег». Суровые послевоенные годы одновременно со стремлением как можно скорее дорваться до власти возбудили в молодежи желание уйти в глубокую спячку. Одним, чуть выпорхнут из коллежа, без навыков, без опыта, сразу подавай деньги, славу, сладкую привычку к свету; другие погружаются в пьянство и «душевную смуту». Первые поражают нас непробиваемым цинизмом; вторые не желают гибнуть в одиночку: они находят последователей и, по выражению одного из них, открывают «Спортивные школы для тех, кто хочет проигрывать».
Но кого ни возьми – стратегов и тактиков, полных воли к победе, или мистиков без бога, исследователей сновидения, – обнаруживаешь, что и те и другие одинаково непримиримы.
Впрочем, два эти племени не настолько уж разъединены, чтобы никак не сообщаться между собой. Те, кто к тридцати годам сколотил состояние, прославился в литературе, основал газету, побил все рекорды, словом, шахматисты, играющие одновременно на множестве досок с разными противниками, – и те временами впадают в глубокую депрессию; они обычно не употребляют наркотиков, зато пьют. У этих ненасытных завоевателей потребность в коктейле часто острее, чем в хлебе; они подстегивают себя алкоголем: в лихорадочной энергии молодых дельцов есть нечто безумное.
Зато представители противоположного лагеря, новые сыновья века *, отчаявшиеся, изо всех сил избегающие действительность, ведут себя куда осмотрительнее, чем можно было бы ожидать; экстравагантность, которую они выставляют напоказ, служит им подспорьем в их намерениях, которые они скрывают от всего света, а может быть, и от себя самих. Отчаяние – ремесло не хуже других. Среди этих кандидатов в самоубийцы попадаются такие, что не способны вести упорядоченный образ жизни, но самая беспорядочность играет им на руку.
Эта особенность встречается у кого угодно, от мала до велика, и все-таки особенно примечательна она у молодых: речь идет о ловкости, с какой извлекается польза из собственного убожества. Причем особое раздолье юному ловкачу в сфере искусства: он составляет себе имя на том, чего ему недостает, и предлагает нам ничто, которое мы должны принимать с восхищением, веря, что это, мол, и есть предмет его поисков.
Войско работающих локтями и стан отчаявшихся, ищущих способа убежать от действительности, смыкаются также на почве ненависти к культуре. Первым недоступно любое бескорыстное умозрительное построение: они не склонны тратить время на бесполезное. Вторые находят весьма удобным принцип tabula rasa 1: тем самым они отметают все, что не могут усвоить по собственной лени и неорганизованности. Они объявляют, что вся сущность эпохи содержится в двух-трех произведениях, чаще всего самых непонятных, в которых они угадывают ту же путаницу, что царит у них в головах.
1 Букв.«чистая доска» ( лат.); перен.о сознании человека как вместилище внешних впечатлений.
Нынешние молодые люди задыхаются под бременем необъятного наследства.
Их ненависть к музею и библиотеке подкрепляется убеждением, что последний час этих некрополей недалек. Их поколение – поколение уцелевших: старшие рассказывали им об извечном течении жизни, не то чтобы сами в это веря, а просто потому, что не в силах были вообразить, как это цивилизация вдруг погибнет и они не сумеют нам завещать плоды трудов своих. Но для нашей рожденной под знаком бомбардировщика, обреченной на смерть от газа молодежи вопрос о потомстве не стоит. Она уверена только в нынешнем дне и всеми способами пытается извлечь из него выгоду либо бежит от него, смотря по тому, что ей милее – действительность или воображение.
Надо признать, что никогда еще у молодых людей, вступающих в жизнь, – будь то стяжатели побед или сторонники бегства – не находилось столько пособников. Повсюду раздается клич: «Дорогу молодым!» – и более всего в искусстве и литературе. Труднее всего приходится в наши дни тем, кому за пятьдесят. Юные честолюбцы, еще не нашедшие себе места, создают и разрушают репутации. Иногда они развлекаются тем, что выискивают в прошлом совершенно безвестную фигуру, пленяются ею, подымают на щит, а после, наигравшись, снова ввергают во тьму. Прежде у них не было иных трибун, кроме авангардистских журнальчиков; ныне же издательства, крупные газеты, театры приносят жертвы на их алтарь. Выдрессированная публика покупает сочинения, в которых ей ничего не разобрать, покорно слушает музыку, созданную на погибель ее ушам. Двадцатилетний юнец одержим идеей показать всему свету меру ответственности его страны за последнюю войну – и вот одни его клянут, другие превозносят до небес, но, что самое поразительное, все принимают всерьез.
Наша эпоха, как никакая другая, помогает забыться тем, кто ищет забытья. Никогда еще искусственный рай не был так доступен. Не говоря о коктейлях, которыми стали злоупотреблять наши юноши после войны, опьянение вообще присуще нашему времени: скорость – вот дурман, неведомый нашим предкам, вот безумие, которое гонит по дорогам этих юношей в шлемах и без шлемов, лица которых кажутся ликом судьбы.
III
В совсем молоденьком мальчике нам дорого «то, что не дано увидеть дважды». Полюбуйтесь, как эта глина что ни день меняет форму, как позволяет лепить из себя и то и это. Двадцатилетний юноша тает, растворяется, расцвечивается, меркнет, подобно облаку; то, что пленяло нас в нем еще вчера, сегодня улетучилось. Запечатлеть его юность под силу только смерти; неправда, что смерть отнимает у нас любимых: напротив, она их нам сберегает; смерть – это соль нашей любви, а жизнь эту любовь размывает. Те, кто живет, кто существует во времени, становятся у нас на глазах все массивнее; они твердеют, окостеневают; еще немного – и они пересекут залитую светом полосу: их теснят другие, помоложе, а мы, старшие, окликаем их из гущи сумерек, которые становятся все темнее.
Тот, кто перешагнул за двадцать пять, попадает в полумрак. Теперь надо прибавить шагу. Подростки его толкают, зрелые мужи осаживают. Скоро он двинется вслед за ними; отныне ему не грозят никакие перемены, так что при желании он смело может снимать с себя мерку для гроба.
Есть особая радость в ощущении себя молодым, она прорывается сквозь тяжелейшие испытания. Мы слышали, как пели и смеялись юноши, сознательно идущие на смерть; в них, несмотря ни на что, торжествовала молодость, и это опьянение отрывало их от земли и влекло к месту рокового удара.
Двадцать лет – это такое чудо. Нам памятно отчаяние, в которое мы приходили, когда нам исполнялся двадцать один. И насколько меньше беспокоимся мы об уходящем времени, когда приближаемся к сорока! Мы плакали о том, что старимся, тогда – в мимолетные годы нашей весны.
Молодой человек сознает себя как великую ценность. Он ухаживает за своим телом, любовно упражняет мускул за мускулом, отказывает себе в удовольствиях, жертвует слишком бурными наслаждениями во имя своей силы, которую обожествляет. Нарциссизм молодых часто спасает их от опасных излишеств. Нарцисс склонен к целомудрию: лишь бы ничто не преображало его облика, которым он восхищается.
IV
Любовь набирает силу благодаря препятствиям, встающим на ее пути; но как много появилось юношей, которым недосуг вожделеть, недосуг разгадать собственную жажду! Они усвоили привычку презирать то, что само идет в руки, стоит только нагнуться и взять. Кребийон-сын * рассказывает, что в пору его молодости мужчине, чтобы понравиться, вовсе не нужно было быть влюбленным; в экстренных случаях от него не требовалось даже любезности. Слишком много женщин остались верны этому правилу: они воспитывают иных своих поклонников так скверно, что Академии давно пора узаконить слова «хам» и «хамство». Пожалейте этих юнцов: они и рады бы любить, но им просто не оставили на это времени.
К тому же они тщеславны и стеснительны, и это тоже отдаляет их от любви. Тщеславие подсказывает, что потерпеть неудачу позорно, а стеснительность в конце концов увлекает на поиски легкой добычи, хотя, быть может, те, кто оказал бы им больше сопротивления, сумели бы внушить им и испытать сами ту любовь, которая выше вожделения.
В любви, как в любом искусстве, легкость пагубна!
Бюсси-Рабютен * терпеть не мог свою любовницу, до того она его обожала. И все равно молодость дорожит возможностью мучить: хотя она и сетует на рабов, которые влачатся ей вослед, обременяя ее своей тяжестью, но стоит им вырваться на свободу – она о них сожалеет: ведь эти жертвы свидетельствовали о ее могуществе.
Быть молодым – это значит никогда не оставаться одному; это значит подвергаться преследованиям со стороны тысячи окружающих тебя желаний; слышать, как вокруг тебя хрустят ветки. В тот день, когда ты не услышишь больше вздохов стерегущего тебя вожделения, когда обнаружишь, что в твоей жизни установилась непривычная тишина, знай, что от тебя ушла молодость. Барбе д'Оревильи * говорил, что человек становится, одинок, как только ему стукнет двадцать пять.
Молодежь, недолговечное племя! Каждая жертва любовных неудач может быть уверена, что за нее отомстят. Любой из нас – поле, которое должна перейти молодость: и она идет через нас, и вот мы еще вовсю пылаем ее пламенем, а она уже миновала. Блажен тот, чьи страсти выжжены этим пламенем: сжавшись в комок над их прахом, он будет покорно дожидаться смерти. Но часто бывает и так: молодость прошла сквозь человека и ушла от него, а в нем живет то же сердце, тот же голод, только вот надежды на утоление этого голода здесь, на земле, больше нет.
Сохранивший молодость может еще, конечно, внушить любовь, но выбирать он уже не вправе.
Горе тому, кто во дни любовного благоденствия не обрел преданного сердца, истинной привязанности, против которых время бессильно.
Юношеская горечь, жестокость, с которой молодой человек тиранит свои жертвы, идет еще и от его убеждения, что в нем любят отблеск, зыбкий поток огня, текущий сквозь него, словом, любят его молодость, а не то вечное, непреходящее, что в нем скрыто.
Многие юноши сознают себя полем, по которому движется некая сила, и все время ощущают это бегство, этот исход молодости. Они чувствуют, как с каждым мигом стареют; каждая секунда подтачивает их, подобно малой волне. Весь романтизм вырос из одержимости юных богов, которые знали, что они смертны, не мирились с тем, что наступит время уйти на покой: а что такое современная поэзия, как не беспрерывный вопль о смерти?
И все-таки поэтический дар – это юность, восторжествовавшая в человеке, это юность, что сильнее времени. Верлен, увлекаемый Рембо, – это поэт, которого юность, словно дьявол, схватила за волосы и тащит *.
Поэтому и оказалась столь чудовищна и в то же время столь прекрасна судьба Бодлера, Верлена, Рембо, что они были одарены пугающей неспособностью к старению. В дряхлевшей плоти жила полная желаний душа подростка.
Самый опороченный из поэтов, если он истинный поэт, достоин того, чтобы мы обратили к нему слова Ламартина о юном Мюссе: «Он не был виновен ни в чем из того, что бесславит жизнь; он не нуждался в прощении, он нуждался лишь в дружбе».
Кто больший безумец – Нарцисс, обожающий свою мимолетную молодость, или влюбленный, боготворящий ее в другом человеке? Вот та самая плоть, что была для тебя и мукой, и счастьем; проходит год, и ты видишь, что это она и уже не она; ее еще украшают остатки молодости, возбуждая в тебе остатки любви.
Все усилия цивилизованного человека направлены на то, как вывести любовь с ее наслаждениями за границы молодости: никогда прежде мы не видели на сцене столько престарелых любовников; у женщин-писательниц, к которым с годами приходит слава, появляется тяга к сюжету о любви молодого человека к искушенной стареющей женщине.
Все дело в том, чтобы в горечи последних наслаждений обрести вкус юношеской пылкости. Мало кто из мужчин не превращался, пусть на несколько часов или дней, в Адониса, грезящего над ручьем и попадающего в сети Цитереи *; и всю остальную жизнь мужчины растрачивают на призраки этого мимолетного счастья. Им и вечности не хватило бы, чтобы снова и снова переживать в воображении эту зыбкую радость. Простите старика за недостойность его последних дней: ему чудилось, что он молод, он вновь переживал события своей юности. Что может опорочить весну? А осени все в укор.
Слава богу, большинство мужчин так задавлено заботами, сопутствующими зрелости, что забывают свою весну и не помышляют о небесном.
V
В молодом человеке, как в птице, борются два инстинкта: один велит жить в стае, другой – уединиться с самочкой. Однако тяга к товариществу долгое время пересиливает. Если и впрямь все наши беды, как утверждает Паскаль, происходят оттого, что мы не способны находиться в комнате одни, то стоит пожалеть молодых людей, ведь для них это испытание особенно невыносимо; понаблюдайте, как они поджидают, окликают друг друга, обсиживают скамейки в Люксембургском саду – точь-в-точь воробьи! – как набиваются в пивные и в бары. У них еще нет индивидуальной жизни; похоже, что выражение «чувство локтя» – их выдумка. С помощью локтей передается в них ох одного к другому общность интересов. Они даже к конкурсу любят готовиться вместе – и если бы только к конкурсу!
Все они полуночники по той простой причине, что сидение в четырех стенах им претит. Вот они и бродят взад-вперед, без конца провожая друг друга, пока не валятся с ног от усталости. И подобно тому, как жизнь воробьев проходит в чириканье, так жизнь молодых людей протекает в разговорах.
В сущности, именно скученность и теснота примиряют их с жизнью в казармах.
Товарищество приводит к дружбе; два юноши обнаруживают, как много между ними общего: «И я тоже... И у меня так бывает...» – вот самые первые связующие их слова. Дружба, как правило, рождается с первого взгляда. Наконец нашелся близкий человек, понимающий все с полуслова! Сердца бьются в унисон! Одно и то же удручает друзей, одно и то же прельщает. Даже разница между ними – и та укрепляет единство: каждый восхищается в своем друге достоинствами, которых так мучительно не хватало ему самому.
Может быть, им уже довелось любить; но до чего более привлекательной оказывается для них дружба! Может быть, любовь оказалась бессильна перед их одиночеством. Утолив плотский голод, они почувствовали, что по-прежнему одиноки рядом с загадочным, непостижимым существом, принадлежащим к другому полу, то есть все равно что другой планете. В большинстве случаев невозможно разделить с женщиной что-либо, кроме наслаждения; и если не считать этого блаженного единения (а в молодости ему отдаются и впрямь без устали), то любовь, быть может, ничего не приносит молодым, кроме чувства потерянности, пусть они себе в этом и не признаются. Дело в том, что нередко самая обожаемая подруга говорит на ином языке, чем мы, и то, что для нее бесконечно важно, представляется нам пустяками. Зато все, что имеет значение для нас, безразлично ей, и наша логика ей непонятна. Порой любовница – это неприятель, которого мы не понимаем и за которым не в силах уследить. Вот почему любовь неотделима от ревности; в чем только не заподозришь существо, все поступки которого застают нас врасплох, как гром среди ясного неба! Из этой тоски соткано творчество Пруста.
В истинной дружбе все ясно и безмятежно. Слова означают для обоих друзей одно и то же.
Плоть и кровь не наносят дружбе урона. Каждый знает, что такое верить на слово, что значит скромность, честность, целомудрие. Тот, кто умнее, делится своими заветными мыслями с тем, кто восприимчивей; а тот открывает другу мир своего воображения. Фундамент дружбы – это, как правило, книги, которые нам было не под силу любить в одиночку, музыка, которой мы прежде не знали, философия. Каждый приносит другому свои сокровища. Переберите-ка в памяти лики вашей собственной молодости, вглядитесь в ваших друзей: за каждым стоят приобретения. Тот открыл для меня «Братьев Карамазовых», этот разъяснил «Сонатину» Равеля; а с тем мы побывали на выставке Сезанна, и глаза мои отверзлись, словно прежде я жил незрячим.
Но молодые люди бывают обязаны друг другу и еще более драгоценным приобретением: это страстное желание послужить делу, которое намного больше, чем ты сам; как характерно это стремление для молодежи, стоит ей начать объединяться! Все социальные, политические, религиозные течения наложили отпечаток на нашу эпоху в той мере, в какой им была присуща дружба.Если из общего дела ушла дружба – это первый признак, что от него отхлынула молодежь, тогда оно превращается в партию – объединение людей с общими интересами; место юнцов заступают зрелые мужи.
Но разве юношеская любовь не обогатила нас, не научила нас многому? Разве наши подруги не были нам лучшими наставницами? Бесспорно, это так. И все же от нашей любви остается куда больше мути, чем от нашей дружбы: от любви мы наследуем наши тайные привычки. На ее шипах юноши оставляют клочья кожи, но без этого нельзя: женщинам на роду написано душить детей в объятиях.
VI
Однако утверждать, что любовь развращает молодого человека, было бы парадоксом: чаще всего совратителем оказывается именно он сам. Во все времена, по всем городам рыщут толпы юношей, которых блаженный Августин называет разрушителями, eversores 1. Женщина для них – дичь; в душе все они – гончие псы; ничто не сравнится для них с наслаждением затравить лань и пополнить список трофеев.
1Разоритель ( лат.) .
По всем городам... Но и в деревне то же самое; когда я приезжаю в мой загородный дом вместе с молоденькими служанками, в саду что ни вечер парни так и шныряют, словно коты; ветки хрустят; самые отчаянные суют нос даже на кухню; девицы тем временем запираются у себя в комнате, но из-за дверей слышится их возбужденный и призывный смех.
От подобных облав страдают именно женщины; разрушители губят их тысячами. Но не все же юноши – разрушители. Просто от этих последних много шуму, они всегда на виду, вот и кажется, что их большинство. На самом деле в молодости человек наделен потаенным инстинктом, повелевающим не унижать, а боготворить женщину. Первым порывом нашего отрочества было обожание; в женщине воплощалась для нас наша собственная стыдливость, наша слабость. Античное юношество поклонялось Артемиде; ее жрецы в Эфесе исповедовали плотское воздержание; Афина Паллада, богиня-девственница, олицетворяла не только мудрость, но целомудрие. Палладиум, залог спасения Рима, находился в храме Весты, в руках юных девушек * – до такой степени миру еще в дохристианские времена была необходима чистота девственности. В культе смиренной простой девушки из народа, еще при жизни знавшей, что грядущее человечество благословит ее имя, более всего поразительно именно это стремление мужчин чтить в женщине тайну чистоты. От столетия к столетию юношество, словно сговорившись, навязывает женщине этот закон; инстинкт велит любить только неискушенную, невинную, окутанную покрывалом. Для скольких подростков, сподобившихся посвящения, тайна женского падения оказалась мучительна, словно незаживающая рана! Они оплакивали не свою погибшую чистоту, но унижение, в которое перед ними ввергалась женщина.








