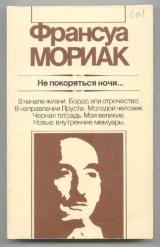
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Следовало бы задаться вопросом: а что, если во власти этого очарования мы стали несправедливы к прежним нашим богам? Но меня Моцарт, пожалуй, снова приблизил к Бетховену, и под его воздействием я, недостойный, все же вправе подступиться к Баху Пожалуй, отвратил меня Моцарт только от Вагнера – в какой-то степени.
Моцарт не становится навытяжку перед Создателем. Просто-напросто человеческая нежность, которой он переполнен, возвращается к вечному своему источнику. Одно и то же сердце возлюбило господа, возлюбило и творения его; дитя не напрягает голоса, беседуя с отцом. И как знать, быть может, всем сладкозвучиям литургии отец предпочитает этот страстный детский голос.
Всем известна одна фраза Россини, ее часто вспоминают. На вопрос, кто величайший из композиторов, он отвечал:
– Бетховен.
– А как же Моцарт?
– Моцарт? Он – единственный.
И в самом деле, сказать, что Моцарт – величайший из композиторов, – значит ничего не сказать. К нему неприложима общая мерка, от остальных он отделен самой своей чистотой. Спору нет всякий великий композитор – это целый мир, единственный и неповторимый. Но все они от Бетховена до Вагнера обладают одной общей чертой – они беспрестанно возвращают нас к нашим собственным страстям: их страдание, их любовь – это наша любовь и наше страдание. Они человечны, слишком человечны; с их помощью наши страсти черпают наслаждение в себе самих. Вот почему в пору отрочества и юности этих композиторов любят – и не любят Моцарта. В двадцать лет, в том возрасте, когда человек опьянен самим собою, когда самое страшное для него – отрешиться от собственного сердца, когда мы слишком недалеко ушли от детства, а потому не чувствуем его очарования, хоть сами словно омочены еще его росой, Моцарт не обладает в глазах наших ни властью, ни престижем. Лишь много позже, когда человек, пройдя более половины жизненного пути, уже шагает под гору, когда он уже пережил удары судьбы, когда смерть, успев отнять у него тех, кого он любил, внезапно опускает ему на плечо недобрую руку, лишь тогда радостно ему встретить на повороте своей дороги этого школяра господня, поющего, смеющегося, плачущего, – малыша Моцарта.
Меня все время тянет говорить о нем как о ребенке. Но душевный склад детства одарен высшей проницательностью, которую не следует путать с невинностью: Рембо, наделенный таким душевным складом, отнюдь не был невинен, да и сам Моцарт тоже. Из всех людей восемнадцатого века, столько разглагольствовавших о врожденной доброте человеческого сердца, никто не вглядывался в человека с такой острой проницательностью, как автор «Дон Жуана».
Музыка «Дон Жуана» озаряет наш удел таким чистым и таким жестоким светом, что, когда по окончании спектакля в Зальцбурге публика расходилась, мне подумалось, что многие ощутили страх перед господом впервые в жизни. А ведь либретто «Дон Жуана» принадлежит не Моцарту Но это музыка Моцарта, и уже сама по себе она придает этой странной опере-буфф, при всей озорной своей прелести, метафизический смысл, уводящий в вечность; ведь речь идет не более, не менее как о битве вольнодумца против бога, странной битве, которую вели многие; дон Жуан – тот самый распутник, который видит собственными глазами, осязает собственными руками сверхъестественное – и все же предпочитает свое распутство. Это человек, который разыгрывает храбреца перед господом богом, по выражению Паскаля, и тем самым доказывает, что ему присуще некое пугающее величие.
«Дон Жуан» вызывал возмущение у сурового Бетховена, который так никогда и не простил его Моцарту. И вопреки видимости совсем не Моцарт воплощает утопический дух века Руссо с его бунтом против реального, с его неумением видеть человека таким, каков он есть.
Моцарт помогает нам понять, что нет искусства для народа и искусства для светского общества. Искусство должно быть человечным – или это не искусство. Никогда не достигалось Такого глубокого понимания человеческой натуры, как в XVII веке, когда литераторы были придворными и принадлежали к самому искусственному светскому обществу То же самое случилось и с Моцартом: музыка его служила для услаждения светского общества – блистательного, но бесчеловечного, и кажется, что она отражает все чары его, все прихоти и сумасбродства. И однако же, Моцарт выразил наше сердце во всей его потаенности, обнажил его. Более того, ненароком он достиг цели, которую не сумел достичь Руссо: сам того, быть может, не ведая, в этом проклятом мире он был боговидцем. Более, чем когда-либо, он остался им в наши дни.
Если многие из нас к нему возвращаются, тут дело не в моде, не в поветрии. Или по крайней мере я вижу простую и глубокую причину, вызвавшую такое поветрие: если мы возвращаемся к Моцарту, то просто-напросто потому, что нуждаемся в надежде.
Здесь, в унылой Европе, где-то высоко-высоко, далеко-далеко от баррикад и траншей, от всего, что гонит в битву враждующие классы и непримиримые племена, поет в лучах полудня невидимый жаворонок, и пенье его доносится до нашего слуха. И мы уверены, что он существует, этот рай, этот мир Моцарта, для описания которого нет языка, которого не воссоздать словами и смутное представление о котором дает, быть может, один только Бодлер – в этих стихах, которые все мы знаем:
О, как ты стал далек, утраченный Эдем,
Где синий свод небес прозрачен и спокоен,
Где быть счастливыми дано с рожденья всем,
Где каждый, кто любим, любимым быть достоин, —
О, как ты стал далек, утраченный Эдем!
Свидетель первых встреч, эдем еще невинный, —
Объятья и цветы, катанье по реке,
И песнь, и треньканье влюбленной мандолины,
А вечером – вина стаканчик в уголке, —
Свидетель первых встреч, эдем еще невинный!
Для чистых радостей открытый детству рай,
Он дальше сказочной Голконды и Китая.
Его не возвратишь, хоть плачь, хоть заклинай,
На звонкой дудочке серебряной играя, —
Для чистых радостей открытый детству рай 1.
1Ш. Бодлер. Цветы зла. М., «Наука», 1970, с. 98. ( Пер. В.. Левика.)
Критика критики
Если верить моим собратьям по перу, они не читают ничего, что печатается по поводу их произведений. Что до меня, то ни время, ни привычка не смогли притупить удовольствие, которое я испытываю, пробегая ежеутренне вырезки из периодики. Думаю, что я не вношу в разбор их ни малейшего авторского самолюбия: мне случается не дочитывать дифирамбов и перечитывать дважды или трижды абзац со злейшими нападками, если он проливает хоть сколько-то света на мое произведение, на меня самого или на личность критика.
Едва ли стоило бы строить иллюзии по поводу писателя, который, прожив полжизни, не приобрел бы способности судить своих собственных судей без всякой предвзятости и не извлекал бы пользы из множества противоречивых суждений, атакующих его каждое утро.
И вот я стараюсь прислушиваться ко всем своим критикам – за исключением тех немногих, которые судят нечестно, потому что подвластны страсти, к литературе отношения не имеющей: мы убедились по опыту, что в такой-то или такой-то газете статья, нам посвященная, неизменно со всей точностью фиксирует температуру наших отношений с той партией, органом которой эта газета является.
При потреблении критики в больших дозах (а мне последнее время приходится поглощать как раз такие), несмотря на разнообразие противоположных оценок, создается четкое впечатление: за примечательными исключениями, то, что критик осуждает и отвергает, как раз и составляет самую нашу суть, то, что свойственно только нам.
В этом смысле весьма знаменательно почти полное единодушие критиков, упрекающих одного известного мне автора за выбор персонажей. Герой «Черных ангелов» Габриель Градер сродни персонажам Карко * с их свободой от всех предрассудков. Выведи его Карко, такой персонаж никого не испугал бы, показался бы человеком почти обычным, потому что его случай никак не был бы связан с вечностью. «Мсье Франсис» наделен уникальным даром – он так напишет торговца наркотиками, сутенера, шантажиста, что те покажутся нам знакомыми и близкими. В моем же случае критикам становится не по себе из-за того, что всем своим персонажам я придаю невольно некую устремленность в область метафизического. Я – метафизик, работающий с конкретным материалом. Благодаря некоторому умению воссоздавать атмосферу я пытаюсь сделать ощутимым, осязаемым, обоняемым католический мир зла. Я претворяю во плоть того самого грешника, абстрактное представление о котором дают нам богословы.
Стало быть, когда критик упрекает меня за выбор персонажей, упрек его бьет мимо цели: персонажи мои – такие же люди, как у всех. На самом деле ему следовало бы ополчиться против меня самого, ведь не кто иной, как я, повинен в том, что любое человеческое существо у меня под пером сразу же становится типом, который внушает чуть ли не ужас и которому нет оправданий, – персонажем Мориака.
И точно так же, когда критик решает, что вы не являетесь истинным романистом и роман ваш совсем не то, что настоящий роман, когда он противопоставляет вам, дабы стереть вас в порошок, Бальзака и Достоевского, все то, чего он не приемлет, оказывается как раз тем, что отличает вас от этих великих старцев, – иными словами, это и есть ваша суть.
Вполне законно заявить писателю, притязающему на то, что он написал трагедию в духе классицизма: «Ваша трагедия не отвечает канонам классицизма, поскольку в ней меньше пяти актов и не соблюдено правило трех единств»; но в равной же мере бессмысленно устанавливать каноны романа, исходя из творчества Бальзака, Толстого или Флобера, и изгонять из предела жанра всякое произведение, расходящееся с образцом, за коим критик собственной своей властью утверждает звание «настоящего романа».
Как раз это отличие, это расхождение и дает писателю шанс выжить в литературе. Да не подумают, что во мне говорит тщеславие: на мой взгляд, всякая литературная эпоха выбрасывает за борт избыточный груз в виде романов, и, следовательно, для каждого из нас шанс выжить в литературе ничтожен. Но если бы мы удостоились счастья дожить до отдаленного будущего, это оказалось бы возможным благодаря как раз тому в наших произведениях, что несводимо к общему знаменателю, что составляет исключительно нашу собственность, пусть это даже недостатки, ограничивающие нас и мешающие нам дорасти хотя бы до щиколотки великих предшественников.
Никто сегодня не подумает упрекнуть Мане за то, что он писал в манере Мане. Но при жизни Мане все упрекали его за то, что он – Мане. «Когда же наконец г-н Икс покажет нам счастливых влюбленных, персонажей нормальных и добродетельных? Когда же начнет он писать длинные романы, как Достоевский? Когда же займется общественными вопросами? Когда же отучится от своей торопливости? Когда же наконец выработается у него другая манера, взамен его собственной?»
Такого рода упреки и требования в той или иной степени всегда производят на писателей впечатление (особенно, когда какой-нибудь критик заявляет сурово и притом в разговоре, как случилось на днях со мною: «Ваша книга рассказала мне о вас такое, о чем я и не подозревал». Хотя у меня не хватит сил задушить человека, я инстинктивно спрятал руки в карманы). Да, частенько под впечатлением статей моих критиков я подумывал, а не написать ли мне историю какой-нибудь святой девочки – этакой сестрицы Терезы Мартен *. И когда Моцарт отворил мне врата своего рая, я размечтался – а вдруг по воле его в мои произведения впорхнут ангелы не из разряда черных. Но как только я сажусь за работу, все окрашивается в вечные мои цвета; самые привлекательные из моих персонажей оказываются освещены неким сернисто-желтым светом, характерным для меня; я не защищаю его, просто-напросто он – мой.
«Г-н Мориак подписал приговор, согласно коему обрек себя навечно оставаться г-ном Мориаком», – написал недавно по поводу последней моей книги некий простодушный юный критик. Смертный приговор? Нет, обещающий жизнь или, вернее, шанс выжить в литературе. Ведь средство литературного спасения для автора – если он достоин спасения – в абсолютной невозможности для него быть кем-нибудь, кроме самого себя. Художник, который может быть не собою, а кем-то другим, который работает поочередно в манере то одного, то другого живописца или писателя, обречен заранее; как ему уцелеть во времени, если он не существует? Что до меня, то степень грозящей мне опасности такого рода я ощущаю в зависимости от того, какую роль играет в том или ином моем сочинении мой авторский произвол (порожденный самоограничением, боязнью вызвать негодование и т. п.).
Итак, по-моему, хорошим критиком можно назвать того, кто судит о писателе, отнюдь от него не требуя, чтобы тот был не самим собою, а кем-то другим, но вглядывается в исследуемое произведение, стараясь понять, сумел ли автор сохранить верность законам созданного им мира, пользовался ли он лишь собственными природными дарованиями, не прибегнул ли к определенным рецептам, к определенным модным приемам. Критик должен требовать прежде всего, чтобы романист не отрекался от самого себя, чтобы он не пыжился кому-то в подражание. На мой взгляд, не пристало критику прибегать к невыгодным сопоставлениям, дабы успешней разделаться с анализируемой книгой: ведь задача любого художника не в том, чтобы следовать по стопам великих мастеров, но в том, чтобы выявить полностью собственный скромный дар. Хороший критик – тот, кто требует от нас одного: чтобы каждый художник стремился до конца осуществить в творчестве свои возможности, не пытаясь выйти за их пределы. Нет такого универсального правила, которое позволяло бы критику выносить нам смертные приговоры. Хороший критик, изучая определенного автора, не станет искать пробный камень вне его творчества.
Когда книга не удалась – в том случае, если речь идет о настоящем писателе, – это случается всегда не потому, что писатель этот нарушил то или иное требование жанра (не существует никаких правил, с помощью коих можно было бы написать хороший роман), а потому, что он изменил тому внутреннему своду законов, который позволил Колетт написать «Шери» *, а Шардону – «Сентиментальные судьбы» *; и равным образом свод законов, созданный Колетт, не имеет ни малейшей ценности для Шардона; если бы Колетт отважилась окунуться в стихию этого романиста, она задохнулась бы. Пусть нас судят и пусть выносят приговор не в нашу пользу, если необходимо; но пусть судят нас по нашим собственным законам.
Еще несколько замечаний по поводу критики
Г-н Робер Бразийак * согласен со мною, что долг критика, исследующего произведение, – запретить себе уничтожать оное убийственными сравнениями с книгами писателей масштаба Бальзака или Толстого. Но, по его словам, критику никак не избежать такого рода сопоставлений, если он пытается определить место, которое какой-либо современный автор займет в литературе, поскольку, как полагает господин Бразийак, задача критика состоит в том, чтобы предугадать приговор потомства.
Я со своей стороны нахожу такого рода пророчества бесполезными и пустопорожними. В них нельзя усмотреть ничего, кроме школьной привычки: нам все кажется, что мы в классе. Ребенком я полагал, что Ламартин и Гюго занимают место ex aequo 1, Мюссе (Альфред) – на втором, Виньи (Альфред) – на третьем, Лапрад * (Виктор) и Делавинь * (Казимир) – на четвертом и так далее...
1На одном и том же уровне ( лат.) .
Да, но кто же те писатели, которые сыграли в нашей жизни самую существенную роль, кто из писателей и поныне помогает нам жить? Где они, спутники нашей молодости, оказавшие на нас влияние, какого не оказал ни один из живых наших друзей? Первые же имена, что приходят нам на память, принадлежат писателям, не поддающимся классификации.
Какое место, например, отвести Морису де Герену, отроку, затерявшемуся среди оракулов романтизма? Когда после его смерти Жорж Санд посвятила Герену очерк, напечатанный в «Ревю де де монд», отец Лакордер * удивился до крайности: он знал Мориса, то был чрезвычайно изысканный молодой человек, по его словам, но и только, в глазах великого доминиканца он был самым незначительным из всех учеников, которых Ламенне * привлек в Ла-Шене. Два стихотворения в прозе, личный дневник, несколько юношеских писем – и в самом деле, нечем как будто блеснуть среди такого множества произведений высокой литературы, рожденных тою эпохой. А меж тем сколько нас – тех, кто сейчас, в тысяча девятьсот тридцать шестом году, любит Мориса, тех, кому он близок, тех, кто слышит его дыханье у себя в комнате, перечитывая в сотый раз ту или иную страницу из его дневника?
Да и Сент-Бёв был, пожалуй, вправе отвести «Цветам зла» место за пределами нормальной литературы, где-то на окраине литературной Камчатки. Томик Бодлера нечего и сравнивать с громадным зданием, возведенным Гюго, – такое сравнение раздавило бы Бодлера. И Артюру Рембо не найдется места в официальном списке «лучших»... Случайность ли то, что все имена «исключений из правила», приходящие мне на ум, – имена как раз тех поэтов, которые занимают в учебниках литературы место ничтожное либо никакое, несопоставимое с тем, которое занимают они в сердцах немногих французов, еще интересующихся поэзией?
Стало быть, для критика сущность вопроса заключается не в том, чтобы установить, равнозначен ли данный автор Бальзаку или Толстому, а в том, чтобы выяснить, существует ли этот автор как некая самостоятельная «планета», образует ли он отдельный мир, доступный какому-то числу людей, родной им мир, который они предпочитают всем остальным.
Потомство классифицирует «светила» по их значимости. Но есть величие и величие: если Гюго несравненно более велик, чем Рембо, то влияние Рембо на тех, кто его любит, куда сильнее, чем влияние Гюго на его поклонников. Чья внутренняя жизнь претерпела хоть какие-то изменения под воздействием Гюго? А вот «Озарения» и «Сквозь ад» позволили юноше Клоделю почти физически ощутить мир невидимого.
Что проку в попытках предсказать иерархию, которую установит потомство и которая к тому же никогда не станет окончательной? Век спустя после смерти писателя вокруг него еще ведутся споры. Зато за каждым из нас – в меру нашей одаренности критическим умом – сохраняется право изучить произведение литературы, как изучают континент, исследовать его фауну, флору, пейзажи, атмосферу; выяснить, пригоден ли этот континент для обитания, есть ли вероятие, что там осядут поселенцы – в смысле духовном, – что они выживут там за счет природных богатств континента и обнаружат новые его сокровища.
Это последнее обстоятельство имеет решающее значение: иные величайшие творения, как, например, творения Ламартина и Гюго, сразу же открывают нам все богатства, которыми располагают; французская литература составила опись этих богатств и раз и навсегда внесла их в свою сокровищницу. Но есть творения, с виду куда более скромные и ограниченные, которые поддаются инвентаризации лишь мало-помалу. Они богаты залежами, которые долго таятся под спудом. Хороший критик подобен искателю источников: исследуя любимую книгу, он открывает у нас под ногами родники, неведомые нам прежде. И пусть они немноговодны, пусть даже текут с перебоями, что нам до того, если они дарят нам куда больше свежести, чем грандиозные официальные каскады?
Будь мне позволено говорить свободно о работах моих современников, я попытался бы разграничить их на те, которые представляются мне «мирами, где жизнь возможна», и те, которые я назвал бы искусственными «светилами», произведениями, собранными из разнородных элементов и при всем внешнем блеске обреченными кончить на свалке ржавого железа. И надо бы отвести особое место тем, которым, возможно, и суждена долговечность, но лишь как музейным диковинам, мимо которых люди проходят, даже не помышляя о том, чтобы отвести им какое-то место в тайной драме собственной жизни.
Впрочем, что, в сущности, хотят сказать, когда утверждают, что такой-то автор останется жить в литературе? Идет ли речь о нем самом или о его книгах? Это разные вещи. Лишь считанным произведениям литературы, таким, как «Опыты» Монтеня или трагедии Расина, удается выжить не только в учебниках: их читают по-прежнему, над ними думают, они оказывают влияние на чьи-то судьбы.
Чаще же всего нас интересует личность самого автора, и из книг его нас привлекают лишь те, откуда мы можем почерпнуть сведения о нем самом: из всего Руссо мы теперь читаем только «Исповедь», из Шатобриана «Замогильные записки», а из Вольтера переписку («Кандид» – особая статья).
Эти великие люди пережили собственные творения, и, как мы ни ничтожны, как ни мало у нас шансов остаться в людской памяти, все же у нас их больше, чем у наших книг Во всяком случае, из забвения выплывут лишь те страницы, которые проливают какой-то свет на неведомые стороны нашей собственной жизни.
Но ведь, возразят мне, когда живущего ныне писателя сопоставляют с великими предшественниками, то как раз для того, чтобы определить, входит ли его произведение в разряд тех, которые существуют помимо своего автора, которым свойственна характерная черта классики – оставаться в живых благодаря собственным своим достоинствам; «Андромаха» и «Федра» интересуют нас бесконечно больше, чем Расин.
Тут критик, выказав себя пессимистом, не пойдет на особый риск, поскольку большинство книг – из породы однодневок: они рождаются и умирают у нас на глазах, и это дает писателям право незамедлительно поставлять им на смену новые, благодаря способности высиживать свои детища беспрерывно, что свидетельствует о грозной их плодовитости и чудовищной регулярности.
Итальянское искусство в Пти-Пале *
Не возвещал ли он крушение целого мира, этот хоровод сокровищ, уносимых предураганным вихрем – подобно пылинкам или сухим листьям – далеко-далеко от родного неба? Накопления за шесть веков. Прощальное обозрение богатств. Судный день. Великая эпоха, пущенная с молотка.
И люди толпами пытались постичь тайну красоты. Они не платили дань снобизму. Было очевидно, что большинство уже миновало стадию «Такого упускать нельзя...». Сколько искреннего восторга в трогательно расширенных глазах! Непереносимы были одни лишь знатоки, преподаватели эстетики: «Взгляните, – вещал один из них, мужчина в куцем пиджачке, с остроконечной бородкой и при пенсне, разглагольствовавший перед «Обручением Марии» в окружении послушного стада, – взгляните, вот следы влияния Перуджино *: Рафаэль не умел еще правильно писать ноги. Посмотрите, как неудачно поставлена вон та...» И дуралеям, внимавшим ему с разинутым ртом, в голову не приходило поднять глаза, полюбоваться торжественным свободным пространством над головами персонажей, безмятежным храмом, умиротворенным сельским пейзажем.
И тем не менее многие из тех, кто никогда ничего не смыслил в откровении, даруемом цветом и формой, прозрел внезапно, как то случается порою со слепорожденными. Чудо, которое не мог сотворить с ними ни один из музеев, свершилось, когда они оказались перед этим созвездием несравненных полотен, ныне навсегда рассеявшихся по свету.
Быть может, благодать потому осенила их, что картины эти, доставленные к нам из-за Альп, утратили вдруг застывший вид творений, созданных для вечности. Глядя на них, мы испытывали ощущение бренности, и оно придавало им то очарование, которым привязывают нас к себе живые люди, их фигуры, их лица, такие недолговечные.
Искусство представляет собою величайшее поражение, которое потерпели люди; или, если угодно, оно – ложная победа, видимость победы. Все труды величайших художников, стремящихся отделить красоту от того, что есть прах и во прах вернется, закрепить ее в своем творении, одарить вековечностью, неизменно оказываются тщетными. В мирные периоды мы поддаемся иллюзии, что человеческий гений властен выхватить чьи-то лица, какие-то отражения из быстротечности всего сущего. И речь не только о восхитительной прелести тех, кто, вернувшись давным-давно во прах, дышит на полотне трепетной юностью и жизнью, кто пятьсот лет спустя еще волнует нам сердце, и оно бьется быстрее; нет, тут само время притязает на то, чтобы обрести бесконечность, оно осталось живым на полотне, это время – не обретенное, но остановившееся, вернее, остановленное всемогуществом художника: именно эта пора года, именно эта часть дня, благословенный миг, последний луч солнца, последнее дуновенье теплого ветерка на исходе погожего дня... И мало того, что эти юноши и девушки едва вышли из отрочества, что сельский пейзаж, на фоне которого они любят друг друга, такой теплый и золотистый: в завершение полноты человеческого счастья музыка «Сельского концерта» * возносится в безмятежное небо, к притихшей листве деревьев. И так как в этом мире, существующем вне пространства, не страшен никакой анахронизм, мы знаем, какая из моцартовских мелодий дарует им радость.
В Пти-Пале мы избавились от этой иллюзии, поняли, что обманывались. Эти очарованные миры так же бренны, как их создатели. Мы знаем, что они таковы по природе и что общественные смуты и война, по-видимому, ускорят их конец. Но конец этот предрешен не только свойствами материи, из которой они сотворены, но и свойствами дарованной им души, которая жива лишь в единении с нашей. Меж тем наш мир изо дня в день скудеет душою: что останется от шедевров среди племени варваров, неспособных более испытать на себе их воздействие? Уже на выставке в Пти-Пале я видел, как чьи-то тупые взгляды сводят на нет Рафаэля, Тициана, Джорджоне, Тинторетто.
Вот чем можно утешаться при мысли о том, что мы почти не в состоянии помешать медленной гибели этих полотен. Губительнее всего для них реставраторы: реставраторы их бесчестят. Там, где потрудились американские химики, от живого дыхания гения не остается ничего. Новый Свет покупает у Старого шедевры и отсылает ему обратно трупы.
Ах, в конце концов, даже гибель этих полотен значила бы не так уж много, сохрани мы способность уважать в самих себе ту человеческую суть, которая их сотворила. Но гибель грозит самому источнику – вот что непоправимо. Ошеломленные люди еще толпятся перед непостижимым наследием прошлых веков, смутно ощущая его величие, ускользающее от них. Еще немного – и у них не останется даже взгляда для этих полотен, так возвышенно свидетельствующих об их утраченном достоинстве.
Тайна театра
Пьер Бриссон * прав, когда утверждает, что «нет театра вне стиля и без писателей» и что «пьеса прежде всего произведение для чтения, а уж потом для игры на сцене». Оценить драматурга по достоинству можно лишь по прочтении пьесы. Этот пробный камень так надежен и так беспощаден, что я не отважился бы применить его при оценке современников, даже если бы, себе на горе, должен был писать о новых пьесах!
Не вполне соглашаюсь я с Бриссоном, когда он пишет о наших великих классиках: «Спектакли по их произведениям теперь могут доставить удовольствие лишь от сверки с пьесой... Говоря по совести, невозможно утверждать, что мы воспринимаем горести Ореста как собственные и что роковая участь Федры вызывает у нас волнение, порождаемое сочувствием. В театральном смысле драма не представляет и не может больше представлять собою ценность... Мир классической пьесы таков, что постановка может только лишить его силы или обманчиво оживить...»
Мы полагаем, напротив, что лишь чтение позволит нам удостовериться в ценности пьесы и выяснить, насколько исполнители были ей верны. Со всем тем любая пьеса, даже «Федра», даже «Гофолия» *, создана прежде всего для того, чтобы ее играли. Наравне с великими произведениями музыки великим произведениям театра не обойтись без исполнителей, без основного их средства, а средство это – человеческий голос, весь человек.
Каждый год я читаю и перечитываю трагедии Расина. И все-таки после того, как я один раз видел Сару Бернар в «Федре» да один раз в «Гофолии», оба эти спектакля у меня в воспоминаниях занимают совершенно особое место – и это еще слабо сказано, – хотя перечитывал я обе пьесы бессчетное множество раз. Для меня Федра и Гофолия оживали, страдали воистину только в течение тех двух вечеров. То же самое скажу об Андромахе и Беренике, которые после ухода со сцены г-жи Барте * вернулись в царство теней.
Говоря по правде, нет драматургии без сценического воплощения. И немалое очарование театральных персонажей в том, что мы знаем: они могут обретать все новые и новые воплощения. Разумеется, с персонажами романа происходит то же самое: каждый читатель творит их образы сам, и можно утверждать, что существует столько Эмм Бовари, сколько было, есть и будет читателей и читательниц Флобера. Но в то время как при чтении романа воплощение это совершается потаенно и не может быть явлено другим людям, цель театра в том как раз и состоит, чтобы представить его «на подмостках», всем на обозрение.
Вот примета, по которой вы опознаете шедевр драматургии: никакие исполнители никогда не смогут исчерпать его до конца. Незадолго до смерти Люсьен Гитри * предлагал нам (а я так и не увидел!) новое толкование Тартюфа. Роль Федры так и осталась самой незаигранной из великих ролей и – по прошествии двух с половиною веков – самою нераскрытой. Вечная юность Федры! Сколько тайн она все еще скрывает!
И де Макс *, об игре которого столько спорили, создал Нерона, меньше всего на свете напоминавшего тех, которых видела Комеди-Франсез со времени своего основания: увядший подросток, то вкрадчивый, то неистовый, никому из остальных персонажей не уступавший в реальности и ставший для нас навсегда незабываемым.
А сколько есть еще других ролей! Создавать живые существа, как создавали их Расин и Шекспир, – значит создавать миры, исследованию которых не будет конца.
Великий драматург – всегда поэт, который дает режиссерам и актерам всех времен безграничную возможность творить. Если бы театральная постановка могла лишить силы «Полиевкта» *, «Гофолию», «Беренику» и «Гамлета», то Корнель, Расин и Шекспир были бы не Корнелем, Расином и Шекспиром, а третьестепенными сочинителями. Впрочем, почему бы не сознаться? Что до первого из сего списка, то, мне кажется, из пьес его лишь «Полиевкт» достоин фигурировать в ряду тех пьес, которым дарована вечная молодость. А потому об остальных его пьесах, в том числе «Горации» и «Цинне» *, можно было бы сказать вашими словами (и на сей раз я встретил бы их рукоплесканиями), а именно: «Только форма их сохранила для нас ценность до сих пор и что-то говорит уму...» Вот как раз то, что отличает эти пьесы от шедевров Расина: в них нет живых людей, – достаточно их прочесть.
Стало быть, нам нужны актеры – и великие актеры, – нужны режиссеры – и великие режиссеры – для того, чтобы герои и героини классического театра (и современного тоже!) беспрерывно обретали все новые и разноликие воплощения. Осмелимся сказать: неискупимая вина кинематографа состоит в том, что он полностью подавляет актеров и губит их. Внезапное исчезновение великих актеров совпадает с воцарением экрана, это бросается в глаза. Подобное обстоятельство не покажется бедою в Америке: у американцев в отличие от нас нет высокого наследия, которое нужно отстаивать, и у них кинематограф по праву занимает место, которое у нас он узурпировал. Но как отрицать, что у нас во Франции кинематограф способствует упадку в главном: он приближает конец нашего театрального искусства, которое не имело себе равных в Европе, а теперь не находит зрителей.








