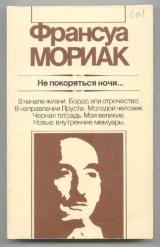
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Конечно, всем нам ведомо это искушение: опубликовать книгу, которая ни в чем бы не была похожа на то, что мы делали до сих пор, Порой я задавался вопросом: сумел ли бы я написать детектив или приключенческий роман с единственной целью развлечь читателя и держать его в напряжении? Возможно, я напишу такую книгу, но как принудительное задание, и она будет сильно уступать сочинениям профессионалов, набивших руку на подобной работе.
«Вы никогда не пишете о народе», – упрекают меня популисты *.
Но зачем принуждать себя к описанию среды, которую едва знаешь? В сущности, не имеет почти никакого значения, кого выводить на сцену: герцогиню, буржуазку или уличную торговку зеленью, главное – добраться до человеческой истины; и Прусту удается это как в отношении Германтов, так и Вердюренов; он раскрывает ее в бароне де Шарлюсе в той же мере, что и в служанке Франсуазе, уроженке Комбре. Этот подземный пласт собственно человеческого, до которого нужно добраться писателю, обнажается как в светской, так и в трудовой, полной забот жизни. Каждый из нас копает там, где родился или жил. Нет светских и народных писателей, а только плохие и хорошие. Итак, пусть каждый возделывает свое поле, каким бы маленьким оно ни было, не пытаясь оставить его, если ему этого не хочется, и – повторим вслед за одним из персонажей Лафонтена – «вложите в землю труд, земля не подведет» *.
Признаемся, однако, порой писатель страдает, сознавая, что, по сути, пишет всегда одну и ту же книгу и что все те, какие он уже сочинил, – лишь наброски произведения, которое он силится создать, никогда не достигая цели. Для него речь идет не о поисках нового, а, напротив, о том, чтобы, набравшись терпения, опять и опять начинать все сначала – вплоть до того дня, когда у него, возможно, появится надежда, что он наконец добился того, к чему упорно стремился, с тех пор как вступил в литературу. Писатели тщеславны, но у них куда меньше гордости, чем принято думать. Я знаю многих романистов, которые затрудняются ответить на вопрос, какие из своих книг они предпочитают, потому что все уже опубликованные произведения кажутся им лишь более или менее интересными по замыслу, но неудавшимися пробами, незавершенными набросками неведомого шедевра, который они, возможно, никогда не напишут.
* * *
За самым объективным романом – если речь идет о прекрасном, о великом творении – всегда скрывается драма жизни писателя, борющегося один на один со своими демонами и сфинксами. Но, может быть, гениальные достижения отличаются как раз тем, что эта личная драма ни в чем внешне не выдает себя. Очень понятно, почему Флобер сказал свою знаменитую фразу: «Госпожа Бовари – это я», однако нужно время, чтобы вдуматься в нее, – до того на первый взгляд трудно представить, что автор лично замешан в подобной книге. Это потому, что «Госпожа Бовари» – шедевр, то есть произведение, сработанное как бы из одного куска, которое воспринимается целиком, как законченный мир, существующий отдельно от своего творца. Чем менее совершенно наше произведение, тем больше оно выдает нас: сквозь щели романа проглядывает измученная душа несчастного автора.
Однако лучше уж такие полуудачи гения, в которых не достигнут синтез автора и его творения, чем написанные как бы со стороны, ловко построенные сочинения писателя без души или же писателя, который не хочет, не решается или не умеет отдаться целиком своему произведению.
Сколько раз, читая иную книгу или следя за развитием творчества писателя, я хотел крикнуть автору: «Забудьте о себе, доверьтесь своим чувствам, оставьте расчеты, не щадите себя, не думайте ни о читателях, ни о деньгах, ни о почестях».
Жизнь всякого писателя, каков бы он ни был, – если только это действительно большой художник – в конечном счете сводится к борьбе, часто смертельной, с собственным творением. Чем оно мощнее, тем сильнее порабощает его. Иногда оно навязывает ему жесточайший режим, так как то, что способствует творчеству, часто убивает романиста. Одних, как Флобера, творчество обрекает на своего рода пожизненное заточение, другие, как Пруст, вкладывают в него свое последнее дыхание и даже в агонии продолжают питать его своим существом.
Если художник болен, как это было в случае Флобера и Пруста, то его творение вступает в сговор с болезнью и использует ее в своих целях. Паскаль говорил, что болезнь – естественное состояние христианина; с еще большим основанием это можно сказать о писателях. Эпилепсия Флобера, астма Пруста изолировали их от мира, принудили к заточению и держали взаперти между столом и постелью. Но в то время как первый искал выхода в книгах, Пруст знал, что вместе с ним в его обитой пробкой комнате заперт целый мир, знал, что в этих четырех стенах, в его жалком, сотрясаемом кашлем теле больше воспоминаний, чем если бы он прожил тысячу лет, что он хранит в себе и может извлечь из себя эпохи, общественные классы, времена года, поля, дороги, словом – все, что он знал, любил, вдыхал, выстрадал: все это было ему дано в его окуренной лекарствами комнате, из которой он почти никогда не выходил.
Но болезнь не только навязывает образ жизни, подходящий для работы. Эпилепсия Достоевского оставила глубокий след на всех его персонажах, отметила их своим знаком, по которому их сразу узнаешь, и именно она сообщила особую загадочность созданным им человеческим характерам. Все недостатки, все отклонения художника – если это гений – тоже служат его творчеству, оно использует их, чтобы распространиться в тех направлениях, куда никто еще не рискнул заглядывать. Закон наследственности, который правит человеческой семьей, относится также к писателю и его воображаемым духовным детям; но – будь у меня время и смелость, я постарался бы это доказать – в мире романа случается, что недостатки творца не только не вредят существам, которых он рождает, но даже обогащают их.
Зато если романист – человек уравновешенный и физически крепкий, каким был, например, Бальзак, то его творение будет расти до тех пор, пока, не уничтожит гиганта, породившего его. Мир, поднятый Бальзаком, обрушился на него и раздавил. Если же творению не удается прикончить художника, оно превращает его в особое существо, стоящее над другими людьми, оно внушает ему стремления и требования, не отвечающие обычным условиям жизни: когда Толстой женился, он был еще такой, как все, и он обзавелся семьей, но, по мере того как он становился великим художником, по мере того как формировалось его учение и он стал ощущать, что внимание всего мира приковано к малейшим его жестам, его семейная жизнь понемногу превращалась в настоящий ад.
Впрочем, не будем впадать в отчаяние: такова судьба лишь очень больших писателей, а творения большинства из нас, честно говоря, не так уж опасны. Они не только не пожирают нас, но ведут усыпанной цветами дорогой к признанию любезных читателей и высоко ценимым почестям. Мы научились укрощать и приручать чудовище, и тем легче, чем оно слабее... увы! Во многих случаях можно спросить, живо ли оно еще? Да и что, нам бояться какого-то соломенного пугала? Романист, наладивший серийное производство картонных персонажей, может быть совершенно спокоен. Случается, впрочем, что в былые времена он создавал и живых, но наше произведение часто умирает раньше нас, а мы остаемся жить, жалкие, осыпанные почестями и уже забытые.
* * *
Я хотел бы, чтобы эти строки возбудили у читателей сложное чувство по отношению к роману и романистам – сложное, как сама жизнь, изображение которой составляет наше ремесло. Эти несчастные люди, к которым я принадлежу, все же заслуживают жалости и, возможно, некоторого восхищения за то, что отважились на столь безрассудное дело и продолжают в своих книгах фиксировать, останавливать движение и время, очерчивать четким контуром чувства и страсти, тогда как в действительности наши чувства непостоянны и страсти беспрерывно развиваются. Точно так же, вопреки уроку Пруста, мы упорно продолжаем говорить о любви как об абсолюте, тогда как в действительности мы ежесекундно бываем глубоко равнодушны к самым любимым людям, но зато, несмотря на неизбежный закон забвения, ни одна любовь никогда не умирает окончательно в нашем сердце.
Переменчивого и сложного человека Монтеня мы превращаем в ловко пригнанную конструкцию, которую разбираем на части, деталь за деталью. Наши персонажи рассуждают, у них ясные, четкие мысли, они делают именно то, что хотели сделать, и действуют, руководствуясь логикой, в то время как в жизни основу нашего бытия составляет бессознательное и мотивы большинства наших поступков ускользают от нас самих. Всякий раз, когда мы описываем событие таким, как наблюдали его в жизни, именно это место в нашей книге критика и публика почти всегда находят неправдоподобным и невероятным. Это доказывает, что человеческая логика, которая вершит судьбы героев романа, не имеет почти ничего общего с темными законами подлинной жизни.
Но если мы не в состоянии преодолеть присущее роману противоречие и передать ту величайшую сложность жизни, которую призваны запечатлеть, если не можем взять приступом это огромное препятствие, нельзя ли как-нибудь обойти его? Это значило бы, как мне думается, откровенно признать, что современные романисты были слишком самонадеянны. Речь идет о том, чтобы смиренно отказаться от соперничества с. жизнью. Речь идет о том, чтобы признать, что искусство по самой своей природе искусственно и что, даже если нам не дано охватить реальность во всей ее сложности, можно тем не менее выразить определенные аспекты человеческой истины, как это делали в театре великие классики, используя самую что ни на есть условную форму пятиактной трагедии в стихах. Придется признать, что искусство романа – это прежде всего транспонировка,а не воспроизведение действительности. Разве не поразительно, что, чем больше старается писатель ничего не упустить из ее живой сложности, тем сильнее ощущение искусственности? Что может быть неестественней и произвольней тех ассоциаций идей, на которых строится внутренний монолог у Джойса? То, что происходит в театре, могло бы послужить нам уроком. С тех пор как звуковое кино стало показывать реальных людей на природе, реализм современного театра, его рабское подражание жизни кажутся в силу сравнения верхом искусственности и фальши; мы начинаем догадываться, что театр избежит смерти, только если вернется к своему истинному призванию, то есть к поэзии. Ему доступна правда о человеке, но только через поэзию.
* * *
Сейчас роман как жанр тоже зашел в тупик. И хотя лично я испытываю перед Марселем Прустом восхищение, которое с годами лишь усиливается, я убежден, что он буквально неподражаем и что искать выхода в том направлении, в каком он отважился пойти, напрасный труд. В конце концов, разве человеческая истина, раскрытая в «Принцессе Клевской», в «Манон Леско», «Адольфе», «Доминике» или «Тесных вратах», так уж незначительна? И разве в классических «Тесных вратах» психологический вклад Жида меньше, чем в «Фальшивомонетчиках», написанных по самым новейшим эстетическим принципам? Признаем же смиренно, что персонажи романа – не живые люди из плоти и крови, а лишь их транспонированное и стилизованное изображение. Согласимся с тем, что правда доступна нам лишь в преломлении. Нужно смириться с условностями и ложью нашего искусства.
Мы недостаточно задумываемся над тем, что даже при самом точном изображении действительности роман лжет уже в силу того, что герои объясняются и рассказывают о себе. Потому что в судьбах людей, особенно много перестрадавших, слова мало что значат. Драма живого существа почти всегда протекает и развязывается в молчании. В жизни главное никогда не высказывается. В жизни Тристан и Изольда разговаривают о погоде, о даме, которую они утром встретили, и Изольда заботливо спрашивает Тристана, достаточно ли хорош кофе. Роман, во всем подобный жизни, будет в конечном счете состоять из одних многоточий. Потому что любовь, являющаяся основой почти всех наших книг, представляется мне самой молчаливой из всех страстей. Герои романа живут, если можно так сказать, на: другой планете – на планете, где человеческие существа объясняются, открывают душу и анализируют себя с пером в руках, ищут сцен, вместо того чтобы избегать их, подчеркивают и предельно упрощают свои смутные, неопределенные чувства и, вырвав из широкого живого контекста, рассматривают под микроскопом.
И тем не менее благодаря всей этой фальсификации были частично раскрыты великие истины. Эти вымышленные, ирреальные персонажи помогают нам лучше понять самих себя, осознать, кто мы такие. И не герои романа должны рабски следовать жизни, а, напротив, живые люди должны извлечь урок из анализа великих романистов и понемногу перестроиться. Великие романисты дают нам то, что Поль Бурже назвал в предисловии к одной из своих первых книг иллюстрациями к анатомии морали *. Каким бы живым ни казался нам литературный персонаж, романист всегда гипертрофирует какое-нибудь одно его чувство, одну страсть, чтобы позволить нам лучше изучить их; какими бы живыми ни казались нам эти герои, они всегда несут определенную мысль, их судьба содержит урок, мораль, которой мы никогда не найдем в реальной судьбе, всегда запутанной и исполненной противоречий.
Герои великих писателей, даже если автор не стремится ничего доказать или проиллюстрировать, всегда владеют истиной, которую мы можем не разделять, но которую каждому из нас дано открыть и применить. И наверное, смысл и оправдание нашего абсурдного и странного ремесла как раз и состоит в создании этого идеального мира, благодаря которому живые люди могут лучше разобраться в собственной душе и отнестись друг к другу с б о льшим пониманием и жалостью.
Многое нужно простить писателю за тот риск, на который он постоянно идет. Потому что писать романы совсем не безопасно. Помню название одной книги – «Человек, который потерял свое я». Так вот, романист каждый миг ставит на карту свою личность, свое «я». Как рентгенолог подвергает опасности свое тело, так писатель рискует сам о й целостностью своей личности. Он играет всех своих персонажей, превращается в демона или ангела. Он далеко заходит в воображении – как в святости, так и в подлости. Но что же остается от него самого после этих многообразных и противоречивых перевоплощений? Бог Протей *, меняющий по желанию образ, в сущности, не является никем, так как может быть всяким. Вот почему писателю, больше чем любому другому человеку, необходима надежная опора. Он должен противопоставить силам распада, без передышки воздействующим на него – я говорю «без передышки», потому что романист никогда не перестает работать, даже и особенно тогда, когда его видят отдыхающим, – другую, более могучую силу; он должен восстановить свое внутреннее единство и упорядочить свои многочисленные противоречия на незыблемой, как скала, основе; он должен кристаллизовать противоборствующие силы своего существа вокруг Того, кто никогда не меняется. Внутренне расколотый и тем обреченный на гибель, писатель спасется лишь в Единстве, он вернется к самому себе, только вернувшись к Богу.
МОИ ВЕЛИКИЕ
Бальзак
Пятнадцатилетний мальчик по имени Поль Бурже как-то вошел в читальню на улице Суфло и попросил первый том «Отца Горио».
Был час дня, когда он начал читать. Когда же юный Поль, проглотив книгу целиком, вышел из читальни, было семь вечера.
«Меня пошатывало – так сильны были галлюцинации после этой книги, – пишет Бурже. – Интенсивность видений, в которые погрузил меня Бальзак, произвела во мне такое же действие, какое производит алкоголь или опиум. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вновь освоиться с реальностью окружающего мира и с собственной убогой реальностью...»
Случай открыл перед ним как раз ту дверь, через которую и надо вступать в «Человеческую комедию». Нет, не потому, что «Отец Горио» выше остальных произведений Бальзака; просто этот роман представляется мне чем-то вроде центральной поляны в парке. Отсюда отходят широкие аллеи, которые Бальзак проложил в чаще человеческого леса. Дом Воке, куда мы попадаем с первых же страниц, этот «семейный пансион», чей затхлый, прогорклый запах будет преследовать нас еще долго после того, как мы закроем книгу, и тошнотворная обеденная зала с ящиком, в нумерованных отделениях которого нахлебники хранят свои грязные салфетки, – вот то гнездо, откуда вылетят бальзаковские персонажи, чтобы стать нашими проводниками. Отныне нам достаточно следовать за ними из тома в том, чтобы связать нити пересекающихся судеб, из которых соткана ткань «Человеческой комедии».
Одна из дочерей отца Горио, Дельфина де Нусинген, вводит нас в мир финансистов, вторая, г-жа де Ресто, любовница грозного Максима де Трая, раскрывает двери аристократического предместья, и с нею мы попадаем к виконтессе де Босеан. Юный Эжен де Растиньяк, нахлебник в пансионе Воке, – пока еще один из тех красивых хищников в возрасте, когда отрастают когти, хищников, которых провинция засылает в Париж и чьим изяществом и беспощадностью Бальзак восхищается. Великий врач «Человеческой комедии», знаменитый Бьяншон, которого * как гласит легенда, Бальзак звал во время агонии, пока еще студент: он изучает медицину и живет впроголодь. Но, главное, в «Отце Горио» мы впервые встречаемся с каторжником Вотреном, и эта встреча крайне важна для нас: он, человек вне закона, хранит в себе все тайны, все ключевые слова бальзаковской вселенной. С ним мы оказываемся в центре гигантского полотна; следуя за этим вожатаем, мы можем отправляться в путь без риска заблудиться.
Возможно, какое-нибудь другое произведение, к примеру «Евгения Гранде», смутило бы «начинающего». Но именно потому, что «Отец Горио» не достигает совершенства и мы в нем сталкиваемся с главным недостатком Бальзака, нам эта книга представляется наилучшим пробным камнем, позволяющим судить, есть или нет у неофита бальзаковские «склонности». Я знаю людей блистательного ума, которых Горио раздражает. Им не следует углубляться в «Человеческую комедию», в противном случае придется приготовиться к тому, что с каждым шагом поводы для раздражения будут множиться.
Отец Горио относится к тому разряду персонажей «Человеческой комедии», которые выделяются из всех остальных чудовищной гиперболизацией какой-то одной черты характера. Он не просто отец, он – Отец. Горио оставляет впечатление реального человека благодаря тому, что нам до малейшей черточки известна его внешность, а главное, благодаря тому, что он прочно укоренен в навознике дома Воке. Смрадные запахи, которые Бальзак вынуждает нас вдыхать, заставляют поверить в его физическое существование, придают этому «Христу-отцу» видимость жизни.
Обрисовывая его, автор выделил самое характерное, самое резкое: это буржуа, который удалился от дел и целиком посвятил себя двум своим дочерям, ставшим для него прямо-таки предметом идолопоклонства. Однако постепенно Бальзак придает этому старику черты существа, выходящего за рамки естественного, существа, беззаветного до тупости, способного руками скрутить еще остающееся у него столовое серебро, чтобы его «Нази» могла этим комом драгоценного металла заплатить долги своего любовника Максима де Трая, «одного из тех людей, кто способен и сирот пустить по миру». В зависимости от того, покорила или оттолкнула нас эта типизированная личность, мы довольно быстро либо поддадимся, либо воспротивимся чарам Бальзака.
Но именно в «Отце Горио» мы знакомимся с персонажем, являющимся антиподом отца-мученика, – с каторжником Вотреном, который поначалу тоже еще не кажется реальным человеком, хотя внешность его описана с тончайшим искусством; пока это – романтический герой второго плана, придуманный персонаж, не встречающийся в жизни, но мало-помалу Бальзак наделяет его своими собственными подавленными желаниями, собственным стремлением к господству, короче, всем тем, что предвещает в его натуре Ницше, и Вотрен от главы к главе индивидуализируется, облекается плотью, и вот уже в нем ощущается биение грозной жизни. Он отрывается от идеи, от абстрактного замысла, из которого родился, с ним происходит противоположное тому, что произошло с отцом Горио: тот поднимается до типа, Вотрен же снижается, опускается на землю и в конце концов превращается в личность, в индивидуальность.
Нет, он вовсе не кажется обычным человеком из плоти и крови, вылепленным из того же теста, что все, – он предвосхищает ницшеанского сверхчеловека. Вотрен высвобождает мрачных, безымянных демонов и олицетворяет безликие страсти; романист в нем вышел за рамки опыта, дал жизнь существу, лишь бледную тень которого можно встретить среди смертных. Вотрен мстит за писателя, увязшего в долгах, одураченного, травимого, не признанного критиками, обманутого герцогиней де Кастри и полячкой Ганской – в конце жизни Бальзак женился на ней, а она бросила его умирать в одиночестве; да, Бальзак тот же каторжник, попавший в кабалу к работорговцам.
Вотрен (его настоящее имя Жак Коллен), дважды бежавший с каторги, затаился под сенью дома Воке и опекает юного Растиньяка, надеясь через него обрести власть над обществом. Много позже, в «Утраченных иллюзиях», с красавцем де Рюбампре Вотрен достиг того, от чего отказался более щепетильный и одновременно более хитрый Растиньяк. Но уже с «Отца Горио» мы смутно провидим те бездны, где – Бальзак услаждает себя грезами. Писатель не доверяется ни письмам, ни даже своим дневникам. Одни лишь его творения рассказывают подлинную историю его жизни, которую он, возможно, и не прожил, но которую мечтал прожить. Как Люсьен де Рюбампре даст Вотрену странную возможность причаститься чужим упоениям, так в Вотрене высвобождается Бальзак, ученик Наполеона и предтеча Ницше, Бальзак, которого при жизни влекло к консерваторам, ко всем этим Фиц-Джеймсам, де Кастри, д'Абрантесам, который из политических соображений был сторонником и защитником христианства, но в сущности, как почти все равные ему, отстаивал неотъемлемое право выдающихся личностей подчиняться лишь такой морали, что соизмерима с ними.
Ни один исследователь «Человеческой комедии» в полной мере еще не раскрыл, до какой степени доходила смелость Бальзака, каких тем дерзал он касаться задолго до Андре Жида и Марселя Пруста. Начиная с «Отца Горио» читатель-новичок окунается в безнравственность, по сравнению с которой то, за что корят современных писателей, право же, вполне безобидно и может быть опубликовано в «Розовой библиотеке» *. Бальзак – историк общества, которое, спасшись от Революции, стремится, главным образом, к утолению своих аппетитов, тем более что при правлении Конгрегации * вера умерла в большинстве сердец и ее место заняли самые разнузданные страсти. Лишь государственная католическая религия еще вынуждает людей придерживаться хоть какой-то видимости приличий; знание света, учтивость, манеры, сохраненные в эмиграции, позволяют этим крупным хищникам маскироваться и скрывать свои повадки.
Юный Бурже, выйдя из читальни на улицу Суфло, пошатывался, потому что был опьянен горчайшим знанием: младенец вкусил от плода с древа познания. Отныне ему стало ведомо предельное отчаяние, в которое может повергнуть дочерняя неблагодарность, жестокосердие светских людей, способы, какими растлеваются сердца юных провинциалов, стали ведомы подонки общества и каторжники, низость иных особ, с виду вполне добродетельных, вроде девицы Мишоно, выдавшей Вотрена полиции. И только могучие плечи каторжника возвышаются над этим ничтожным человеческим сбродом.
Мы знаем, что Бальзак, скованный властью плоти куда сильнее, чем любой из молодых безжалостных денди, населяющих его книги, озарил «Человеческую комедию» неким сверхъестественным светом. Автор «Луи Ламбера», «Сельского врача» и «Изнанки современной истории» все знал, все предчувствовал – даже ток благодати, ту подземную реку, что незримо омывает мир. Бальзаковская вселенная, самая преступная из всех, созданных человеческим мозгом, при сравнении с ее ничтожными сателлитами, например со вселенной Золя, кажется излучающей духовность. Но это пламя еще не вспыхнуло в «Отце Горио», разве что сам Горио, заживо пожираемый дочерьми, может показаться читателю существом возвышенным, чего, несомненно, и добивался Бальзак. Признаемся, однако, что, на наш взгляд, в его старческой страсти, слепом болтливом культе, слабоумном идолопоклонстве, лишенном даже капли благородства, нет ничего величественного.
Героем этой книги является не выживший из ума Горио, а запятнанный преступлениями Вотрен.
Вне всякого сомнения, Бальзак и сам так считал, когда в последней главе поручил Эжену де Растиньяку вывести мораль книги. Вместе с лакеями дочерей-погубительниц он провожает гроб старика. Бальзак описывает, как на кладбище Пер-Лашез Растиньяк, оставшись в одиночестве, склонился над могилой и «в ней похоронил свою последнюю юношескую слезу» 1. И затем звучит брошенное юным честолюбцем городу: «А теперь кто победит: я или ты?» 2– слова, которые из поколения в поколение повторяет столько молодых французов.
1О. Бальзак. Собр. соч. в 24-х т., т. 2. М., «Правда», 1960, с. 526. ( Пер. Е. Корш.)
2Там же, с. 527
«И, бросив обществу свой вызов, он для начала отправился обедать к Дельфине Нусинген» 1. Эта немыслимая по жестокости фраза – последняя в книге; она открывает перед неофитом перспективы мира безжалостного, но таящего в себе множество наслаждений, куда читателю предстоит вступить и жить его страстями, не выходя из своей комнаты. Удовольствию этому способствует и то, что позже будет названо географией народонаселения, поскольку общество, созданное Бальзаком, тесно связано с нашими провинциями, причем им описываются и облик и обычаи каждой, так что вымысел все время идет рука об руку с историей великой страны.
«Отец Горио», являясь своего рода центральной психологической поляной «Человеческой комедии», связывает нас и с ее географическим центром – с Парижем, раскинувшимся по берегам излучины Сены, а из его районов – более всего с тем недоступным аристократическим предместьем, что расположено между Вандомской колонной и куполом Дома инвалидов.
Бальзак возвышает до своего уровня самые заурядные страсти, и то, что мы теперь именуем снобизмом,мгновенно утрачивает низменный характер, когда дело касается самого писателя или его героев. Действительно, в эпоху Реставрации салоны еще обладали политическим влиянием, и у вхожего в них молодого честолюбца радость удовлетворенного тщеславия предваряла куда более существенные победы.
Было время, когда знатные дамы Бальзака вызывали смех у представителей высшего света и даже у критиков наподобие Эмиля Фаге *, полагавшего, что он знает толк в герцогинях. Сегодня читателю «Отца Горио» они вовсе не кажутся столь уж забавными. Дельфина де Нусинген, Анастази де Ресто, виконтесса де Босеан такие же живые люди, как все те, чьи страсти, лицемерные или откровенные, переполняют «Человеческую комедию» и чьи ужимки до последней малости были доподлинно знакомы Бальзаку. Герцогиня де Кастри могла играть с этим несчастным великим человеком, с этим беззубым толстяком, но на самом-то деле это он навсегда сделал ее – в образе герцогини де Ланже – нашей игрушкой.
Бальзак избежал проклятья, тяготевшего над его Вотреном: чтобы познать светских дам, ему не требовался двойник, не нужно было вынуждать какого-нибудь Растиньяка или Рюбампре быть счастливым вместо себя. Г-жу де Берни он не любил, но она любила его без всяких посредников. Dilecta 2хоть и была на двадцать лет старше Бальзака, отдала ему столько страсти, что ее хватило, чтобы воспламенить всех любящих женщин в его книгах. Большинство из них, даже юных девушек, даже куртизанок вроде Корали и Эстер, г-жа де Берни наделила силой самоотречения состарившейся любовницы, подавляющей рыдания и не требующей ничего, кроме права до самой смерти оставаться у ног выросшего ребенка, на которого она продолжает смотреть материнским взором, даже когда для всего мира он стал блистательным гением.
1Там же, с. 527.
2Божественная ( лат.) .
Она, в буквальном смысле слова, поклонялась Бальзаку, и психология всех женщин в его книгах мечена знаком этого поклонения. Поистине, в «Человеческой комедии» повсюду, на всех уровнях, место бога занято. Это проявляется уже на каждой странице «Отца Горио». Творчество Бальзака, если рассматривать его под таким углом, представляется нам антихристианским по своей сути. На вопрос Христа: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» * – оно дает ответ, уже по существу ницшеанский. Бальзаковское человечество, рожденное под знаком Бонапарта, утверждает, что для него нет на свете иного дела, кроме как приобрести весь мир. Все оно целиком, за исключением нескольких восхитительных чудаков, не верит в существование у него души. Общество всех этих де Марсе и де Трай – общество без души, и, чтобы стать одним из них, Эжену де Растиньяку первым делом пришлось отречься от своей.
Но мы остережемся относить к самому творцу все то, что было сказано о его созданиях. Бальзак, несомненно, постиг на своих героях необходимость католической религии для обуздания животного начала в человеке, и нам также известно, что он почерпнул в этом смысле у Бональда и де Местра. Но его религиозная мысль идет гораздо глубже: противоречивая и непоследовательная, она, видимо, с самого детства следует прихотливым изгибам своего противоречивого пути. О личных взаимоотношениях, которые человек устанавливает с Христом и которые составляют сокровеннейшую часть его жизни, почти никогда не говорится впрямую.
В любом случае применительно к Бальзаку «Отец Горио» вряд ли окажется той книгой, которая сможет направить наши изыскания в нужную сторону. Все, кому дают приют засаленные стены дома Воке, алчны, каждый остервенело бежит по своему собственному следу и ни за что не оторвется от него, чтобы взглянуть на небеса. Там нет практически никого, кто не пошел бы на любую подлость ради того, чтобы возвыситься над другими или ради денег, никого, кто не решился бы на преступление. Каждый из них как бы до времени услышал призыв Заратустры: «Заклинаю вас, оставайтесь верны земле» 1, правда, придав ему самый низменный смысл.
1Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. СПб, 1913, с; 27. ( Пер. В. Изразцова.)
Гюстав Флобер
В один из январских дней 1844 года на понт-одмерской дороге у Гюстава Флобера случился первый приступ ужасной болезни, и он упал на дно кабриолета, которым правил. В тот день был нанесен смертельный удар его молодости. Хотя Флоберу еще не исполнилось и двадцати двух лет, он был сражен; в ту пору это был очаровательный юноша, и мы мысленно представляем тогдашний захолустный Трувиль и его – в красной фланелевой рубашке и синих суконных панталонах, стянутых в талии широким поясом. Он сам много позже писал Луизе Коле *: «Я был так великолепен – теперь я уже могу об этом говорить, – что привлекал к себе взгляды всего зала, как это случилось в Руане, на первом представлении «Рюи Блаза» 1.








