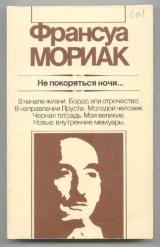
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
ЧЕРНАЯ ТЕТРАДЬ
Хорошо перечесть в августе 1943 года, в час, когда забрезжил рассвет, записи, сделанные мною три года назад, в пору самого густого мрака. Раскрываю «Черную тетрадь» и вижу на ее полях рядом с выдержками из елейных разглагольствований маршала * свое яростное бормотание.
«Нашей стране, как видно, свойствен некий рок, связывающий торжество традиционных принципов с военным поражением и господством врага...
Вы притворяетесь, будто верите, что народ Франции требует найти и покарать виновников поражения, а на самом-то деле стараетесь прикрыть этим свою мерзкую потребность угождать победителю.
Но если вы даже были искренни, История обвинит вас в том, что вы служили делу мести ваших хозяев и что вы старались купить их расположение ценой гекатомбы... Однако не надейтесь, что, распиная евреев с помощью своей полиции, вы избавитесь от обязанности уплатить победителю всю подать, всю до последнего обола.
Клеветники Франции, вы никогда не торжествовали иначе, как путем ее унижения, ее позора! Лекари-отравители воспользовались тем, что больной избит да еще и крепко связан, и заставляют его глотать их ядовитые зелья!
Ох, эти ежедневные «отклики в печати», где какой-нибудь мой замаскированный собрат доносит на меня, указывая на мою особу дрожащим перстом...
Ненависть, поднимающаяся в пронзенной груди Парижа, безмолвна, но ее немой крик перекрывает подлое шушуканье в редакциях...
Париж, которого некий сотрудник фашизированной «Нувель ревю Франсез» сравнивает с «гулящей девкой, когда она с трудом поднимается со своего ложа после бесстыдной ночи», Париж, утративший свой облик, пустынный, темный, разрубленный на части, как будто четвертованный, этот истерзанный Париж еще более высок, чем когда бы то ни было, – теперь, в жестокую зиму, когда в ночном небе над ним стоит на страже звездный охотник Орион...»
А затем пришло успокоение, ибо забрезжила надежда, и тогда бормотание «Черной тетради» сменилось связными фразами, анализом сознания людей, обращенным в прошлое.
«О, как долго я не был один! Но наконец оборвалось раздававшееся вокруг меня жужжание, где самые нападки усиливали похвалу. Смолкли наихудшие оскорбления, растворились в гробовой тишине, наставшей после циклона. Оскорбляют меня теперь только те, кто вот-вот лопнет от радости, что Республика умерла (так по крайней мере им кажется). Посмотрите на них: каждый из этих господ старается нагреть руки на народном бедствии. Пророчившие несчастье поднимаются в Капитолий вслед за завоевателем, пришествие которого они провозглашали и подготовляли. Они ликуют, что с виду оказались правы – правы на короткое время...
Но не тут-то было. Оружие ничего не решает в борьбе идей. Наша победа в 1918 году не доказывала правоту демократий, так же как наше поражение в 1940 году не доказывает, что они в этом повинны. Военная техника, победившая их, когда-нибудь обеспечит им победу.
И ныне мы «из глубины бездны» вопием, что события оправдывают нас. Отрыв политики от принципов морали, который мы разоблачаем изо всех своих слабых сил, залил и продолжает заливать весь мир кровью. Макиавелли – вот кто породил идею безответственности коллективного преступления. Он подготовил и организовал его, узаконил, оправдал и восславил. Разумеется, этот вековечный убийца не всегда обретается в одном определенном лагере, мы не такие уж фарисеи, чтобы это утверждать! Но мы знаем, где именно и с какой неукротимой злобой свирепствует он в Европе вот уже двенадцать лет.
Мы не стыдимся высказанного нами желания, чтобы нравственный закон, определяющий взаимоотношения отдельных людей, определял отношения между нациями. Мы не настолько наивны, чтобы вообразить, будто когда-нибудь удастся полностью сокрушить Макиавелли в нас самих и вокруг нас. Вспомним размышления во второй части «Фауста» по поводу Фарсальской битвы. «Сколько раз возобновлялась она, эта борьба,– говорит Гёте, – и она будет возобновляться всегда, во веки веков: никто не хочет уступать власть другому». Мы считались с этой очевидной истиной. Но для нас было достаточно и того, что Европа ощупью двигалась к тому миру, где Макиавелли можно было бы в какой-то мере укротить, поставив силу на службу справедливости. Чтобы немного обуздать Макиавелли, думали мы, достаточно терпеливых усилий нескольких упрямцев, которые упорно гребут против течения...
Беда наша в том, что мы пробудились к общественной жизни как раз после первой мировой войны, когда Европа как будто почувствовала отвращение к свободе. Какой старомодной показалась в 1919 году наша страна, пролившая столько своей крови во имя дела, в которое народы больше не верили! Помню, как в те времена юноши смеялись, когда я им Цитировал гордые слова, которыми Сен-Жюст * закончил свой проект конституции: «Французский народ голосует за свободу всего мира!»
Мы не сразу признали, что эта вера в свободу угасла в сердце народов. Однако один из наших друзей обнаружил и обнародовал это в те дни, когда имена Муссолини и Гитлера еще не прогремели в Европе. Первого сентября 1919 года Жак Ривьер, вернувшись из долгого плена, написал в «Нувель ревю Франсез»: «Нельзя с полной уверенностью сказать, что мир нуждается в свободе, которую мы для него завоевали ценою чудовищных жертв. Нельзя с полной уверенностью сказать, что ныне свобода – самое пламенное чаяние народов, самая необходимая для них пища. Напротив, в этом можно усомниться. Мы даже вправе встревожиться – может, у них, случайно, совсем иные желания? Право, кажется, что у человечества, взятого в целом, спрос на свободу гораздо ниже предложения свободы, которое мы ему делаем. Можно опасаться, что рынок окажется совсем не таким, как мы предполагали. И мы сильно рискуем, что нам не удастся сбыть наши запасы...»
Жак Ривьер умер слишком рано, не успев убедиться, что он оказался пророком. Для того чтобы в сердце народов воскресла любовь к свободе, понадобились жестокие испытания: кляп, принуждающий к молчанию, колодки, уничтожение целых народностей, насильственный угон рабочего класса Европы, казни детей, ужасы, неведомые со времен ассирийцев. Снова Франция должна сказать свое слово.Слово это – Свобода.
Другая наша беда в том, что еще никогда отдельный индивидуум не представал перед нами более посредственным, чем в этот период нашей истории – между двумя мировыми войнами. Если верить Ницше, индивидуум становится сильным только при обстоятельствах, прямо противоположных тем, которые пришлись по нраву нашей либеральной цивилизации. Что ему ответить? Разве мы осмелимся утверждать, что западная демократия защищала человеческое достоинство, поборником которого она теперь стала? Пролетариат – ведь это миллионы рабов, которым и масонство, и магнаты крупной промышленности, и каждый из нас, буржуа, выкалывал глаза для того, чтобы гигант покорно вращал для нас жернова в мрачных городах... Но Самсон под бичом филистимлян поднимал к небу свои слепые глаза *. Вино, Зимний велодром, бордели – и ради этого жить? Тут тоже надо было коснуться дна пропасти, чтобы возродилась надежда. Мученики ныне свидетельствуют перед народом. Только рабочий класс в массе своейостался верен поруганной Франции.
В час, когда я пишу это (ноябрь 1941 года), многими-многими французами движет самое примитивное чувство – страх! Они в этом не признаются, они поклоняются маршалу, как Деве-спасительнице, взывая к памяти Жанны д'Арк, но втайне все для них сводится к единственной необходимости спасти свои привилегии и избежать кары, для них все будет хорошо, «пока немцы тут». Эту успокоительную фразу, вероятно, тихонько бормотал в свое время какой-нибудь Ренан * или Тэн * глядя на объятый пожаром дворец Тюильри, – тот самый Ренан, который 6 сентября 1870 года *, высунувшись из окна своего особняка и наблюдая за беспечной толпой гуляющих, говорил Гонкуру: «Вот что нас спасет: мягкотелость этой публики.»
Так нет же, нет! Мы верим в человека, мы верим вместе со всеми нашими моралистами, что людей можно убедить, можно внушить высокие чувства даже этим буржуа, которые зарывают свои кубышки в клумбы с цветущими бегониями, даже этим посредникам по продаже съестных припасов, да, мы верим, что на площади Согласия они закрывают глаза и, быть может сжимают кулаки, увидев флаги на статуях французских городов (я никогда не мог смотреть на них без слез, застилавших мне глаза), ибо на этих флагах чернеет теперь свастика, похожая на сытого паука, раздувшегося от крови своих жертв.
Нам нужно преодолеть соблазн презирать человека. Врагу будет только выгодно, если мы поддадимся этому соблазну ведь презрение к человеку лежит в основе нацистской доктрины. В предисловии к новому изданию трактата Макиавелли «Князь» Муссолини одобряет и даже превосходит в пессимизме взгляды своего учителя на природу человека. «Если бы мне дозволено было судить о моих ближних и моих современниках, – признается дуче, – я ни в коем случае не мог бы смягчить суждение Макиавелли. Пожалуй, мне пришлось бы даже кое-что усилить...» Дело в том, что презрение к человеку необходимо тому, кто хочет властвовать над человеком и злоупотреблять своей властью. Ведь нельзя же обращать бессмертное и почти божественное создание в орудие, употребляемое для любых целей. Вот почему тиран прежде всего стремится унизить свою жертву.
Не будем играть им на руку: пусть наши несчастья не ослепляют нас и не мешают нам видеть наше величие. Сколько бы мы ни замечали постыдного вокруг нас и в собственном нашем сердце, не надо отчаиваться и терять веру в человека: ведь речь идет о смысле жизни человеческой для всех нас, о самой возможности жить.
Впрочем, не считайте чем-то новым, небывалым то гнусное зрелище, какое являют собою иные французы перед лицом врага. Французская полиция, ставшая с благословения Виши шайкой надзирателей на каторге, спекулянты, орудующие на «черном рынке», дельцы и продажные литераторы, которые обогащаются под покровительством оккупационной армии, и прочие твари принадлежат к извечно существующей породе. Еще в 1796 году Малле дю Пан писал: «Всяк старается во что бы то ни стало любой ценой, то есть всякими подлыми средствами, выплыть на поверхность среди всеобщего бедствия... Всяк думает только о себе, и опять-таки о себе, и всегда только о себе...»
Мы вовсе не ослепляемся; мы ясно видим, чего стоит каждый человек, но сама эта зоркость предостерегает нас от соблазна презирать человека и помогает нам за мнимой элитой и всей мерзостью, что кишит на поверхности, увидеть тех, кто избрал для себя жертвенный путь. В конце концов, на пустующей сцене почти что один Монтерлан, напыщенный, надутый фигляр, показывает свои трюки. В глубокой тишине, воцарившейся после катастрофы, мы теперь слышим лишь жалкого фанфарона, бросающего вызов самому богу. Лишь горсточка французских писателей отправилась в Веймар * и стояла там навытяжку перед доктором Геббельсом, лишь кучка наших художников и скульпторов не поняла, насколько то, что они собою олицетворяют, выше, бесконечно выше их посредственных личностей, и готова была унизить перед лицом врага величайшее, прославленное в веках искусство, но ведь это жалкое, маленькое стадо, а как много во Франции людей, мужчин и женщин, которые рискуют своей жизнью, страдают и умирают под пулями карательных отрядов.
Не будем же уступать соблазну презирать людей, а главное – соблазну впасть в отчаяние. В июне 1940 года на первой странице этой «Тетради» я записал изречение Фредерика Гримма *: «Служение роду человеческому – безнадежное дело...» Провозгласим же нашу веру в это безнадежное дело. Старик Гёте на пороге вечности не желал больше уделять ни единого взгляда, ни единой мысли политике мира сего, которую он называл «путаницей, состоящей из заблуждений и насилий...». Но эта «путаница» – наше кровное дело, она прямо касается нас, и мы были бы трусами, если б уступили еще одному соблазну – отойти в сторону.
Даже христианам вовсе не предписано отстраняться.
Бог, которому они служат, бог, который вложил в их сердце способность познавать и любить его, не только не отстранялся от кровавой истории человечества, но сам вступил в нее: «И Слово стало плотью и обитало с нами» *. Так что христианам вовсе не дано право бежать от людей к богу – наоборот, им предписывается искать бога в людях. Пусть же они ищут и находят его в преследуемых за правое дело, будь это христиане или язычники, коммунисты или евреи, а сходство этих последних с Христом находится в прямой зависимости от оскорблений, которые им наносят: плевок в лицо удостоверяет это сходство.
Держаться вне схватки, над схваткой? Смотреть с высоты на пытки, которым подвергают массы людей? Ну что ж, если с высоты, то пусть она окажется не выше креста. Надо пребывать на высоте виселицы или креста, а мы знаем, что крест, на котором Христос испустил дух, был совсем не высок – ведь собаки зачастую обгладывали ступни распятых рабов.
И следовательно, вовсе не вопреки своей религии, но именно в силу своей религии христиане всех вероисповеданий и пребывают в самой гуще схватки. Рука об руку с ними мы будем двигаться наперекор алчным вожделениям, наперекор страстям обывательской массы и, разумеется, против течения – как же можно в этом сомневаться? Отвлеченное понятие «прогресс человечества» – чистейший миф; он не существует вне сердец людей доброй воли. Он не является исторической неизбежностью. Огромная надежда опьяняла наших отцов в 1789 году, но ведь надо правду сказать: мы выпили последнюю ее каплю.
«Счастье – идея новая для Европы», – провозгласил молодой Сен-Жюст. Через полтора столетия после того, как были произнесены эти слова, мы узнали, что счастье стало для Европы утраченной иллюзией. Чтобы осуществить замыслы Макиавелли, выселяют народы Европы с насиженных мест и угоняют в рабство, обрекают целые нации на гибель. Никогда еще в истории не было брошено в тюрьмы такое количество ни в чем не повинных людей. В какие еще времена вырывали у матерей детей и заталкивали их в вагоны для скота – я это видел однажды пасмурным утром на Аустерлицком вокзале. Счастье стало в Европе мечтой несбыточной, доступной лишь низким душам. Нет, сейчас речь идет не о счастье, речь идет о том, чтобы создать единый фронт против Макиавелли, который после того, как разгромят гитлеровскую Германию, не допустит, чтобы с ним расправились за совершенные им преступления и поставили бы его к стенке, – нет, он притаился и отравляет сознание миллионов людей в самой Франции. Недаром же «Аксьон франсез», «Гренгуар» и «Же сюи парту» находят у нас множество читателей, и, конечно, среди самых влиятельных, богатых и злобных людей.
Потомство Макиавелли не сомневается (это и составляет его силу), что оно живет и действует согласно извечным законам природы. А мы в их глазах пустые мечтатели и лицемеры. Только одни они обладают пониманием реальной действительности. Весьма показательно, что в «Антологии Новой Европы», где господин Альфред Фабр-Люс * собрал важнейшие тексты, являющиеся основой тоталитарной идеологии, фигурируют на почетном месте изречения биолога Рене Кентона *: «Природа любит борьбу и смерть. Война возвращает людей к их истинному назначению. Война – естественное состояние для самцов. Главное назначение самцов не в воспроизведении рода, а в том, чтобы убивать друг друга. Природа создает виды, а не индивидуумы. Индивидууму свойственно заблуждаться относительно своей судьбы и воображать, будто он рожден для самого себя...»
Зачем отрицать, что были моменты, когда эта свирепая теория подрывала нашу надежду. Меня ужасает не молчание беспредельных пространств, а вот это беспредельное стремление к разрушению жизни.
Но мы сделали выбор, мы восстали против Макиавелли. Мы из тех, кто верит, что человек не подвластен закону взаимопожирания, и не только не подвластен, но все его достоинство зиждется на сопротивлении, которое он этому закону оказывает всем своим сердцем, всем умом своим. Нет, человек не заблуждается относительно своей судьбы. Нет, он не ошибается, заявляя, что жизнь термитов и муравьев отнюдь не может служить примером для людей. Разве у этих насекомых на протяжении веков было хоть одно мгновение, когда порыв сострадания оборвал бы бесконечную цепь, сковывающую пожирателей и пожираемых?»
Прерываю на этом выдержки из «Черной тетради» – как мне кажется, я склонен был в ней многое видеть в розовом свете. А разве в этом жестоком мире противника Макиавелли не ждет печальная участь преследуемой лесной дичи? Но может быть, это не призвание – стать жертвой? Почему же я как будто и позабыл совсем о победителе, о гиганте, который покрывает своею черной тенью маленькую Францию и стискивает ее в кулаке? Разве он не обрекает тех, кто вступил с ним в борьбу, на то, чтобы они сделались похожими на него? Даже если мы сразим его, он может заставить нас отказаться от прежней нашей сущности и превратит нас в свое подобие! Сила, поставленная на службу Справедливости, Свобода, охраняемая Силой, навязываемая Силой... Мы знаем, как наши отцы в 1793 году нашли выход из этого противоречия. Боюсь проповедовать тем, кто меня слушает, чрезмерную, непрощающую щепетильность. Наши юные скауты и то уже догадываются, что мрачный мир Падения – это джунгли; где дорого обходится удовольствие играть в Робинзона, а вечером водить невинные хороводы вокруг пылающего костра, как в ночь на Ивана Купалу. Погодите, прежде всего надо вырваться из тисков, которыми сдавил нас великан, отбросить его руки от нашего горла, а его колено от нашей груди... И тогда мы сумеем показать, что свободный народ может стать сильным народом, а сильный народ станет народом справедливым.
У ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИИ ЕСТЬ ДУША
Нижеследующий текстбыл написан во время оккупации и, равно как « Черная тетрадь», предназначался для издательства «Минюи» *. Г-н Клод Морган * попросил меня зарезервировать этот текст для первого легального номера «Летр Франсез», который он готовил ко дню Освобождения.
Начало мне пришлось переделать, что же до остального, я внес туда лишь незначительные поправки. Личные выпады, которые я запретил себе после победы, объясняются здесь тем, что они восходят к временам, когда «Аксьон Франсез» была всемогуща, а я был вынужден скрываться.
Это не означает, что я отрекаюсь хотя бы от одной строки; я только прошу читателя соотнести эти страницы с эпохой (1943 год), когда их продиктовали мне гнев и надежда.
Нам нечего поставить себе в заслугу, кроме веры, которой мы не теряли ни на минуту все эти кошмарные четыре года. Даже в июне 1940-го, когда рейх вопил от радости по всем радиостанциям Запада и вишистские моррасовцы, трепеща от ликования, смогли наконец опробовать свою систему на Франции, обескровленной всеми мыслимыми пиявками, всеми присосками спрута, – даже тогда мы хранили безумную надежду.
Это не значит, что мы никогда не испытывали соблазна впасть в отчаяние, особенно в последние месяцы, когда были так зажаты в когтях зверя, что у нас останавливалось дыхание, и, хотя, покрытый бесчисленными ранами, он уже истекал кровью, нам все еще не удавалось вырваться из тисков его последней конвульсии. Как ни странно, но именно накануне избавления нам приходилось порой подавлять в себе смертельный страх.
О, я помню, помню!.. Монотонное рычание смерти при свете солнца и при свете звезд, и старый дом, вздрагивающий всеми своими стеклами, и французская молодежь, за которой охотятся вишистские прислужники Минотавра, и внезапно исчезающие друзья, и застенки, где они – мы это знаем – отказываются говорить, и залпы расстрелов, оглашающие каждый рассвет тех сияющих весенних и безоблачных летних месяцев, и призыв Виши ко всем низостям, дважды в сутки изрыгаемый по радио голосом Филиппа Анрио * над нашей безмерно опозоренной родиной... Но нет, даже стольких ужасов все равно не хватало, чтобы нас сломить: кляча, до полусмерти забитая унизительными ударами, и та последним усилием встает на дрожащие ноги.
И мы, действительно, встали. Мы, слава богу, никогда не сомневались, что Франция воспрянет. Но разве мы уже тогда не задумывались, каково будет ее место в мире, когда минет гроза? До какого уровня рискует она низойти? Хватит ли у нее сил удержаться и не пасть еще ниже? Самые проницательные из тех, кто предал нас, догадывались о наших опасениях: своими речами и писаниями они всячески старались пробудить их. Если бы им удалось убедить нас, что еще недавно великий народ станет отныне простым статистом в конфликте империй, они разом оправдались бы в своих и наших глазах: там, где нет нации, слово «измена» теряет всякий смысл. Как они были бы счастливы, окажись Франция в самом деле мертвой! Мертвецов нельзя предать. Послушать этих людей, так они валялись в ногах у победителя лишь потому, что у них не было больше родины, которой они могли бы себя посвятить. Мы отчужденно наблюдали за этими лжесиротами, притворявшимися, будто они остались без матери.
Неужели мы вновь начнем теперь задавать себе вопросы, надрывая сердце тревогой и сомнениями? Мы не были так щепетильны в первые дни нашего рабства. Тогда нам было не до места, которое Франция займет позднее среди других наций! Не до утраченной ею гегемонии! В те дни Францию мучила только одна дилемма – быть или не быть. Только бы она не погибла раньше, чем придет освобождение, только бы выстояла и выжила – вот единственная забота, от которой у нас перехватывало горло. Теперь существование Франции больше не стоит на карте. Еще покрытая кровоточащими ранами, она поднялась перед Европой, прижимая к груди своих сынов и спасителей.
Так неужели мы откажемся от радости воскресения и вместе с каким-нибудь Дриё ла Рошелем * опять примемся подсчитывать народонаселение империй, сравнивать их площадь и с цифрами в руках осуждать Францию на роль жалкого сателлита одного из этих торжествующих мастодонтов?
Когда те, кому важней всего ввергнуть нас в отчаяние, суют нам под нос цифры, характеризующие экономическую мощь наций, я согласен с ними в том, что нам бесполезно закрывать глаза на правду. Да, Франция, даже возрожденная, обречена занять скромное положение, и в этом плане у нас нет никаких шансов снова выдвинуться на первое место. Разумеется, мы могли бы, подражая Макиавелли, сообразить, что ни одна сверхмощная империя не получила гарантии на вечность, что каждая из них несет в себе губительные элементы гниения и распада, что их интересы сталкивают их, что Франция, став первой среди второстепенных наций, найдет в антагонизме мировых держав возможности для большой политики... Нет, точка зрения Макиавелли нам не подходит: мы страстно хотим, чтобы признательная Франция без тени задней мысли смотрела в глаза своим благородным и могучим союзникам. С их помощью мы никогда не утратим надежду освободить человека от самого тяжкого бремени, взваленного на него судьбой, ибо в самом разгаре резни мы заявляем, что верим в мир, где доблесть и душевные силы молодежи не будут больше служить массовому человекоубийству и разрушению храмов, где обитает бог, а заодно и предместий, где ютятся бедняки.
Мы верим, что на такое именно величие и должна притязать возрожденная Франция. Те, кто уповает на нашу униженность и беспредельную усталость, напрасно силятся ежедневно добавлять новую черточку к тому образу нашего народа, который они пытались нам навязать, к этой карикатуре на нашу страну, представляющей ее старым, ветхим, отсталым сельскохозяйственным краем, от которого магнатам обоих миров нужны лишь сыры, вина и женские моды: мы неустанно будем напоминать им о том, о чем они якобы забыли и о чем им выгодно забывать, – о том, что у французской нации есть душа.
Да, душа, хотя мне известно, что некоторые слова раздражают французов 1944 года.
Когда великая нация испытала все мыслимые несчастья, когда с ней, четыре года попираемой победителем, обращались, как с племенами, которых истребляли и увозили в неволю рабовладельческие державы, когда народ дошел до такого предела падения, что сам поставлял поработителям слуг и палачей, неуместно говорить с ним о душе и со стенаниями Я слезами пытаться оспаривать цифры, доказывающие его экономический крах.
И все-таки то, от чего коллаборационисты старались отвлечь наше внимание, чтобы держать нас в неизбывном отчаянии, является реальным и осязаемым фактом: духовное богатство Франции неистощимо и представляет собой важнейший элемент ее политической мощи. П. Ж. Прудон * писал в 1851 году: «Что до меня, человека, меньше всего склонного к мистике, самого реалистичного, самого чуждого всякой фантастике и восторженности, я теперь считаю себя в состоянии заявить и доказать, что нация, организованная так, как наша, является живым существом, столь же реальным, индивидуальным, наделенным собственной волей и разумом, сколь отдельные личности, из которых она состоит... Это – великая истина, открытая нам XIX веком». Тот же Прудон утверждает в другом письме, что нация «...есть существо sui generis 1, живая личность, душа, освященная идеей бога». Живая личность, душа, освященная идеей бога, проявляется в определенном предназначении. Здесь я опять-таки хотел бы воздержаться от употребления слова, которое может показаться чересчур риторичным. Но ведь каждый, даже тот, кто вменяет Франции в преступление, что в сентябре 1939 года она, расколотая изнутри, обезоруженная и уже надломленная, поднялась на защиту Польши *, совершив поступок, на который не отважилась в дни насилия над Прагой, – каждый знает, какому голосу своего предназначения она повиновалась. И когда правительство Петена принимало расовые законы, выдавало гестапо иностранцев, поверивших слову Франции, а нацистский палач находил в вишистской полиции среди людей Дарнана * и Дорио * столько пособников и лакеев, что ему уже почти не было нужды марать собственные руки, кто посмел бы притворяться, будто не видит, как подобные негодяи отягощают предательством, а еще точнее, отступничеством совесть этой личности, этой живой души – французской нации?
1Самобытное, своеобразное ( лат.) .
Да, души, настолько живой даже в безднах позора, что подручные палачей набросились на нее уже на следующий день после разгрома и продолжали свои нападки, пока верили в победу фюрера. Позднее, когда у них не осталось больше сомнений в близкой его гибели, они перенесли акцент на нашу экономическую слабость и неизбежность большевистской или англосаксонской гегемонии. Но с первых же дней нашего рабства им было важно одно – чтобы Франция не почерпнула в своем славном прошлом, в остатках своей древней доблести силы к сопротивлению германским победителям. Они хотели заткнуть уши Франции, чтобы немолчный и неутомимый голос генерала де Голля не поднял народ из грязи, в которой его, повалив ниц или поставив на колени, держало вишистское правительство. Воздадим коллаборационистам должное: их ожесточенные попытки угасить это живое пламя уже доказывали, что оно так и не угасло. Надеюсь, г-н Бернар Фай *, которому Виши препоручило Национальную библиотеку, не преминул тщательно собрать там газеты и журналы, выходившие с июня 1940 года в оккупированной зоне. Сколько в них лицемерных сожалений, завуалированных насмешек, а иногда и прямых оскорблений по адресу поверженной Франции! Между июнем 1940 и 1944 годов в редакциях не прекращается безмерное издевательство над отчизной, привязанной с кляпом во рту к столбу пыток. «Отныне ты ничто» – вот тема, которая варьируется повсюду. И про этих журналистов второго и третьего разряда, бывших тогда на первых ролях, никак уж не скажешь, что рука у них легкая! Правда, из настоящих писателей только г-н де Монтерлан не пожалел в «Июньском солнцестоянии» слюны и мочи на «слизняков»-французов 1*.
1Насколько мне известно, после Освобождения г-н де Монтерлан дал этому своему образу иное истолкование. – Прим. автора.
Очень прошу верить если уж не мне, так им самим. Эти французы на службе Германии (нет, слабо: на службе бесчеловечных страстей нацистской Германии) нападали вовсе не на призрак, а на ту часть нас самих, которая протестует и сопротивляется, на нашу душу, пусть ослабевшую, поверженную, оскверненную, но живую, – и в этом суть. Взгляните на нее, мученицу, которую победитель обесчестил, которой заткнул кляпом рот и которая вот уже пять лет упрямо мотает головой в знак отказа!
Я призываю вас дать пищу этому пламени. Я по-прежнему боюсь излишней образности, но все же умоляю задуматься над реальной основой моей метафоры. Нам остается одно – как можно скорей опять сделаться самими собой, потому что у нас мало времени на утверждение нашей неделимости в мире, отданном во власть империй-победительниц. К тому же нам известно, что в нашей стране, которую еще до войны раздирали враждебные группировки, воздвиглись новые преграды, разверзлись новые пропасти даже внутри партий и классов. К счастью, Сопротивление объединило вокруг генерала де Голля, а затем слило и сплавило в единой страсти французов всех положений и состояний. Пусть же пребудет этот сплав прочен, да устоит он против любых сил распада – у нас нет другой надежды на спасение.
Одно важное событие в нашей внутренней жизни дает мне основание полагать, что подобная надежда не напрасна: арест, наложенный вечными эмигрантами на идею нации, снят. Переход на сторону врага известной части – слава богу, не большинства! – националистов, особенно тех, что хвастались, будто они олицетворяют национализм в чистом виде, короче, измена «Аксьон Франсез» ошеломила даже тех, кто питал меньше всего иллюзий насчет этой организации, хотя должна была бы обрадовать, потому что теперь ничто не препятствует больше истинным французам – правым голлистам, синдикалистам, коммунистам – тесно сплотиться вокруг идеи нации, вот уже полвека присвоенной людьми, конфисковавшими у нас родину.
Это событие разоблачает псевдонационалистов, ненавидящих нацию. Некоторые из них тоже повергнуты им в изумление. Они не понимали сами себя. Они были искренни, монополизируя идею родины в интересах своего класса и убеждая себя, что отдельный гражданин имеет право задержать историю своей страны, остановить ее на определенной точке прошлого и что можно любить Францию, ненавидя вместе с тем все, что в глазах мира неотделимо от нее.
Нужно отдать им справедливость: до конца прошлой войны их искренность не могла быть поставлена под сомнение. Тысячи молодых людей, воспитанных на Барресе, Пеги, а также Моррасе первых лет нашего века, отдали жизнь за Францию. Какие заслуги можем мы еще признать за Моррасом? Вслед за многими, но с терпеливым повседневным неистовством он почти полстолетия обличал пороки выродившегося парламентаризма и сумел, исходя из опыта, определить некоторые условия, необходимые для национальной жизни. Но к чему продолжать? Увы, все, что можно сказать в его защиту, – пустяк в сравнении со страшными последствиями его проповеди: сами того не желая, он и его ученики проснулись однажды во вражеском лагере, на той же стороне, что немецкие палачи и их французские подручные.








