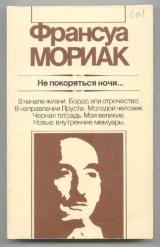
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Возвращаясь к театру, заметим, что любой народ, который – в отличие от нашего – не был бы воспитан в духе отвращения к своему прошлому и презрения к своей истории и религии, которому не прививали бы с детства ненависти к наследственным либо благоприобретенным привилегиям, достиг бы единения в театральном зале так же естественно, как достигалось оно у древних греков и во всякой цивилизации, в которой не подвергалось ожесточенному преследованию и искоренению как раз то, что связуетграждан воедино. Но дабы при старой демократии достичь всеобщего согласия в пределах театрального зала, остается лишь одно – чтобы все зрители, от галерки до кресел, одновременно прочувствовали простую человеческую истину – ту неизменную основу, которая не по зубам и самой неразборчивой политике. Так в обществе, где столько других ценностей переживает упадок, выявляется чудотворная молодость великих классиков: им на пользу крушение всего остального.
Теперь нам известны истинные ценности, неподвластные колебаниям курса. Народу они тоже известны, и официальные производители «ценностей» ему без надобности: у него давным-давно есть свой собственный театр, и это ваш театр и мой, французский театр, Комеди-Франсез, вечная трагедия, театр, принадлежащий нам всем, тот, где нас играют такими, каковы мы есть, где вопреки всем классовым барьерам каждый из нас признает во всех остальных – себе подобных, братьев.
Романист может найти путь к обновлению, обратившись к театру и кинематографу
Вот чудесное приключение для романиста, уже четверть века рассказывающего разные истории, – сделаться молодым драматургом. «Дебютировать можно в любом возрасте...» За последние недели я обзавелся в этом смысле восхитительным опытом. Может быть, ко мне применима пословица «рано пташечка запела» и т. д., но, как бы ни сложилась судьба «Асмодея», я всегда буду вспоминать как счастливую пору те недели, когда работал с Жаком Копо * и с великолепными моими исполнителями в лучшем театре мира.
Писателей часто упрекают в том, что они не ищут для себя путей к обновлению. Полагаю, напротив, что первейший долг писателя – оставаться самим собой, сознавать пределы собственных возможностей. Что же до путей к обновлению, их следует искать в способе выражения. Для романиста в высшей степени полезно подчиниться ограничениям, о которых он прежде не ведал.
Я не верю в пресловутую несовместимость меж дарованием романиста и дарованием драматурга. Почему бы созданным нами персонажам не обрести голос и плоть? Из того обстоятельства, что большинство романистов не удостаивают писать для театра или терпят на этом поприще крах, можно заключить всего лишь, что они не умеют пользоваться драматургической техникой, им не дающейся, либо отказываются подчинить ее законам свое особое дарование.
В ряду причин, побуждающих меня желать «Асмодею» приема поблагосклоннее, не последнее место занимает надежда найти с помощью театра путь к обновлению. И все та же тяга к новым способам выражения подсказывает мне, что в будущем стоит подумать о кинематографе.
Как сегодня размышлять о театре, не думая при этом постоянно о кино? По нашему суждению, эти два искусства связаны взаимным влиянием. Я никогда не считал, что кино может покончить с театром (скорей уж подражание театру могло бы покончить с кино...). Но некоторые вещи стали невозможными на сцене из-за кино. Достаточно один раз увидеть на экране, как ветер шевелит ветку дерева или как проплывают облака над морем, – и больше уже не принимаешь картонных деревьев и лесов, намалеванных на полотне. Театр не может больше притязать на эффекты пленэра.
Сейчас очевидно, что до появления кино человеческое лицо было для нас континентом почти неведомым. Кинематографу мы обязаны чудом: теперь мы можем читать у кого-то в сердце, как по книге, можем по лицу мужчины или женщины, воспроизведенному крупным планом, расшифровать самые тайные их страсти. В этом состоит, на мой взгляд, великая заслуга кинематографа: открытие человеческого лица, со сцены еле видного. Меньше значения я придаю другим его преимуществам: возможности конкретно изображать прошлое, показывать то, что персонажи видят в воображении, мгновенно менять место действия и эпоху Такого рода победа над временем и пространством, на мой взгляд, скорее опасна для писателя, работающего в области кино, потому что она облегчает ему работу.
Жесткая драматургическая техника представляется мне – из-за множества проблем, которые она ставит, из-за требований, которые к нам предъявляет, – куда лучшей школой для художника, чем экран. И потом, ничто не может быть равноценно реальному присутствию актера на сцене, живому воплощению созданий нашей фантазии.
Кино наносит вред театру лишь постольку, поскольку переманивает к себе лучших исполнителей, и особенно вредоносно тем, что приучает зрителя к лени, избавляет его от необходимости напрягать воображение, становиться соучастником, чего требует от него драматическое произведение; но если бы кинематографу и удалось покончить с театром, он не смог бы заменить его. И пожалуй, следует пожелать, чтобы оба эти искусства по возможности были предельно независимы друг от друга и каждое из них повиновалось лишь собственным своим законам.
Одиночество на пороге войны
Одиночество... достаточно хоть раз отвлечься от дум о нем, отдаться наслаждению, доставляемому работой, – и бдительность утрачена, достаточно отпустить от себя тех двоих-троих, кто подмогал нам держать одиночество на расстоянии, – и вдруг, в тот миг, когда работа уже не может служить нам опорой, оно сбрасывает личину, оно тут как тут, расположилось себе посреди нашей жизни, нашего дня, нашего вечера, со своим безмолвием, со своей тягой к небытию, со своими чудовищными наущениями.
Оно царит, оно бросает нам вызов – а ведь, казалось бы, жизнь наша состоялась во всех отношениях. Но ни одному из дарованных нам видов счастья не под силу сразиться с одиночеством на его собственном поле боя. Одиночеству ведомо, какая сила отдает во власть ему людей, связанных по рукам и ногам: люди эти одиноки от рождения – как другие от рождения слепы или горбаты. Одиночеству ведомо, что, даже если люди эти достигнут вершин славы, жизнь их все равно принадлежит ему.
Они цепляются за бога, чтобы победить тебя, одиночество, о исконный враг, в самом твоем логове, в своем собственном сердце; но бог являет свое могущество внутри нас лишь тогда, когда мы любим его ради него самого. Для одинокого человека, о котором я сейчас думаю, в самые благие мгновенья бог был всего лишь другим, тем, кто здесь, кто не уйдет: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру...» *
Но этот бог как раз никогда не остается с нами, либо по крайней мере его безмолвие ничем не отличается от его отсутствия. И чтобы не оказаться в положении быка, когда, выпущенный из темного загона, он устремляется в одну открытую дверь за другой и в конце концов, неизбежно оказывается на арене для корриды, человек, одинокий по самому своему складу, должен всегда быть начеку, не то эта сила толкнет его, обняв за плечи, в омут «наслаждений».
Наркотики, разврат, порок – все, что бесчестит, пользуется над некоторыми существами тою же властью, что религия: одно и то же отчаяние приводит к разным безднам.
Наша потребность в избавлении от одиночества кристаллизуется вокруг доброго слова. Мы приписываем богу наше собственное страдание, чтобы слить и страдание, и бога в едином чувстве любви.
Люди распяли бога, чтобы запретить себе любой вопрос, любой укор: нельзя требовать отчета от распятого создателя.
Если крест – истина, значит, истина безумна! Я приемлю ее всем своим сердцем, всем умом; но становлюсь равнодушным к трудам богословов, веками пытавшихся придать этому безумию видимость разума! Веру мою смущает не сам абсурд, но логика абсурда.
Человек этот сидит передо мной, и я догадываюсь, чт о в этот миг стремится наружу из глубин его души: слово матери-правды, ключевое слово его судьбы, близится к губам его, уже шевельнувшимся, светится в заблестевших глазах. Теперь меня отделяет от него всего лишь одно слово, взгляд, вздох. Малейший знак, малейший толчок – и хлынет гной. Меня обдает жаром, которым пышет это охваченное пламенем сердце, уже готовое к исповеди, к самораскрытию, раскаленное докрасна. Он берет себя в руки, и вот уже губы снова запечатаны, отчаяние снова надежно упрятано: засовы задвинуты, цепи навешены.
Он говорит мне, что самые трагические обстоятельства, близость войны, состояние молитвы и чистоты, к которому она влечет нас, не имеют власти над плотской драмой. Плоть вершит свою судьбу независимо ни от чего, в другом измерении. Наше дело – сказать ей нет, оторвать от нее мысли; но она мечется, как загнанная тварь, фыркает за загородкой, которую нужно все время чинить, подпирать. Чистота – работа, требующая терпения.
Каждые два часа в ожидании германского ответа Англии * мы вопрошаем судьбу, включая радио. Погода ненастная, предгрозовой ветер колеблет деревья, сама земля напряглась и притихла. Каждое мгновение – пытка. С. и Б. в плену у той же тревоги следят, как бы не распахнулись двери их одиночек.
Счастье, что книги еще помогают мне жить. Монтень поддерживает меня в большей степени, чем Паскаль. Если войны не будет, задумал статью о том, что читал в этот период. Черты неожиданной близости между Боссюэ и Паскалем, Монтенем и «Дневником» Андре Жида: тайны, открывшиеся при чтении этих столь несхожих меж собою книг.
При всем отчаянии явно ощущается нечто вроде любопытства и то жадное предвкушение катастрофы, которое этим любопытством порождается. Человек томится такою скукой, что несчастье неодолимо влечет его: трагедии, наимрачнейшие романы – всего лишь средства кое-как удовлетворить это влечение. Теперь нет больше надобности слушать страшные сказки.
Это будет смертельный поединок: Мажино или Зигфрид, сражение меж двумя линиями.Верден был вполне реальным городом, центром одной из трех епархий. Нам же предстоит присутствовать на поединке двух диаграмм.
Я расплачиваюсь излияниями с пригвожденным богом, а ведь он требует от нас, чтобы на его кресте была распята наша плоть.
Крестная мука никого больше не приводит в ужас, ибо для большинства людей утратила всякий смысл. Лишь немногие «посвятившие себя богу» вняли, постигли, приняли. Но сколько таких, которые отбиваются, ломают себе руки, стонут... Я думаю о X. ...Что же до меня самого, боюсь, я всего лишь исполнял у подножия креста нечто вроде словесной пляски, прерывая ее воззваниями к господу, пожалуй наполовину кощунственными.
Искреннее произведение нельзя осуждать, как нельзя осуждать крик боли. Любая выдуманная драма – отражение драмы, которой не выдумать.
...Воители – я вам
такое имя дал за то, что вы
войну ведете с вашими страстями
и с полчищами помыслов мирских.
(Шекспир. «Бесплодные усилия любви» 1 .)
1У. Шекспир. Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 2. М., «Искусство», 1958, с. 395. ( Пер. Ю. Корнеева.)
Сияющий день, самое любимое место на земле, вокруг близкие – и все-таки знать, что несчастье уже поглотило тебя, вернее, ощущать, что тебя медленно и безостановочно всасывает бездна – неотвратимая, уже разверзшаяся.
Смеюсь в одиночестве, читая фразу кардинала де Реца *: «Я не прикидывался святошей, потому что не был уверен, что смогу выдержать эту роль; но выказывал к святошам великое почтение, а по отношению к ним сие есть одно из наивысших проявлений милосердия».
Рец говорит о кардинале Ришелье: «Для этого мира он был достаточно религиозным человеком». Я – слишком религиозный человек для этого мира и слишком мирской человек для этой религии.
Говоря об обращении г-жи де Лонгвиль *, Рец роняет жестокое замечание, отравой растекающееся у меня в крови: «Благодать восстановила то, чем не мог воздать ей свет». Желал бы я, господи, не быть в долгу перед тобою в плане человеческом. Быть бы мне в глазах твоих всего лишь нищим, которого хозяин гонит прочь, ибо ему уже подали милостыню.
Виноградники поздней осенью, когда они еще не подрезаны, даже растеряв листья, все еще темно-розовые, с чуть заметным фиолетовым отливом. Все линии четки (холмы, деревья). Одиночество, нагота, ничего лишнего. Окружающий мир, мое сердце, мои глаза – все избавилось от людей.
Вот луговина, какою первозданно чистой она была бы, если бы не кротовые норы, что ее бесчестят! Земляная насыпь, кротовьих лап дело, как будто кончилась, но подальше возникает снова; и все это плоды трудов одной и той же твари, слепой, упрямой. Так и жизнь человека: изрытые участки, а вот долгие промежутки душевной чистоты. Но заглянуть чуть подальше – и видно: та же подспудная страсть снова заявляет о себе, прокапывая длинный ход.
Непомерная дерзость – писать X. в таком тоне. Несправедливое письмо, где открываю ему, что, сам того не ведая, он пользуется именем Христа, чтобы заманивать людей, что он превратил своего господа в посредника между светом и собою, псом, что охотится сам по себе и слишком долго не выпускает куропатку из пасти.
Поворотный момент в судьбе мира. Уже видны глубокие расселины, свидетельство внутреннего процесса, свидетельство расчленения Европы. Но стареющий человек не хочет избавиться от ноши, тяжесть которой никто с ним не делит, которую тащит он с рождения, которую по нескольку раз на дню швыряет на край обрыва и падает на нее всем телом, зажмурившись и стиснув зубы. Все живое замерло, оцепенело.
Меж засильем порока и христианским самоотречением Монтень вглядывается в себя, наблюдает за собою, определяет свое место в жизни – и приемлет себя.
Спасенье наше – в собственном небытии. Ты боишься, как бы твои творения не отравили людские сердца. Но творения твои – ничто: мы ускользаем от суда, ибо невидимы.
Чтобы узреть нас, понадобятся очи любви. Только любовь сможет заметить нас.
Боюсь возраста, который описан у X., когда одиночество сердца не мучит нас более, боюсь этого ужасного возраста, когда, по его уверениям, к плотскому вожделению не примешивается ни капли любви...
Всюду либо нигде
Война кажется нам чем-то неестественным лишь потому, что сегодня грозит нам самим. Все последние годы я пытался разбудить своими призывами и криками не только других, но – в еще большей степени – самого себя. У меня вызывает стыд и ужас собственное мое равнодушие, собственная бесчувственность.
Да, мы говорили об убитых, – китайцах, испанцах, абиссинцах; нам случалось иногда видеть их – в журналах, в кинохронике; но многие из нас не ощущали при этом даже того цепенящего холода, от которого напрягается всем телом животное, проходя мимо бойни.
Люди должны либо добиться, чтобы войны не было нигде, либо смириться с тем, что она будет повсюду. Сегодня мы – добыча того самого пожара, который у нас на глазах пылал годами, угасал в одном месте, вспыхивал в другом. «Не будем ввязываться в чужие распри», – твердили мудрецы; и, быть может, они были правы – на ближайший период времени; и, быть может, мы не могли поступить иначе.
Как бы то ни было, если банкротство Лиги Наций отбивает у народов охоту браться за ее восстановление с учетом былых ошибок, не будем больше говорить ни о последней войне, ни о предпоследней, ни о надвигающейся: всегда существовала и будет существовать лишь одна война – та, что началась вместе с родом человеческим и, разгоревшись еще неистовей, ознаменует близость последних дней его.
Урок зимы
Через неделю возвращаться в Париж. Не будет мне больше долгих дней, заполненных до отказа чтением, не будет больше бесконечных мечтаний средь запаха горящих побегов лозы, не будет дымки, курящейся над лугами и переливчатой от лунного света; а в послеполуденные часы туман вдруг пронизывали лучи зимнего солнца, о которых говорит Бодлер. Иногда мне виделось, что вниз по склону холма скатывается широчайшим фронтом неведомая армия, а в камине горящее полено вдруг разлеталось роем трескучих искр. Затем черные дороги снова начинали лосниться. На расстоянии полета камня (я мог бы дотронуться рукой) меж двумя тополями нарождалась радуга. Виноградники (еще не подрезанные) окрашивали холмы в оттенок розового, которому нет названия.
Зима в полях не имеет ничего общего с затворничеством, которым она представлялась мне, с могильным сном. Здесь все живое ведет себя совсем не так, как те зверьки, что залегают в норы, покуда не придет весеннее обновление. Все бодрствует. Пробивающиеся почки уже свидетельствуют, что соки трудятся под корою. Голод объединил птиц товариществом, они больше не помышляют о любви. Каждое утро одна трясогузка наскакивает на стекло в окне моей спальни, яростно стучит по нему клювом. Ее упорство вызвано вовсе не желанием проникнуть в комнату, потому что открытое окно ее уже не привлекает. Может быть, ее манит тот же соблазн, из-за которого жаворонок летит к зеркальцу, может быть, ей не дает покоя тайна прозрачности? Возможно, мне рассказал бы об этом Жак Деламен.
Вот что, стало быть, занимает меня в час, когда страждет то, что мне всего дороже. А мир между тем переживает поворотный момент своей судьбы, и повсюду виднеются глубокие расселины, свидетельство внутреннего процесса, свидетельство расчленения Европы...
Занимает меня – вопреки моей собственной тревоге? Нет, как раз из-за этой тревоги. Монтень, Шекспир, Рец, Ривароль *, Стендаль писали, размышляли, грезили в эпохи, не менее мрачные; они поддерживали ту. духовную жизнь во Франции, в Европе, которая длится вопреки всем ужасам, творимым враждующими нациями, и нет ни самомнения, ни тщеславия в том, что ощущаешь себя частицей этого человеческого потока, которого не остановить никакому политическому преступлению, никакому злоумышлению; самый ничтожный из нас, если ему дано писательское призвание, располагает собственным мгновением в непрерывности времени.
Высшее достоинство всякого мыслящего существа заключается в способности добиться победы усилием разума. Холмы, уснувшие в тумане; тишина, их окутавшая и нарушаемая только перестуком сабо школьника, что бредет затерянной дорогой; сумрачные послеполуденные часы, отданные чтению; великие люди, вернувшиеся во прах и открывшие мне в своих сочинениях тайны, которых при жизни они так и не поверили друзьям, – все это побуждает человека, всегда стремившегося постичь самого себя и человеческую душу, вглядываться в мир с удвоенным вниманием. И точно так же с удвоенным рвением трудятся вокруг меня крестьяне, не дают себе поблажек; и в позвякивании секаторов, до темноты подрезающих виноградники, мне мерещится стрекотанье насекомых, что распелись бы вдруг посреди зимы.
Все продолжается. В истории не существует катастрофы в, словарном смысле – «событие с трагическими последствиями». Будь удивление свойством, присущим богу, он, пожалуй, изумился бы, увидев, что мысли о войне все еще приводят людей в замешательство. Разве существовала на свете могущественная нация, которая была бы избавлена от многократных испытаний силы, одно из которых нас ждет? С тех пор, как мир стоит, не сыщешь державы, властителям которой не приходилось бы то и дело доказывать, что им удерживать ее за собою, не уступая ни пяди, и противостоять любому нападению.
Стало быть, все события, что сейчас происходят, – не настолько необычны, чтобы отнять у нас свободу мысли; подобно Монтеню, мы не вправе прервать свое занятие и должны без конца пережевывать, как вол жвачку, мысли, логические построения – и мечтания.
Свет идет на убыль. Последние клочья листвы подрагивают на старых вязах. Нагота зимы уже приняла весеннюю окраску. Очнись я после многомесячной спячки перед этим пейзажем, я подумал бы, что проснулся в мартовские сумерки, – настолько похоже, что природа возвращается к поре детства в эти предновогодние дни.
Тайна Расина
Пусть из-за войны мы стали равнодушны ко всему, что не есть война, – назло ей этот кровавый год останется для нас годом Расина * Быть может, даже радости мирного времени в какой-то мере ослабили бы наш интерес к этой годовщине. Но когда народ берется за оружие, он, чтобы не утратить стойкости духа, обращается мыслями к образу, который являет ему его самого и в котором он в наибольшей степени узнает себя самого, даже если образ этот не столь уж популярен: тщетно было бы искать полное собрание сочинений Расина в крестьянском доме или в квартирке рабочего из наших мест И однако же, если Расин неведом крестьянину, то рано или поздно он откроется его сыну – учителю, семинаристу, студенту Эколь Нормаль. Нет такой французской семьи, даже из самых обездоленных, которой в какой-то миг ее истории не коснулось бы очарование Расина, и если это еще не случилось, то случится в будущем.
По ту сторону наших границ очарование это не столь могущественно. Из всех наших авторов Расин наименее доступен другим народам. Он властвует над теми сопредельными областями сердца и разума, куда нет пути тому, кто не принадлежит духом к нашей семье. Когда чужестранец говорит, что любит Расина, и читает нам его стихи голосом, в котором чувствуется искренность, мы знаем – нам незачем объяснять ему Францию.
Любить Расина для большинства из нас означает любить трагедии Расина. Об авторе их нам все еще известно очень немногое, и это признак его превосходства, потому что, вспоминая великих писателей прошлого, потомки нередко отвергают большую часть их творений. Жан Жак Руссо и Шатобриан интересуют нас больше, чем «Эмиль», «Новая Элоиза» и «Натчезы». Из книг первого мы перечитываем «Исповедь», а из сочинений второго – «Замогильные записки», то есть те их сочинения, в которых они раскрывают нам самих себя. Роман жизни каждого из них привлекает нас куда более, чем все романы, ими написанные, и мы обходим стороной докучную толпу вымышленных ими персонажей, чтобы познакомиться поближе с подростком, которому давала уроки г-жа де Варанс * и с юношей, которого в Комбуре навещала сильфида. И даже в огромном наследии Вольтера, если оставить в стороне «Простака» и «Кандида», возвращаемся мы неизменно к одному и тому же – к «Переписке». Книги его, определившие пути духовной жизни Европы, значат для нас куда меньше, чем старик, который этим книгам был обязан своей поразительной властью над умами.
Такого рода диспропорция меж автором и произведениями существует и для Расина, но в обратном порядке; в его случае, напротив, творец как бы заслонен творчеством: Жана Расина не разглядеть в тени, отбрасываемой великими образами, грозными или нежными, что волею его вознеслись над веками. Уж поверьте на слово литератору, у которого пятнадцать лет назад достало дерзости выпустить в свет книгу о жизни Расина*. Достоверность дошедших до нас сведений о нем как о человеке не менее сомнительна, чем достоверность портрета, который показывают в Лангрском музее.
Неблагодарный друг Мольера, жестокий соперник старого Корнеля, юный любовник Дю Парк * и тот, кому доставила столько страданий Шанмеле *, Расин, имя которого назвала Вуазен * во время суда над ней, – и Расин, которого поразила своей молнией благодать, тот, о котором г-жа де Ментенон * сообщает, что он нередко присутствовал при обряде пострижения девушек в монахини, потому что любил поплакать, янсенист, который, по замечанию г-жи де Севинье *, возлюбил бога так же пылко, как прежде любил своих подруг, царедворец, королевский историограф, безграничная преданность которого особе монарха значила для него самого куда меньше, чем приверженность его к господам из Пор-Рояля, и который умер от горя, впав в немилость, но остался до конца верен гонимым друзьям, – мы можем выбирать меж этими свидетельствами, придерживаться лишь некоторых или пытаться согласовать их друг с другом, чтобы воссоздать образ человека, который был изменчив и многолик, как любой из нас. Все равно он ускользнет от нас, как бы мы ни старались подойти к нему поближе. Нам никогда не увидеть Жана Расина лицом к лицу, во всей его цельности, с той же четкостью и определенностью черт, как, например, у Монтеня или Паскаля.
И пожалуй, нам остается лишь одно – искать его в самом его творчестве: если оно прячет от нас Расина, то потому, быть может, что он весь – в нем. И если нам не раскрыть тайну Расина, то, быть может, при жизни он сам разгласил ее и поверяет доныне из-под личин Гермионы, Роксаны, Федры, Агриппины, Гофолии.
На эту мысль нас наводит прежде всего то обстоятельство, что любая из героинь его выражает все ту же страсть, то же неистовство, то же отчаяние. Гермиону и Роксану от Федры отделяет лишь то расстояние, которое отделяет страсть, что пожирает самое себя, не зрима небесным свидетелем, от страсти, трепещущей под взглядом беспощадного божества.
В чертах Гофолии я узнаю черты все той же Федры, но Федры, которую годы исцелили бы от любовного смятения и которая стремилась бы утолить другие свои страсти: любостяжание, гордыню, жестокость, мстительность – уже на так, как Федра, выдерживая взгляд божества – солнца, но противясь его власти всем своим сердцем, полным вызова и ненависти.
Если между этими грозными созданиями существуют общие черты, некое семейное сходство, то, может статься, они унаследовали это от человека, который вдохнул в них жизнь? Было бы проще простого извлечь элементы расиновской драмы из обстоятельств, определивших судьбу самого Расина, – достоверных или воображаемых. Но разве не могли бы мы сказать то же самое о всех тех, кого любили и предали, то есть обо всех почти детях рода человеческого?
Нет, ничто не мешает нам, как мы попытались некогда, узнать поближе человека, которым был Жан Расин, изучив его трагедии. Но ничто не дает нам и безоговорочного права следовать по этому пути. Расин никогда и ни перед кем не раскрывал своей души; и, если судить по дошедшим до нас письмам Расина, мы были бы склонны видеть в нем лишь добропорядочного отца семейства да богобоязненного придворного поэта, когда бы не знали, что сыновья его, особенно же благочестивый Луи *, не пожалели трудов ради увековечения его памяти и сожгли с этой целью немало бумаг. Впрочем, таков уж обычай, коего придерживаются у нас в семьях: письмо, попадающее в наше распоряжение, почти никогда не принадлежит к разряду тех, которые открыли бы нам тайны умерших.
Но есть и еще одно обоснование, понадежнее, которое позволяет нам не воспринимать личность Расина в трагическом свете, если можно так выразиться, и предложил это обоснование Дидро. Мы вправе полагать вместе с автором «Парадокса об актере» *, что артист, слишком страстный, слишком впечатлительный в жизни, почти всегда плох на сцене и что гениальность в изображении страстей – в той степени, которой достиг Расин в своей драматургии, – свидетельство, что автор не смешивает себя самого со своими героями и, дабы обрисовать Роксану должен был сохранять хладнокровие, покуда, держа в памяти уроки великих античных трагиков, подражал, ничего при этом не чувствуя, образцам, которые сам избрал.
Правда, Дидро забывает что хладнокровие, возвращающееся к художнику во время творчества, вовсе не означает, Что художник не пустил в дело более или менее осознанно своих собственных воспоминаний, еще не остывших под не прогоревшей до конца золой. Последнее слово в споре не сказано, но люди благоразумные будут придерживаться половинчатого вывода: поэт всего лишь придал страстям, которые познал скорее по наитию, нежели на опыте (по крайней мере в той степени, в которой являет их на подмостках), остроту самопознания, присущую ему как христианину и янсенисту.
Если в описании человеческих страстей, которое дает нам Расин, все кажется нам безупречно правдивым – и это три столетия спустя, да еще при той чрезмерной осознанности, которую он им придает, – если нас не смущает то, что под его пером пылкое чувство слишком вглядывается в собственное пламя, мы обязаны этим Пор-Роялю и всем нашим моралистам, но в первую очередь нашему долгому знакомству с Гермионой, Роксаной и Федрой. Эти великие тени сопровождают нас от школьной скамьи, когда они являли нам в классе все то, от чего силились отвратить нас в часовне наши наставники.
Три столетия спустя после смерти Жана Расина Франция дает отпор миру, в котором человеческое сознание деградирует в той же степени, что и сама человеческая личность, – и все же механизм этого мира не был бы непознаваем для поэта, которого мы ныне чествуем, потому что самые кровожадные тираны подвластны перу того, кто создал образы Нерона, Агриппины и Нарцисса, перу того, кто силою своего искусства осветил незамутненным светом все, что есть самого бесчеловечного в человеческом существе.
Тут-то и проявляется во всем блеске несравненное его величие. Во Франции, в Европе наших дней, где не осталось ничего более из того, что он знал и любил, все постоянно напоминает нам о нем: слава его зиждется на его сердцеведении, а человеческое сердце не меняется. Войнам, революциям не разлучить нас с великими, которые помогали нам жить в мирные дни. Такие периоды истории отвращают нас лишь от посредственностей, низвергая в небытие то, что для небытия уготовано. Но на фоне нынешнего сумрачного неба, словно предвещающего конец света, великие фигуры нашей классики снова встают во весь свой рост, и величие их не кажется нам чрезмерным, потому что они верны человеческим меркам. Сейчас, когда воздух полнится таким множеством пустопорожних слов и дутых фраз, настало время, когда и самые забывчивые средь нас должны вновь открыть для себя прозрачное расиновское слово, неотделимо созвучное самым тайным биеньям наших сердец: настало мгновение, когда мы должны прислушаться к этому голосу страсти, которая подвластна логике, которая вглядывается в себя, судит себя и из самого строгого самоанализа исторгает неизъяснимую музыку.
И поскольку чудо состоялось, тот, кто сотворил его, вправе отойти от творчества, дабы отныне служить лишь королю и богу. 4 апреля 1696 года он пишет Буало: «Бог уже давно ниспослал мне милость, сделав меня более или менее нечувствительным ко всему дурному и хорошему, что могут сказать о моих трагедиях, так что скорбь я испытываю лишь при мысли об отчете, с коим придется мне когда-нибудь предстать пред Всевышним».
Но разве этот христианин расстался бы так легко со своими творениями, не будь он уверен в их совершенстве? Разве отвернулся бы так безмятежно от образов, что создал, если б образы эти не удались ему? Расин знал, что ради Андромахи, ради Береники и Федры ему незачем более прерывать молитву или жертвовать временем, которое он должен посвятить королевской службе. Его героини не нуждались в нем более, им незачем было страшиться собственного создателя. Уже при жизни его они шагнули за порог бессмертия и отныне принадлежали Франции, то есть тому, что пребудет вовеки.








