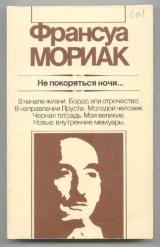
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Когда пишешь о провинциальном городе вроде Бордо, неминуемо приходишь к мысли о бегстве. Строптивой натуре в Бордо не ужиться: здесь любой ценой надо приспособиться, стать, насколько хватит сил, частицей города, найти свое место, занять положение, примириться с тем, что ты – один из серых камней, из которых выстроено серое здание, а главное, не выделяться на общем фоне. Юнцу, виновному в том, что его не подвести ни под какую классификацию, не ограниченному никакой профессией, не уважающему общепринятой иерархии, остается одно – спасаться бегством. Вот так и наш подросток годами кружил по городу, словно крыса, ищущая выхода из крысоловки. Что бы с ним сталось, не найди он этого выхода? Удовольствовался бы он духовным бегством? Или стал бы одержимым, буйным, как один из его друзей, принадлежавший к той же породе? А может быть, напротив, подчинился бы, но ценой какого насилия над собой?
Мне возразят, что перед нами особый случай. Это не так: мне – один за другим – вспоминаются мои приятели, и в особенности юноша, который должен был унаследовать одну из крупнейших бордоских фирм: он отказался от всех привилегий, бегал в Лондоне по частным урокам, потом стал скульптором в Париже. С какой горечью описывал он свое существование в конторе и клубе! Как мучился от всего, что составляет блаженство юных бордосцев! Чтобы получить свободу, он отказался от состояния. Остался ли он в Париже тем же строптивцем и бунтарем? Нет, Париж нетребователен; Париж не замечает провинциала, затерявшегося в его тумане; Париж – город индивидуальностей, словно нарочно построенный для безумцев и полубезумцев: здесь каждый, ничем не рискуя, ведет себя так, как это ему свойственно. Столица и впрямь состоит из множества отдельных Бордо, не уступающих ей ни иерархичностью, ни деспотизмом, но она не может подчиняться вся целиком одним правилам; и если невольно врастешь в один из этих парижских Бордо, то как легко из него вырваться! Его стены омывает необъятное море – стоит лишь броситься в него! В Париже можно умереть в любую минуту – и ни один друг вас не хватится. Зато, когда мы расстаемся с Парижем, он не оставляет на нас никакого отпечатка, который причинял бы нам страдания. Возвращаясь в него после долгого отсутствия, я радуюсь, и радость моя легка, к ней не примешивается горечь. Ничего похожего на ту властную печаль, что пронизывает все мое существо, когда ранним утром передо мной на берегу пустынной реки возникает город моего детства. Ты воображаешь, что убежал от него, но он не отпускает и за невидимую нитку тянет тебя к себе. Ты снова уедешь, но сколько еще раз тебе придется миновать туннели Лормона, просыпаться во время остановки на железном мосту – и так до самого последнего приезда, когда, вытянувшись посреди товарного вагона, ты будешь спать сном, которого уже ничто не потревожит. Где бы тебя ни застигла смерть, твой город сумеет до тебя докричаться, и в конце длинной улицы Apec, привычной к катафалкам, он откроет тебе картезианский монастырь, заросший прекрасными платанами, и кладбище, где, прячась за могилами, обнимаются скромные парочки.
Взгляни ранним утром на порт: здесь поднялся на борт «пакетбота южных морей» молодой Бодлер. На одном из этих балконов он проводил рядом с возлюбленной вечера, подернутые розовыми туманами, и прочувствовал глубину пространства, мощь сердца, запах крови. В ту же пору в гостинице «Нант» останавливался Морис де Герен – он ехал умирать в Кела. В июльских сумерках 1839 года он прислушивался к шуму города, в котором я родился, и к жадным стрижам в небе. Эжени * поправляла больному подушку, касалась его волос и, украдкой заглядывая в распахнутые окна Большого театра, что напротив гостиницы, видела, как раздеваются актрисы. Бодлер... Морис де Герен... мы рады, что им, несшим свой крест, выпала краткая передышка на берегу нашей реки. Быть может, они и впрямь прилеплялись душой к этим камням, и потому-то в наших торгашеских краях появлялись на свет их наследники. Жамм бродил в отрочестве по мглистым улицам квартала Сен-Мишель и чаще всего – по той, где за зелеными стеклами его ждал «задумчивый профиль любви и печали»; он собирал гербарии в аллеях Буто, в ботаническом саду мечтал об островах. Потом появились Андре Лафон *, Жан де Ла Виль *, Жак Ривьер * – дети Бордо, братья того, о ком здесь ведется речь.
Сыновья того же города... Неблагодарные сыновья, быть может? Но кто не почувствует, какой любовью переполнены эти страницы, несмотря на всю горечь? Пускай и мои друзья, и я изо всех сил спешили убежать из нашего города – мы унесли его с собой. Мы были к нему суровы как к частице собственной души: каждый имеет право не щадить себя. Мы любим наш город как себя самих, мы ненавидим его как себя самих. Немыслимо от него отречься, немыслимо не склониться перед ним, как перед матерью, с которою мы связаны кровными узами, и еще ниже, чем перед матерью: сколько бы мы ни играли в парижан, сколько бы ни радовались, что живем в Париже, Бордо прекрасно знает, что, когда нам, романистам, надо заглянуть в собственную душу в поисках пейзажей и образов, мы находим в ней не Елисейские поля, не Бульвары, не приятелей и подруг с берегов Сены, а семейные угодья, однообразные виноградники, безвестные ланды, самые что ни на есть унылые пригороды, увиденные сквозь запотевшие окна омнибуса, который возил нас в коллеж; и наши герои не похожи ни на красивую даму, у которой я здесь обедаю, ни на мэтра, чьим речам внимаю; они похожи на моих деревенских деда и бабку, на моих двоюродных братьев, живущих в ландах, на всю эту провинциальную фауну, за которой я, маленький заморыш, исподтишка наблюдал.
В этом отрицании, которым вроде бы грешили все мы, нужно видеть лишь симптомы усталости, знакомой каждому, – когда устаешь быть самим собой и никем иным. Бордо живет в нас как наше прошлое; он и есть наше неизбежное, неотвязное прошлое; в его тумане мне мерещится все тот же запах, и мертвые, которых я знал и любил, в этом городе, звенящем в глубине моей души, живут реальнее, чем живые.
Блаженны странники, путешественники, к исходу дней своих накопившие так много новых пейзажей и горизонтов, что им уже не слышен звон потонувших колоколов у них в сердцах!
– Нет, не будь неблагодарным! – говорит мой город. – Эти странники, которым необходимо колесить по свету, чтобы писать книги, уж конечно, не прожили начало жизни в просторных провинциальных жилищах, ни разу не растянулись под сенью родного леса, не помнят, как играли и смеялись вокруг часовни, в которой был Бог, и их полдники не пахли фруктами в корзинах, стенными шкафами, в которых хранится варенье, дягилевая настойка, сливянка, и у них не было коллежа посреди огромного парка, где в июне, на праздник тела господня, развешивали на нижних ветках флажки; и их не окружала бесчисленная родня, которая являла бы им любые людские типы, любые разновидности человека, раздираемого страстями и хранимого верой. Я, твой город, вытряхнул все это в твою колыбель. Ты повсюду носишь с собой материал для своих книг. Благодаря мне ты улыбаешься, слыша вопрос: «Располагаете ли вы сюжетом для нового романа?» У тебя всего один сюжет, смесь из меня и тебя самого, и этот сюжет неисчерпаем: твои книги отделяются от него, как звезды от туманности.
Но, освоясь с этим сокровенным, мистическим Бордо, из которого рождается твое творчество, разве можешь ты не страдать, когда тебе приходится сталкиваться с Бордо материальным, с городом из камней и грязи, таким похожим и таким непохожим на город, чей отблеск живет в тебе? В духовном граде, от которого ты взял плоть и кровь свою, все уродливое изгладилось или претворилось в поэзию: город в тебе – это уже произведение искусства; вот почему тот, что продолжает жить вне тебя на берегу грязной реки, ранит тебя и отталкивает. Он словно километровый столб у тебя на дороге, ужасная мета, чтобы измерять пройденный путь. Сколько поколений детей резвилось в Общественном саду и в саду перед мэрией с тех пор, как ты сам уже не ребенок? Не чувствуешь ли ты себя все эфемернее с каждым возвращением на эти скромные мостовые? Время разрушает тебя, но едва касается домов и деревьев в этом сквере. Здесь неодушевленная материя глумится над твоей живой плотью. Для тебя она связана с играми, со слезами школяра, которым ты перестал быть четверть века назад. Все там же стоит скамья, на которой – помнишь? – ты семнадцати лет отроду ждал любимую, а нынче вечером ты опустишься на ту же скамью несчастным стариком, побежденным смертельной усталостью!
IV
Тем, кто никогда не расставался с провинцией, трудно вообразить, как мучительно бывает, возвращаясь, всякий раз встречаться с собственным овеществленным прошлым. Так страдал Пруст, глядя на Булонский лес спустя много лет после встречи с г-жой Сван. Он объясняет нам противоречие, возникающее, когда мы «ищем в действительности образы, что живы в нашей памяти, но им не хватает очарования, которым наделяет их все та же память, – оно недоступно органам восприятия».
Чувство, возбуждаемое в нас нашим городом, слагается на самом деле из ненависти и любви, как всякое глубокое чувство, близкое нашему сердцу. Какой влюбленный не вопрошает сам себя чуть не каждый день, не в силах, подобно Гермионе *, понять, любит он или ненавидит? Наши чувства бесконечно шире нашего лексикона: слова «любовь», «ненависть» необычайно редко отражают то, что мы на самом деле испытываем. Мы ненавидим любимое существо за то, что оно посягает на нас, присваивает себе частицу нашей жизни, навязывает нам ограничения; мы злимся, что оно суживает нашу жизнь, бесповоротно обкарнывает ее и отбивает вкус у всех прочих яств, которыми готов нас потчевать мир. Мы вменяем в вину тем, кого любим, нашу остановку на пути ввысь. Святой Хуан де ла Крус * проповедовал, что душа, прилепившаяся к красоте божьего создания, бесконечно мерзка перед богом. Существо, безмерно любимое и безмерно испытываемое нами, лишает нас более высокой судьбы.
То же и с нашим городом: он обогащает нас, осыпает дарами и в то же время безжалостно урезывает. Мы ценим преимущество быть провинциалом, владеть земельным наделом, производить плоды, обладающие своим особым запахом, букетом, по которому их узнаешь из тысячи других. Но не так уж это и весело – всю жизнь с честью играть роль французского буржуа-провинциала средней руки; отличаться от всех особым привкусом, который дала тебе родная почва, повсюду чувствовать себя чужаком, медлить в преддверии неведомой литературы, словно в ожидании непосильного путешествия. Старое ослепшее животное лучше всех вращает колесо; моя провинция превратила меня в слепого мула, чтобы я молол ее зерно. Знакомьте меня с чужаком сколько угодно раз подряд – я все равно не запомню, как его зовут. Мое нелюбопытство – форма бессилия. Провинция отбила у меня охоту ездить в Рим, в Лондон: она и там обволокла бы меня плотной, удушливой атмосферой, сквозь которую я не увидел бы ничего, кроме карикатур или призраков.
В те времена, когда город цепко удерживал в своем лоне мое отрочество, мне казалось, что я для него – выродок, а не сын, что он не признает меня своим; я думал, что я не похож на других, потому и одинок. Но с тех пор как я расстался с городом, я чувствую себя бордосцем, таким же, как все бордосцы. Быть может, между нами возникло то запоздалое сходство, о котором так любят посудачить в семьях: «Удивительно, как он становится похож на бедную маму...»
Писатель – это участок земли, где ведутся раскопки. Он никого не проведет своим светским лоском, который, как правило, живо усваивают и прирожденные, и новоявленные парижане; он буквально весь нараспашку, весь под открытым небом. Он обречен являть всему миру собственный фундамент, обнажать самые заветные устои. Потому-то, быть может, на этой разрытой почве настоящее не приживается и не превращается в прошлое, пригодное для раскопок. Как ужасно бесплодие литератора, который остается литератором и ничем больше! Один Пруст был последователен, он затворился в комнате с задернутыми шторами и никого не пытался провести. Он знал, что для него нет деревень, кроме Комбре, что никакой боярышник не даст ему тех розовых цветов, что росли на живой изгороди в Тансонвиле. Напрасно ему захотелось потом увидеть еще раз сквозь поднятые стекла автомобиля цветущие фруктовые сады: он был обречен знать лишь те, которые полюбил подростком в окрестностях Мезеглиза. То же – с любым писателем, даже если болезнь не превратила его в затворника. Его писательство – это и есть болезнь, причем неизлечимая, заставляющая его посвятить жизнь воспоминаниям, или, вернее, требующая, чтобы из того, что уже завершилось, он создал новую жизнь; он не смеет использовать другой материал, кроме своего прошлого, беспрестанно плавящегося в нем, не смеет пренебречь этим постоянно кипящим источником; да он и не уверен, что настоящее могло бы что-нибудь добавить его грядущим созданиям; оно может разве что примешиваться к прошлому, оставаясь у него в подчинении. Бордо (под этим названием я разумею весь материал моего творчества) в конце концов всегда поглощает те впечатления, которые я получаю изо дня в день. Любое произведение, навеянное настоящим, оказывается мертворожденным, если ему не найдется соответствия в моем внутреннем Бордо. Замыслы, подсказанные нынешним днем, ничего не стоят, если они не поддаются переносу в завершенную пору моей жизни. Самые свежие ощущения – пары, танцующие танго, грохот джаза и т. п. – могут, несомненно, пригодиться, но лишь в качестве рамы, которая отдаляет пейзаж, выделяет его из целого и в то же время придает особую ценность подробностям. Нередко Бордо ярче вставал у меня перед глазами в толкотне какого-нибудь прокуренного бара, чем сквозь железный парапет, когда поезд ранним утром останавливается на мосту через Гаронну; сидя за одним столом со светскими знакомцами и знаменитостями, я чувствовал на себе взгляды, которые были привычны мне в детстве, а теперь давно угасли.
– Не надейся, что я позволю себя забыть, – шепчет мне Бордо. – Чем дольше ты будешь вести жизнь, отличную от той, какую я тебе уготовил, тем глубже ляжет на тебя мой отпечаток. Не надейся, что персонаж, занимающий тебя сейчас, сумеет когда-нибудь проскользнуть в твои книги, минуя меня: сначала я притяну его к себе, впитаю в себя и он в конце концов обретет новую жизнь в моей атмосфере, единственной, в которой вырабатывается твое убогое творчество.
Быть может, эти соображения справедливы только для меня? Я думаю о Морисе де Герене, который в четырнадцать лет расстается с Кела и возвращается туда на время каникул, а потом – умирать; и все-таки он прожил свою краткую жизнь во внутреннем Кела, к которому долина Аргенона и Ла-Шене добавили леса и морских отмелей. Пусть нам чудится иногда некая непроизвольная искусственность в том, как Баррес привержен к Лотарингии * – Лотарингия, безусловно, владеет им, и ему от нее не убежать: от туманов родины он не спасся ни в Испании, ни в Акрополе. Барресу удавались во всей полноте лишь изгнанники Лотарингии или те, кто утратил либо сохранил в ней корни: с одной стороны – Стюрель, Реноден и прочие, а с другой – братья Байяры. Изображая всех остальных, он улавливал только отталкивающую внешность да ужимки (правда, весьма талантливо). Он всегда был обращен лицом к неброскому лику родных мест.
Любить свою тюрьму, отдавать ей предпочтение, или, вернее, отдавать себе самому предпочтение перед другими – каково выдерживать это всю жизнь? Подобная снисходительность к своему краю и к себе временами неминуемо уступает место жестокой тоске. Я седмижды семьдесят раз отрекался от Бордо; я любил у Туле * ту фразу, где он обличает этот винно-тресковый город, вязнущий в грязи порта без кораблей; я издевался над обитателями Бордо; я удирал от чудовищной скуки его виноградников; меня раздражают выставленные напоказ раны его сосен и их дурацкие индивидуальные горшочки! Превознося до небес Прованс, я всегда противопоставлял его Бордо... и все-таки я люблю Бордо: попросту сказать, люблю самого себя. Он – это то, с чем я никогда не сумею расстаться: сегодня Бордо принадлежит мне, и я не в силах вырвать его из памяти, но наступит день, когда я стану принадлежать ему, его недрам. Когда я с ним в разладе, это значит, что я в разладе с самим собой и ненавижу его за то, что он сделал меня таким ничтожеством.
Неспособность предаваться утешительным иллюзиям есть в крови у всех наследников Монтеня, но в Бордо еще меньше, чем где бы то ни было, позволяют водить себя за нос, здесь никому не заговоришь зубы: вопреки своему хваленому тщеславию бордосцы разбираются в себе и в других не хуже, чем в вине, про которое они, разок понюхав и два-три раза прицокнув языком, будут знать все – возраст, происхождение и истинные достоинства.
Вот почему каждое возвращение в родную провинцию, в родную семью – это для меня еще и возможность подвести итоги. В Бордо я люблю устраивать смотр ценностей, которым приобщился в Париже, а заодно и самому себе. Как ни странно, блестящий город с его легкомысленными нравами всегда наталкивал меня на разговоры с совестью. Дело в том, что он не предлагает мне ничего, кроме зарубок, по которым я измеряю свое старение; из них незаметно для меня складывается кривая моей внутренней жизни, и это меня гнетет. Не встреться я случайно с собственным отражением вон в той витрине, я и не вспомнил бы об иссушивших меня годах; возможно, сегодня я прохожу по этим улицам проворнее, чем в дни отрочества; но в сердце у меня живет беспощадное ощущение перемены; сердце И без зеркала чувствует, что обрюзгло: вот портик Сен-Серена, под которым я проходил в пятнадцать лет, терзаясь угрызениями совести... С тех пор я совершил столько поступков, обезобразивших меня навсегда! И все-таки я нынешний ничем существенным не отличаюсь от того, каким был: разница не больше, чем между голым полем после пахоты и сева и тем же полем, когда поднялись всходы. Бордоский мальчик таил в себе, не сознавая, все, что раскрылось во взрослом мужчине; именно в Бордо проясняются для меня леденящие кровь слова нашего Жака Ривьера: «Я уверен, что, если каждый, как я, взглянет на события своей жизни с точки зрения их необходимости для него, он увидит, что его вели шаг за шагом по заранее обдуманному пути, и неопровержимо убедится, что то была рука бога. Но мы ничего не видим, потому что за точку отсчета всегда принимаем счастье. Просто диву даешься, когда видишь, как плотно сгущена всякая жизнь, как разыграна, словно по нотам, и, чем ближе к концу, тем быстрее, стремительнее темп. В детстве еще возможно что-то нечаянное, немотивированное, авантюрное. Но постепенно, с возрастом, все выстрелы попадают в цель; что бы ни происходило, все увлекает душу навстречу ее судьбе, связывает ее и направляет в нужную сторону».
Да, пока я в Бордо безнадежно высматривал счастье, некто заранее обдумывал мой путь. Сумей я тогда заглянуть в себя, я разгадал бы свою судьбу куда точнее, чем по линиям руки. Добродетели и пороки подростка похожи на существа в начале творения, когда бог еще не успел дать им имена. В подростке уже заключены все элементы, которые при смешении не могли произвести иного человека, чем тот, кем ты оказываешься сегодня.
Каждой человеческой судьбе предпослано откровение, но, как и в христианском Откровении, пророчества становятся понятны не ранее, чем их прояснят события. Бордо напоминает тебе о той поре жизни, когда тебя окружали знамения, но ты не умел их истолковать. Родной город нежно дотрагивался до больных мест у тебя на теле и в душе, чтобы предупредить тебя и обезопасить от судьбы: он упражнял тебя в одиночестве, молитве, отречении. В предвидении грядущих дней он наполнил тебя нелепыми и милыми лицами, пейзажами, впечатлениями, чувствами, короче, всем, что нужно, чтобы писать.
Ты отплатил ему одними оскорблениями, но он тебя прощает; быть может, где-нибудь на повороте аллеи в Общественном саду он даже собирается поставить тебе бюст, как прочим своим сыновьям, добившимся некоторой известности, например Максиму Лаланну * или Леону Валаду *. Кто-нибудь из парижских друзей твоей молодости, успевший к тому времени поседеть и прославиться, посетит проездом торжественное открытие этого бюста и прочтет под зонтиком свою речь, и его зонтик три секунды помаячит в кинохронике. Потом народ разойдется, и останутся только воробьи, которые усеют твое изображение белыми кляксами, да дети – для них ты всегда будешь просто «домом» при игре в прятки.








