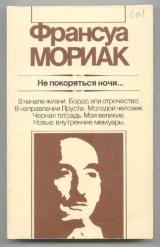
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц)
НОВЫЕ СТРАНИЦЫ МОЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ
Глава I
Книга, о которой я собирался писать, лежит, раскрытая, у меня перед глазами, но взгляд мой скользит мимо страниц. Пластинка, которую я хотел послушать, так и не вынута из конверта. На меня повеяло холодом. Мне страшно... Нет, я не мерзну. И между мной и миром не выросла стена. Но теперь мне было бы достаточно просто жить. Кровь, которая еще приливает к моей руке, лежащей на колене, море, которое бьется у меня в груди, отлив и прилив, которые не вечны, мир, который вот-вот кончится, мир, требующий ежесекундного внимания в эти последние секунды перед самой последней, – это и есть старость.
Отражение жизни... Теперь я ищу его в книгах только по необходимости да потому, что такое уж у меня ремесло – читать и писать о том, что я читаю. И мне странно, что было время, когда какая-нибудь вымышленная история, неправда или полуправда, притворяющаяся правдой, могла отвлечь меня от моего подлинного «я», которое думает то, что думаю я, и у которого осталось очень мало времени, не знаю, сколько именно, знаю только, что совсем мало. Все скоро кончится. Или начнется?
Эта история увлекательнее всех выдумок в мире, и я ей больше никогда не изменю: это она не дает мне поставить пластинку на проигрыватель. Кто бы мог подумать, что наступит день, когда посторонние голоса умолкнут по моей вине, кто бы мог подумать, что я откажусь будить их в любое время, как будил еще недавно!
Если я еще слушаю музыку и продолжаю читать, то только для того, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, чтобы заниматься тем, к чему все за столько лет привыкли; я остаюсь верен однажды избранной религии: ежедневному служению идеям и их словесному выражению, тому, что мы именуем стилем и что является как бы отличительным признаком голоса, его тембром, а также ритму, звучанию, грохоту, который издают пластинки, эти консервы. Мы открываем коробку – все равно какую: с Бахом, Моцартом или Беко *. А вот и книги: классики выстроились по ранжиру, обрезами к стене; новые книги, романы-однодневки, назойливые как мухи, покрывают стулья, ковер – словом, все, кроме книжных полок, где для них все равно не хватило бы места. Потому что в моей библиотеке намного больше книг, чем может вместить моя память, ведь над библиотекой не властен ветер забвения.
Мои собственные книги тоже тут: они прибывают из провинции или из-за границы, переведенные на другие языки; ко многим приложены просьбы об автографе. Я отношусь к ним с особенной ненавистью – той ненавистью, какую вызывает в нас наше собственное лицо, а также вышедшая в свет книга, где уже ничего нельзя изменить – обреченная, если выживет, на вечную посредственность.
Эта стайка мух уже не может отвлечь меня от того факта, что я живу. Ах! Я иду из сада, где любил не сирень, не весну, пробуждающую вдохновение, не террасу, не грабовую аллею, о которой я теперь могу говорить, не опасаясь услышать за спиной шепот и сдавленные смешки одноклассников... Нет, я любил мой холм у вечно пустынной дороги; взобравшись на него, я не глазел по сторонам; наоборот, я был надежно защищен от всего случайного, внешнего. Я вообще не любитель «развлечений». На приглашениях в театры я зачеркивал свое имя в графе «будет присутствовать», испытывая наслаждение при одной лишь мысли, что не увижу и этого спектакля.
Единственное, что теперь важно для меня, – это то, что я родился, жил и живу до сих пор. Эту историю я еще могу рассказывать и слушать. Что прошло, того не воротишь. Остается только одно – этот отлив и прилив крови, к которому я в глубокой праздности прислушиваюсь здесь, на террасе, прижавшись лбом к стволу липы; я поглаживаю ее замшелую кору, напевая что-то, как напевал некогда Морис де Герен, обнимая куст сирени. Наверно, это было в каком-нибудь из парижских садов, в те времена, когда в Париже еще росла сирень; а теперь Париж стал для меня воплощением всего, что утомляет, оглушает, раздражает.
Один молодой поэт, Марк Алин *, сравнивает ту пору жизни, в которую я вступил, с большим домом, светящимся огнями в ночи – и вот гаснет одно окно, потом другое: последнее стихотворение, последний роман, последняя пьеса. Издали кажется, что дом погрузился во мрак и тишину.
Однако в нем по-прежнему горит огонь, по-прежнему бьется сердце. Он полон образов прошлого, он внимает своей собственной истории. Тем не менее придется мне делать вид, что я слушаю истории других людей, а я хотел бы не думать ни о чем, кроме того, что я существую сейчас и здесь. Свет в комнатах погас. Труд окончен, но жизнь продолжается, и вопрос, поставленный жизнью, остается неразрешенным. Конечно, я дал какой-то ответ своим творчеством, но было ли то подлинным ответом?
Из стихов моих любимых поэтов мне достаточно того, что хранит моя память: строки из Бодлера, строфы из «Созерцаний *» – этих нетленных раковин, которые волна выбросила на мой берег и уже не унесет обратно, и еще – короткой горькой фразы Виньи, вечно соленой от слез утраченного детства:
Бог Термин – как и он, застыли мы на грани *.
Я переделываю эту строку из «Дома пастуха» на свой лад:
Человек у черты словно Термин-бог.
Этот бог встает уже не в конце сада, но между небом и землей, на последней дюне.
Море, которое бьется у меня в груди, прилив и отлив... Если бы этот гул, этот шепот не сопровождал меня уже много лет, я бы испугался, услышав его теперь. Это море, грохочущее внутри меня, властно напомнило бы мне о пути, который предстоит мне, быть может, очень скоро, о ладье, которая ждет меня. Но вышло иначе: я привык к этому гулу. Я так сроднился с ним, что больше его не боюсь. Ребенком я не боялся раковины, где прятался этот стон. «Послушай море», – говорили мне. Я прижимал раковину к уху и слышал рокот волн. Теперь, чтобы услышать прилив и отлив, мне не нужна раковина.
Впрочем, тот ли самый рокот звучит у меня в ушах? Пожалуй, этот образ не вполне точно передает то, что свершается в тайниках моей души. Нет, не море рокочет во мне. Скорее, это воспоминание о том, как шелестела трава на летнем лугу много лет тому назад. Во мне звучат не волны, лижущие дюны, а несмолкающий хор сверчков и кузнечиков – все то, о чем Жамм сказал:
Пожар цветущих трав поет во мне.
Я услышал звон цикад; начала одна, ей откликнулась другая, потом третья... Я стоял не шевелясь на раскаленном крыльце, такой жалкий в своей соломенной шляпе; была немыслимая жара. Мне сказали: «Раньше четырех не выходи. Все живое попряталось. Постарайся уснуть». Но я не послушался, я переступил запретный порог, проник в пекло – и вдруг услышал цикаду. Я ее и сейчас слышу.
Да, это она самая. Дыхание земли опаляет мне лицо. Я жадно вдыхаю запах болота. Странно, что теперь, в старости, я больше не чувствую летом, что воздух вокруг меня дрожит. Но кровь моя помнит об этом зыбком мареве и отзывается на него.
Я утратил связь с живой природой. У меня уже не бывает приступов бурной радости. Чтобы расслышать тот несмолкающий шепот, мне надо отыскать его в памяти; чтобы испытать эту радость, мне надо ее вспомнить, прибегнуть к тому, что сейчас называют «шумовым оформлением» – им служит мне не что иное, как ток моей крови.
Я говорю себе: это чудо никогда не существовало, оно – мое создание. Ребенок, который стоит не шевелясь на раскаленном крыльце, – ты его придумал только сейчас. Твоя старость созидательна, она осуждена на творчество: разлученная с миром сущим, она старается догнать мир ушедший. Но догнать его – значит изобрести заново. Шум у меня в ушах озвучивает луга моего детства, которые оглушали меня своим несмолкающий хором. Так в вагоне поезда стук колес сливается с симфонией, которая звучит в моей памяти, или вторит стихотворению, которое я вспоминаю, а быть может, и сочиняю.
Созвучен ли шум, с которым течет моя жизнь (ибо тишины не существует: жить – значит барахтаться на середине журчащего потока, который остановит только смерть), созвучен ли этот гул во мне любой странице партитуры, если прожитую мною жизнь можно сравнить с партитурой? Или, наоборот, этот внутренний гул созвучен только тому шелесту, каким давно-давно встречали меня послеполуденные луга, и связь эта неизбежна? Нет, я не настолько глуп, чтобы так думать. Если шорох жизни сливается у меня в ушах с шумом дремлющей природы, которая спит и видит сны, это означает только одно: минуты, проведенные когда-то во втором часу пополудни на залитом солнцем крыльце, были самыми важными для ребенка, которым я был, и для мужчины, которым стал; потому-то их тема и звучит сегодня громче всех других: я осваивал землю, я жил одной жизнью с растениями, я постепенно проникал в тайну, которая навсегда останется недоступной для городских детей.
Если городской поэт, даже самый великий (я имею в виду Бодлера; впрочем, у него порты и каналы, реки и моря играют ту же самую роль, какую у других – девственная природа), не провел детство в деревенском доме, я сразу чувствую, что ему неведома тайна, которая открылась мне более шестидесяти лет назад. Если за свою жизнь мне и удалось завоевать души некоторого количества верных и внимательных читателей, то лишь потому, что я выразил в скудных словах хоть ничтожную долю этой тайны.
Когда мне случалось с жалостью сказать о ком-либо из товарищей: «У него нет своей земли...», то во мне говорила не буржуазная спесь, но чувство гордости – я гордился тем, что мне повезло и я имею доступ к чуду, которое для других за семью печатями.
С возрастом из этого рая был изгнан и я: в опустевшем парке, куда я изредка прихожу по старой памяти, лужайки превратились в болота, цикады умолкли. Я слышу в ветвях, очень высоко над головой, стоны – что это, ветер? Не знаю, не поручусь. Быть может, это плачут в моем сердце мертвые сосны со сгнившей сердцевиной, поваленные осенними бурями за эти шестьдесят лет, и их стенания сливаются с шумом моей крови, бьющейся о какой-то неведомый риф. [...]
Глава IV
[...] Конечно, я продолжаю писать, так же как продолжаю дышать; и пока сердце мое будет биться, а мозг – работать, привычные слова (ведь мы всегда изъясняемся одними и теми же словами и если бы знали их число, то удивились бы, до чего оно ничтожно) будут слетать с кончика моей авторучки еще до того, как я их кликну, – верные слуги, они знают мои привычки и причуды: ритм, и размер, и созвучия – весь тайный устав, все правила, которым я их подчинил.
Не успею я обдумать страницу, как она ложится передо мной, уже написанная. Я в жизни не владел пером так, как сегодня, когда оно пишет едва ли не само. Литератор-профессионал, каковым я являюсь, уже не думает о своей профессии. Да и где он, этот литератор? Вслед за романистом он исчез за кулисами моей жизни. Остается старый человек, который ничего уже не пытается совершить, ничего не стремится сочинить, который смотрит на себя и слушает себя, словно ожидая, что в сумерках, которые с каждым часом сгущаются, на кончике пера, занесенного над чистой страницей, вот-вот забрезжит разгадка. Вот почему я так легко обхожусь без того, что еще недавно было необходимым посредником между моим «я» и моим «я»: чтения.
Первые «Страницы моей внутренней жизни» – это история о том, как любимые произведения помогают осознать самого себя. Теперь мне хочется убрать с глаз долой эти мутные зеркала, где уже не видно моего лица; ибо лицо, которое по-прежнему живет в них – лицо двадцатилетнего мальчика, – стало мне чужим. Это тому юноше, а не мне, литература казалась зачарованным замком с лабиринтом коридоров; он бродил по нему из комнаты в комнату, и в каждой, абсолютно в каждой была своя спящая царевна. Сегодня для меня все царевны мертвы. Мне уже не разбудить их.
Те, кто прожил жизнь рядом со мной, могут пожать плечами: «Да разве книги не окружали вас всю жизнь! Да разве вы хоть когда-нибудь переставали читать!» На первый взгляд я действительно продолжаю читать, да и писать тоже. Но меня уже не волнуют описываемые события, я ни на секунду не забываю, что эти трагические маски – только маски. Люди, помешанные на театре, кажутся мне помешанными в буквальном смысле слова. Актеры – безумцы.
Я сказал, что все царевны умерли. Да-да, я спрашиваю себя, не вернулась ли в небытие даже Федра? Иначе почему все актрисы, которые тщатся оживить ее, кажутся мне смешными? Все трупы всех последних актов, воскресавшие всякий раз, как я смотрел спектакль или читал пьесу, лежат теперь вокруг меня, и никакая сила не способна вернуть их к жизни. [...]
Когда мне было десять лет, я считал «Камизаров» некоего Александра де Ламота шедевром по причинам, которых мне теперь не понять. Но уже в девятом классе я заметил, что учитель несправедлив, что самые лучшие оценки он ставит кудрявым мальчикам, а моя стриженая голова ему не по душе. «Мужчине красота ни к чему» – это золотое правило плохо утешало нас, когда, смиряя нашу гордыню, нам внушали, что мы уроды. Зато детям так нужно быть хорошенькими! Это открытие я сделал самостоятельно, когда мне было семь лет.
Возвращаясь к книгам, которые любил в детстве, замечу, что позже часто пытался их перечитывать в надежде вновь ощутить прежнее очарование, но напрасно. Дело было не в книгах, а в том школьнике, который их пожирал. Когда он исчез, остался голый текст, слишком ничтожный, чтобы сохранить хоть какой-то след былой прелести.
Отблеск прежнего очарования хранят только те книги, которые хоть сколько-нибудь замечательны в литературном отношении, например «Без семьи» Гектора Мало. Я не видел фильма, поставленного по этой книге, и ни за что на свете не пошел бы на него, но я вновь и вновь погружаюсь в эту чарующую историю: шестьдесят лет назад я перечитывал ее без конца. Старик Руайе-Коллар * сказал Виньи: «Я больше не читаю, сударь, я перечитываю...» Это не столько слова старика, сколько слова ребенка. Дети вроде меня любили уже знакомые книги, они быстро пробегали глазами грустные страницы и долго смаковали радостные. Сегодня я возвращаюсь в роман «Без семьи» как в дом, где прожил много лет: я распахиваю ставни и брожу из комнаты в комнату, из главы в главу, полузакрыв глаза; я узнаю их по запаху. Очарование возрождается – оно ослабело с годами, но не исчезло – и даже усиливается от того, что я каким-то чудом ощущаю его вновь.
Я думаю, что дело тут во мне, что кристаллизация вокруг этой детской книжки происходит у меня одного; но вправе ли я так думать? Стоило бы поразмыслить о другом: теперь только жалкие предметы пробуждают в нас поэтические чувства, в то время как сегодняшние маститые поэты оставляют нас равнодушными – пожалуй, гордиться тут нечем.
Наверно, Гектор Мало немало удивился бы, если бы знал, что имя его останется в литературе благодаря детской книжке. Сентиментальная литература – ведь это целое кладбище, вернее, братская могила! Ибо и нескончаемая цепь условностей, которую авторы именуют своим творчеством, и персонажи, чьи имена четко высечены на мраморных плитах, очень скоро поросли быльем. Те, кому суждено воскреснуть из небытия, уже воскресли, и эта горсточка избранников судьбы почти не пополняется из века в век.
Но Реми, герой романа «Без семьи», бесспорно входит в их число. Первая же фраза первой главы: «Я – найденыш», словно уверенный аккорд, сразу погружает меня в своеобразную симфонию. У меня перед глазами встает потрепанный томик, который я уносил с собой в глубь парка, и надпись карандашом на форзаце, над которой мои братья столько смеялись: «Это очень хорошая книга, потому что я над ней плакал».
Теперь я уже не плачу над ней, хотя она по-прежнему меня трогает. Но мое волнение связано не только с возвращением к истокам, которое так любит старость. Такое же волнение я испытал в прошлом году, когда заново открыл для себя роман Эжена Ле Руа «Жаку-бродяга*. Если герои и тут и там условны и наивны до крайности, то дороги старой Франции в обеих книгах совершенно настоящие, как и снег, которым их заносит, как волки в зловещей для бродяг ночи, как жестокость богачей тех времен и не поддающиеся описанию страдания бедняков – быть может, гораздо более тяжелые, чем у тех, кто беден сегодня (сказать наверняка трудно – слишком уж разного свойства эти страдания).
Я не знаю, что раньше написано, «Без семьи» или «Путешествие двух детей по Франции» * – второе произведение, на мой взгляд, написано слишком лихо. Но дело не в этом – дело в том, чтобы приобщить упивающегося чтением ребенка к тайнам родной земли. Реми считал, что Бордо красивее Парижа. Путь его лежал по течению Гаронны до Лангона, а потом в Ланды, по нашей дороге, через Базаде, мимо парка, где я читал «Без семьи»...
Хотя действие происходило еще до моего рождения, я узнавал каждый поворот дороги среди болот, изборожденной телегами, узнавал все ухабы, по которым тряслась наша колымага. Старожилы вспоминали, что слышали там волчий вой. В Шаранте, в окрестностях Шале, еще встречались волки. Как я любил эти проселочные дороги! Как завидовал погонщикам мулов, которые едут себе всю ночь напролет, полеживая на телеге да глядя на звезды – и так до самого Бордо...
Кто-то сказал, что автомобиль разбудил дороги. Он разбудил их для того, чтобы разрушить. Разрастаясь как раковая опухоль, они съели окаймлявшие их деревья. Первыми исчезли старые вязы. Теперь срубают платаны, и дороги Франции, каждая из которых имела свой привычный и неповторимый облик, скоро сплетутся в однообразную сеть.
Во всяком случае, «магистральные» дороги. Когда по пути к Малагару я, проехав Барбезье, сворачиваю в сторону Шевансо, то внезапно попадаю на настоящие проселочные дороги былых времен; но они так пустынны, что кажутся заколдованными. По заброшенным дорогам моей мечты еще бродят герои романа «Без семьи»: Реми, старик Виталис, обезьянка Душка и собачки Зербино, Дольче и Капи. Подкидыш на перекрестке двух дорог поет для меня одного под звуки арфы, с которой дожди смыли позолоту:
Fenesta vascia e patrona crudele
Quanta sospire m'aje fatto jettare. 1
1Жизнь горестная и хозяйка злая,
Что слез так много у меня исторгли ( Пер. с um. Ю. Корнеева) .
A еще он ищет баржу под названием «Лебедь» и знатную английскую леди (я сразу догадался, что это его мать!), которая возит больного сына по рекам и каналам Франции. Ведь Южный канал начинается почти у самого Малагара, в Касте. Говоря, что «реки – это дороги, которые идут», Паскаль мог бы добавить, что каналы – это дороги, которые спят. Каналы спят, поэтому «Лебедя» госпожи Миллиган тянули на буксире лошади. Кипучая жизнь водных путей сообщения в дожелезнодорожную эпоху...
«Как это, наверно, прекрасно на экране», – говорил я кому-то, кто рассказывал мне о фильме «Без семьи», – история о том, как Реми покупает корову, чтобы сделать сюрприз матушке Барберен...» Но оказалось, что в фильме коровы нет. Какое счастье, что я его не видел! Он мог бы разрушить тот неповторимый, ведомый мне одному мир, где сливаются воедино мое детство и эта древняя земля – такая, какой она была до моего рождения и до появления мотора, этот мир, безлюдье, незримый аромат и тишину которого я еще застал.
Был ли тот мир лучше? Нет, конечно. Но существам определенной породы в нем, пожалуй, легче дышалось. Люди, у которых есть дома радио и даже телевизор, не собрались бы на деревенской площади послушать игру Реми на арфе. В наши дни госпоже Миллиган не пришла бы в голову восхитительная мысль плавать с больным сыном по каналам и рекам Франции. Сегодняшний мир совершенно не похож на прежний – тот живет только в сердце у людей моего возраста. Тем не менее нам случается порой узнать его, оказавшись на повороте раскисшей от грязи и истоптанной стадами проселочной дороги или слушая, как ухает осенней ночью сова, а пес воет на луну точно так же, как во времена, когда в округе рыскали волки. [...]
Глава VI
[...] Боюсь ли я смерти? Да, боюсь. Прожил ли я всю жизнь под знаком этого страха? Да или нет? «Мысль о смерти обманывает нас, потому что уводит от жизни» – это была тема дипломного сочинения на филологическом факультете Бордоского университета в 1904 году. Я ловко доказывал обратное. «Вам поставят либо ноль, либо двадцать», – уверял меня один из преподавателей. Я получил восемнадцать баллов благодаря тому, что хорошо знал Паскаля и ни на шаг не отступал от его построений. Я с удовольствием перечитал бы свое старое сочинение. Но «где сочинения, Владычица вселенной? Увы, где прошлогодний снег!» 1Вероятно, их сразу сожгли. Должно быть, та же участь постигнет и все то, что нам довелось написать потом – дипломные сочинения просто-напросто обратились в горстку пепла чуть раньше всех прочих сочинений.
1Искаженная цитата из «Баллады о женщинах былых времен» Ф. Вийона. – Прим. перев.
Если бы я писал сочинение на эту тему сегодня, оно, наверно, звучало бы по-другому, ибо есть одна истина, которой я не знал тогда и которую знаю теперь: мысль о смерти не обманывает нас, потому что на самом деле мы никогда не думаем о смерти, даже тогда, когда очень стараемся. Быть может, мы умрем, так ни на секунду и не задумавшись всерьез о своем последнем часе. [...]
Наверно, смерть всегда была выше моего понимания. Тем не менее мои покойники ни на мгновение не покидали меня. Они обступали меня со всех сторон, толпа их становилась все гуще. Но те, кто ушел из жизни еще во времена моей юности, до сих пор остаются самыми близкими, несмотря на то, что толпа растет и растет. Думаю, что если память моя однажды начнет слабеть, то те, кто умерли раньше всех, изгладятся из нее последними. Не проходит, пожалуй, ни дня ни ночи, чтобы лица их не мелькнули перед моим внутренним взором хоть на мгновенье: то одно, то другое, одни чаще, другие реже, – причем это далеко не всегда лица самых любимых людей: словно одна лишь принадлежность к моему детству или отрочеству дает им права и даже преимущества; некоторые из тех, кто был мне тогда безразличен, стали мне дороги, так сказать, по зрелом размышлении. Сегодня я воздаю им то, чего они тщетно ждали от меня, когда были живы.
Но память об умерших – это одно, а неотвязная мысль о смерти, о собственной смерти, – совсем другое, словно одна только попытка представить себе нечто, недоступное зрению и неподвластное времени, переносит нас в атмосферу, где невозможно дышать. Человек, думающий о смерти, похож на глубоководную рыбу, которую выбросили на берег. Ах, как хочется поскорее вновь нырнуть в пространство и время!
Поразительно, что с возрастом ничего не меняется, и в старости нам не легче смириться с мыслью о смерти, чем на заре жизни. Что ни день, мужчины и женщины, рядом с которыми мы шли по жизни и с которыми, казалось, ничто не может нас разлучить, уходят от нас, круг их стремительно сужается – но, как ни странно, все это ничуть не помогает нам постичь смерть.
Тем более что смерть так же лихо косила людей вокруг меня, когда я был подростком. Моя мать почти не снимала траур. Сколько крепа уходило в былые времена! Смерть не щадила и молодых, наоборот, они были самой лакомой ее добычей. Теперь о чахотке уже не скажешь «лютейший бич небес», а тогда эта болезнь грозила нам всем. В те времена не знали о целебных свойствах горного воздуха. Целое поколение молодежи мучилось и умирало на берегу моря и под соснами, которые еще сроду никого не вылечили. На долю первой мировой войны остались только те из нас, «кого не погубили легкие», как тогда выражались. Кстати говоря, одному из прислужников смерти, плевриту, случалось промахнуться – он лишь слегка задевал нас и не только не убивал, но, напротив, делал негодными к воинской службе и таким образом уберегал от гибели на поле боя. [...]
Всякий раз, когда кто-либо из моих собратьев по перу отходит в вечность и я говорю надгробное слово, мое представление о смерти скрыто или явно вступает в противоречие со взглядами агностиков и атеистов. Словно от одной агонии до другой, у смертного одра Жака Ривьера и у смертного одра Жида идет одна и та же религиозная война.
Однажды летним утром в залитом солнцем номере гостиницы я услыхал по радио: «Скончалась Колетт». В другой раз, тоже в гостиничном номере, вдруг резко, словно надпись на могильном камне, прозвучало имя Роже Мартен дю Гара. Перед уходом человек кладет руку нам на плечо. К нашему горю примешивается страх – с таким страхом мы прислушивались в детстве к осторожным шагам на лестнице. Камера людей, родившихся в прошлом веке, пустеет, и нас, пишущих в ожидании того, как раздастся наше имя и придет наш черед встать, осталось уже мало.
Мартен дю Гар... Братья-соперники, мы редко встречались, но внимательно следили друг за другом. В определенном смысле он ничего мне не спускал, потому что, как я уже говорил, между нами шла религиозная война: я думаю, он не испытывал ко мне ненависти, со своей стороны могу заверить, что не питал ее и я. Нас разделяла непреодолимая преграда: мы дали разные ответы на вопрос, с самого начала вставший перед нами, вопрос, который мучит писателя, родившегося, как мы оба, в христианской стране, в буржуазной и консервативной семье: будешь ли ты покорен? или восстанешь? «Жан Баруа» был первым ответом молодого Мартен дю Гара, а «Семья Тибо», которую этот отпрыск крупной буржуазии писал книгу за книгой, со скрупулезной добросовестностью, подкрепленной безукоризненным мастерством, явилась неопровержимым обвинением, которое он предъявил своему классу. В чем-то мы с ним схожи: в социальном и политическом плане мы вели себя одинаково, война, шедшая между нами, была, повторяю, войной религиозной.
Исчерпывающее представление о ней дает спор, который возник у нас после смерти Андре Жида. Речь шла о последних словах Жида. Профессор Делэ спросил его: «Вы страдаете?» А Жид (цитирую по памяти) отвечал: «Да, эта вечная борьба между тем, что доступно разуму, и тем, что ему недоступно...»
Я не утверждал, что эти слова имеют метафизическое значение, я просто высказал такое предположение. У Жана Делэ, слышавшего их своими ушами, не было на этот счет никаких сомнений. И тогда Мартен дю Гар ринулся в бой.
Этот инцидент проливает свет на борьбу, завязавшуюся вокруг Жида в кругу основателей «Нувель ревю Франсез» *, где было столько умов, осененных благодатью: Жамм, Дюпуэ, Геон *, Ривьер, Копо *, Дю Бо *... В отличие от своего учителя и друга Роже Мартен дю Гар всегда избирал то, что «доступно разуму». Их связывала непохожесть: как плющ, как вьюнок, Жид обвивал этот основательный и здравый ум, верный натуралистической манере письма. Ученик внимательно читал и строго судил рукописи учителя. Взамен учитель помог ему сохранить то, что в этом кругу зовется свободой суждения. Хронология очень важна, а у меня сейчас нет никакой возможности точно выяснить, когда они познакомились, до или после выхода «Жана Баруа» *. Но так или иначе, мировоззрение Жида могло – в той или иной степени – повлиять на мировоззрение Мартен дю Гара. Взгляды Жида не исчерпываются имморализмом: сам он немалую часть своей жизни прожил в высшей степени добропорядочно. Мартен дю Гар славился такой беспристрастностью, что служил для нас образцом неподкупной суровости. Но сколько, оказывается, было в нем страсти! Сколько недоверия к христианам, особенно перед лицом таинства смерти! Помню мрачные споры у смертного одра Жака Ривьера: у Мартен дю Гара выходило, что католики всегда начеку, потому что думают только о том, как бы вписать лишнее имя в свой список. Мы и вправду все время думаем о своей смерти и о смерти тех, кого мы любим, но дело тут вовсе не в желании католиков поставить на своем: ведь для верующего этот переход решает все, ибо в этот миг его осеняет благодать.
Не знаю, существует ли более бескорыстное чувство. Конечно, у постели умирающего друга мы думаем и о себе: одинокий, в луче света, невидимого другим, человек проходит в эти часы испытание – испытание своей веры. Свет был дарован миру, а люди отвергли его – может статься, они его просто не заметили? Почему же они не заметили его? Ах, должно быть, я, обвиняемый в янсенизме, не из тех, кто с легкостью соглашается войти в горстку избранных.
Я уже сказал: я свято верю, что каждого из нас в последние минуты жизни осеняет благодать. Вот почему последние слова Жида так важны для меня. Вечное царство любви или вечное ее отсутствие – вот перед каким выбором стоит, в глазах верующего, всякий умирающий. [...]
Глава VII
...Что такое счастье? Существует ли оно вне нас, если мы несчастливы? Весенним утром, когда туман напоен ароматом сирени, когда над головой трижды призывно кричит удод и – если дело происходит в воскресенье – в опустевшей деревне негромко звонит колокол, все вокруг дышит нежностью и радостью. Но разве радость и нежность только во мне? А разлитая повсюду неосязаемая чистота, а безбрежная девственность? Разве эту девственность создает мой взгляд? Мы живем в такое гнусное время, когда гибель грозит всему роду человеческому. Переживет ли нас весна? Если она – порождение моего сердца и ума, то, разумеется, нет. Если на Земле, единственной среди миллионов планет, возникло то сочетание тепла и материи, которое мы зовем природой, родились случайно те тела, окрашенные в зеленый, голубой и охряный цвета, сочетание которых не менее случайно, то, быть может, все дело в нас, в том, что это мы вносим в мир порядок и гармонию, дочь нашего разума. Каким художником предстает тогда самый последний варвар! И даже больше, чем художником, – богом: слабым, нежным, страдающим, способным вселять в свое творение скорбь, которой бог не ведал бы, если бы не воплотился, если бы не испытал предсмертных мук в саду на пасху – в то самое время года, что стоит сейчас, когда я пишу эти строки. И апрельская ночь леденила кровь, потому что Симон Петр отрекся от Него во дворе первосвященника, у костра, зажженного легионерами и служанками *.
Пожалуй, только вместе с нами пришли в божий мир щемящее сожаление об утраченном детстве, нежность, которой мы навсегда лишились, наконец, любовь, которая для многих была, возможно, не чем иным, как неутолимой жаждой.
Если бы спящая ночь не была полна молчанием Тристана и Изольды *, если бы скамья, где они переживают тот блаженный миг, после которого остается только умереть, навсегда опустела, если бы мужчина и женщина исчезли из мира – в ночи остались бы лишь тьма и небытие. Я вижу, что значит человек для ночи, я вижу, что без нашего страстного сердца даже самая нежная ночь была бы ужасна. Но ясность весеннего утра ставит другой вопрос: мы знаем, что чистота его не в нас. Она существует сама в себе, сама по себе, но ищет своего выражения.
Она ищет своего выражения. Пожалуй, именно по этой причине нам чуждо абстрактное искусство: я утвердился в мысли, что мир нуждается в нас, и человеческое искусство есть выражение этой необходимости. В юности я был уверен, что, когда состарюсь, сумею избежать разлада с современностью, сумею не брюзжать на новые времена, но надо признать, что мне это плохо удалось – под конец жизни я ворочу нос от современного искусства. Природа, которую я так любил, похожа на спящую красавицу, но уже нет надежды, что поцелуй какого-нибудь художника или поэта пробудит ее от этого зловещего сна. Абстрактное искусство свидетельствует, что человеку нечего сказать, нечего выразить, нечего запечатлеть – недаром он отворачивается от мира, такого, каким его видит взгляд ребенка... Впрочем, какой смысл говорить о том, что никого, кроме меня, не волнует?








