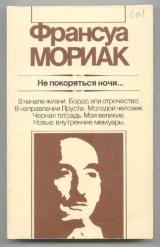
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 38 страниц)
1Ж. Расин. Сочинения. М., «Искусство», 1984, т. 1, с. 273—274. ( Пер. Э. Линецкой.)
Так я задумал «Нелюбимых», где запретил себе всякое воспроизведение атмосферы, кроме тех случаев, когда это диктуется страстями действующих лиц. Хотя пьеса долго пользовалась успехом у публики, а за рубежом дала Клариону случай сыграть одну из лучших своих ролей, должен признаться, что отклики критики показались мне в целом чересчур суровыми. Помнится, один из моих юных зоилов * попрекнул меня буржуазностью обстановки, в частности мебели с обивкой, руководствуясь, видимо, свойственным нынешней молодежи убеждением, что непременным условием сценической поэтичности, как они ее понимают, является перенесение действий в Афины или в семейство Агамемнона. Мне, конечно, было бы нетрудно развить сюжет «Нелюбимых» на материале древнего сказания и с помощью Атридов *, как это делали мои современники от Кокто до Жироду и от Ануя до Сартра, несомненно надеясь, что их творения разделят бессмертие с освященными мифом героями, которыми эти авторы воспользовались по примеру стольких знаменитых предшественников.
Перенеся действие во французскую буржуазную среду примерно 1935 года и отказавшись от поэтического климата мифологии, я хотел доказать своим критикам, а заодно и самому себе, что мои персонажи – живые существа, что они достаточно осязаемы, чтобы обойтись без всего, чем их облекает романист, и что поэтичность есть, в известном смысле, эманация чувств, которые их обуревают. Это мне, пожалуй, отчасти удалось, поскольку со мной говорят о г-не Кутюре и любимых дочерях г-на де Вирлада так же, как о Терезе Дескейру, – как о живых людях.
Другой целью, которой я задался, работая для сцены, был поиск того, что можно назвать театральным стилем. На мой взгляд, многие пьесы, написанные перед прошлой войной, забыты именно потому, что им недоставало стиля, что их отличала «несделанность» в высоком значении этого слова. Здесь трудность можно резюмировать так: нужно, чтобы действующие лица говорили на разговорном языке и у зрителя складывалось впечатление, что он слышит те же слова, какими пользуется в повседневной жизни; вместе с тем при чтении каждая реплика должна, хотя и ненавязчиво, свидетельствовать об искусстве литератора. В театре я стремлюсь к тому, чтобы заставить зрителя забыть о моем писательском мастерстве, иначе, слушая пьесу, он будет твердить: «Ах, опять литературщина!» Но я запрещаю себе добиваться подобной простоты употреблением жаргонных слов и варваризмов, которыми большинство людей пользуется в повседневном обиходе. Точный и свободный, но чистый слог, о котором я мечтаю, – это разговорный язык, обнаруживающий при чтении достоинства языка литературного.
«Лукавый рядом» * – выдающаяся пьеса, если судить по прессе, которую она получила. Во всяком случае, прорвавшись через самую плотную и частую завесу заградительного огня, какая когда-либо ставилась в театре, она благополучно обогнула мыс сотого спектакля, и это, как мне кажется, даст ей право на более детальный разбор.
Заявляю, что в одном важном пункте я согласен с теми из моих критиков, кто упрекал меня за Эмилию Тавернас, представляющую собой то, что называется «схемой», то есть не живой образ, а нечто надуманное. В «Асмодее» я показал г-на Кутюра за его колдовскими занятиями так, что читатель присутствует при его кознях и видит, как он плетет свою паутину вокруг г-жи де Бартас, Мадмуазели, Гарри Фэннинга, Эмманюэлы; сегодня, когда я изображаю Эмилию Тавернас как одну из слабых душ и в то же время пленниц своей слабости, он должен верить мне на слово.
Всю свою молодость Эмилия находила удовлетворение в том, что берегла для себя одной те души, над которыми господствовала, и вдруг на нее обращает взор мужчина, от которого она пытается уберечь одну из своих овечек, мужчина, непохожий на остальных, первый, кто понимает ее, судит, говорит ей: «Мы одной крови» – и пробуждает в ней силы, извращенные и подавленные ею. Но таким натурам, как она, не дано изменить себя, даже когда они решаются на это. Почему? Быть может, благодать не отпускает свою добычу? Или природа Эмилии, ставшей пленницей своих антипатий и предубеждений, не позволяет ей повернуть обратно, сколь бы далеко она ни продвинулась по стезе зла? Как обычно, я оставляю вокруг Эмилии Тавернас обширную зону неопределенности.
Эмилия и Бернар, две концепции любви, которые противостоят друг другу и каждая из которых испытывает, так сказать, притяжение другой... Бернар верит лишь в то, что видит и осязает; для него обладание другим существом, короче, наслаждение не нуждается в оправданиях; ласки, в его глазах, никого не оскверняют, и противны ему только люди, не изведавшие их; зато первой женщиной, силу которой он ощущает до боли отчетливо и перед которой склоняет голову, оказывается ненавистница плоти Эмилия, чье стремление господствовать проявляется исключительно в сфере духа. И точно так же эта женщина, которой претят реальности любви, покоряется первому зову мужчины, живущего лишь ради обладания другим человеком и утоления плотского голода. Тем самым каждый из двух любовников изменяет себе, поддаваясь обоюдному и одинаковому очарованию того, что они всегда ненавидели и с чем всегда боролись.
Изменяет всего на одну ночь. От себя не убежишь. Эмилия встретила Бернара в тот час, который нередок в жизни христианина, – в час, когда верующий устает от своей веры, от того, что он олицетворяет собой для окружающих, и не в силах больше быть тем, кем восхищаются, кому подражают, кого любят за то, во что он, может быть, еще верит, но уже только по привычке... А что такое вера без любви? Эмилия хочет отказаться от роли, играть которую ей приходится под давлением своих подопечных. Но сгубить себя дано тоже не каждому.
– Совесть – болезнь, от которой не излечиваются, – говорит ей Бернар.
Эмилия бросается в пропасть, но безуспешно: та как бы отталкивает ее. Искренне ли раскаяние Эмилии? Не думаю. Она смотрит на себя с отвращением, чувствует себя оскверненной, но это отнюдь не раскаяние. Плотская любовь никогда не станет для нее просто физиологическим актом, как для Бернара. Это больше не зависит от нее.
– Мне придется, – стенает она в последнем действии, – изменить свои убеждения, мысли, вкусы, все, вплоть до черт лица, в соответствии с моделью, которую вы мне навязываете.
Кое-кто из моих друзей сожалеет о первом варианте пьесы, где Эмилия в последний момент избегает падения. На мой взгляд, такая критика была бы оправданна, если бы Эмилия уехала с любовником. Но мне кажется, падение, не приведшее к связи, лишь подчеркивает невозможность для нее уйти от второй натуры, которую исподволь взрастили в ней привычка руководить другими, вкус к власти и страстное желание влиять на людей личным примером. Однако Эмилия возвращается к прежней жизни не такой, какой оторвалась от нее. Теперь она знает, на что способна; даже ее падение было, вероятно, всего лишь случайностью... Но что сказать о радости, которую она, по собственному признанию, испытала при мысли об Аньес, дважды преданной ею и корчащейся за дверями? Плотский грех неизменно обнажает в человеке иные, более сокровенные бездны, о которых он сам не подозревает. Здесь, вероятно, и отыщется щелка, через которую благодать вновь низойдет на эту гордячку, потому что, если верить псалмопевцу, бог больше всего любит сокрушенных сердцем.
Бернар тоже и в еще большей степени выйдет изменившимся из столкновения с Эмилией, ибо навсегда останется под обаянием того, что, как ему казалось, ненавидел. Чем решительней противостоит ему Эмилия, тем больше он поддается ее очарованию. Христианская совесть, с его точки зрения, – зло, но именно она придает цену Эмилии Тавернас, первой женщине, которую он не бросает, получив от нее то, чего хотел, потому что у нее есть душа, а душой этой он не обладал: вот почему он никогда не забудет Эмилию и до последнего вздоха останется одержим мыслью о ней.
Во вступительном слове, прочитанном перед премьерой «Земли в огне» в лионском «Театре целестинцев» 12 октября 1950 года, я указал, чего добивался в четвертой своей пьесе:
«Пытаясь объяснить публике свое произведение, драматург очень рискует показаться претенциозным и смешным.
Мне думается, однако, что вы останетесь несколько разочарованы, если я не скажу ни слова о «Земле в огне». Не следует слишком долго упрашивать Оронта заговорить о своем сонете *. Не стану, уподобляясь ему, хвастаться, будто сочинил свой сонет, то бишь свою пьесу, за каких-нибудь четверть часа, хотя, действительно, потратил немногим больше трех недель, чтобы зафиксировать первый ее вариант на бумаге.
Говоря об этой драме в четырех действиях, замечу прежде всего, что сюжет ее очень непрост. Вообще «колючие» сюжеты – моя специальность. В пьесе, как вам уже известно, речь идет о брате и сестре. Наша литература знает не один пример таких прославленных пар. Меня всегда поражало место, которое занимали многие француженки в жизни своих братьев, и влияние, которое они оказали на судьбу последних. В число этих благородных девушек я и ввожу свою героиню. Ничто плотское не оскверняет страсть, сжигающую ее. Уходя со спектакля, все вы, надеюсь, согласитесь, что в этом отношении «Земля в огне» свободна от всякой двусмысленности.
Блез Паскаль испытал такое сильное воздействие своей сестры Жаклин, что мы ничего не поймем в биографии этого несравненного гения, хоть на минуту упустив из виду эту неуступчивую девушку, чистую, как ангел, и гордую, как демон. На заре прошлого столетия другая такая же пара, окропленная пеной бретонского моря, – Франсуа и Люсиль Шатобрианы – возвещает и, в известном смысле, открывает эпоху романтизма. Мы знаем, чем был Эрнест Ренан для своей сестры Анриетты, принесшей ему в жертву свою молодость; нам известны перипетии духовной борьбы, которую вела эта странная девушка, чтобы отнять брата у церкви и вернуть миру; мы в курсе того, сколько тревог и слез стоил ей знаменитый брат.
Если уж быть совсем точным, то замысел этой пьесы родился у меня в Кел а , бедном лангедокском замке Эжени и Мориса де Геренов. Перечитывая пресловутый «Дневник» Эжени, который, как вам известно, целиком посвящен культу ее замечательного брата, той самой Эжени, что вместе с тем отдала всю себя богу и была чуть ли не святой, я нередко задавался вопросом: какой женщиной стала бы Эжени де Герен, не будь она благочестивой девушкой, не пропускавшей ни одной заутрени и изо дня в день питавшей себя мыслями о боге? Где она взяла бы силы согласиться на брак Мориса и не возненавидеть свою юную невестку Каро?
Из этого вопроса родился образ Лоры. Ей, незамужней, бездетной, обожающей брата, целиком сосредоточенной на заботах о нем, суждена одна участь – стать разрушительным началом в его жизни. Тем, кто читал мои романы, вспомнится здесь «Прародительница», где изображена сходная драма – сын, снедаемый матерью. Спустя двадцать с лишним лет я все еще одержим подобными сюжетами, описанием тех краев без дорог, какими являются безысходные на первый взгляд страсти.
Кстати, «Край без дорог» – подзаголовок моей пьесы. Но пусть меня поймут правильно. «Без дорог» еще не значит «без границ». Если для Лоры нет выхода из своей страсти, из пустыни, на жизнь в которой она обрекает себя, то нет лишь потому, что у нее не хватает сил или решимости пересечь границу и проникнуть в царство благодати.
В конце первого действия одной фразой, вложенной в уста подростка, я показываю, что судьба Лоры все-таки не безысходна. Развить эту мысль мне не позволили требования сцены. Жан Луи Барро писал мне однажды по поводу «Земли в огне», что он находит эту вещь слишком мрачной, что Кафка – и тот не столь безысходен: он ведь заканчивает свои книги вопросительным знаком и вообще «не полностью замкнут». Жан Луи Барро не понял, что Лора тоже не замкнута. Любая оптимистическая развязка была для меня исключена, коль скоро могла показаться произвольной и присочиненной задним числом. Но пьеса продолжается и после того, как занавес опущен, поэтому никто не мешает вам надеяться, что в один прекрасный день Лора выберется из лабиринта, где затерялась. Чтобы не отчаяться самому и не счесть мою пьесу приводящей в отчаяние, следует все время помнить одну истину: как ни глуха тюрьма, куда ввергает человека страсть, у него все равно остается ключ, который властен отпереть ему двери темницы и дать вернуться к богу или к людям, потому что путь к ним ведет и к Нему. Этот ключ– милосердие.
– Но в вашей пьесе нет ничего подобного!
Что тут ответишь? Всякий раз, когда я завершал книгу оптимистической развязкой, критики бросали мне упрек в том, что я испугался скандала, и объявляли придуманный мною финал никуда не годным. Самое печальное – что они почти всегда оказывались правы. Не подобает насиловать свой дар. В жизни я человек вовсе не отчаявшийся, но как автор не склонен воспевать надежду. Нас, писателей, право же, стоит пожалеть: никому ведь не придет в голову попрекать живописца его манерой. Никто не упрекал Греко за то, что он писал как Греко, Мане – за то, что он писал как Мане. Персонажи, которых я представляю вам сегодня, не могли быть изображены иначе, как в моей «манере».
Прошу наконец признать для них смягчающим еще одно обстоятельство: «Земля в огне» была написана летом 1949 года, когда я со своей террасы видел гигантские пожары на всем горизонте от департамента Ло и Гаронны до предместий Бордо. Тот, кто немного знаком с моим творчеством, знает, что все, написанное мной, глубоко уходит корнями в почву моего родного края. Огонь, пожиравший у меня на глазах сосны моего детства, превратился во всеиспепеляющую любовь Лоры, а действующие лица пьесы на фоне пурпурных декораций Поля Колена * кажутся обугленными соснами на фоне рыжего неба моей осужденной на сожжение Гиени, которая одновременно была и костром и жертвой. В заключение должен добавить, что не все мои герои столь уж черны и что я противопоставил Лоре юное, нежное и простое существо, супругу и возлюбленную, в которой могут узнать себя многие наши женщины.
Когда я писал «Землю в огне», меня опять потянуло к своему настоящему ремеслу, и я принялся обдумывать «Обезьянку» и «Галигаи». В свое время я отказался от этих замыслов, но скорее в силу обстоятельств, чем по собственной воле. Я и сейчас недоумеваю, как это я сумел в первые недели оккупации написать «Фарисейку» с такой лихорадочной поспешностью, словно хотел в последний раз высказать себя в романе, прежде чем меня скроет мутная волна, накатившаяся на нас. В последовавшие за этим мрачные годы мне ни на минуту не пришло желание взяться за художественное произведение, а ведь досуга у меня, видит бог, хватало! Я отлично понимал, что самое лучшее для меня было бы уйти в вымысел, создать воображаемую страну, где я забыл бы о зловещей действительности. Но для меня это оказалось невозможным. Я наблюдал и выжидал, сосредоточив все внимание на трагедии, переживаемой нами и миром.
После освобождения меня целиком поглотила журналистика. Жизнь с каждым днем все сильней вторгалась в мое одиночество. Чтобы писать романы, нужна уверенность, что впереди у вас месяцы уединения и покоя, в первую очередь – внутреннего покоя. Вы не должны участвовать в драме общественной жизни. Не скажу, что в смысле нагрузки журналистика так уж изнуряла меня: сами статьи отнимают не слишком много часов, зато голова вечно забита мыслями, чуждыми искусству. Переписка, визиты, всяческие хлопоты без остатка съедают вас. Ни одно действующее лицо романа не может родиться в хаосе, царящем у вас в душе, в однообразной сумятице политики и повседневных дел, которыми вынужден заниматься журналист. Повседневная суета – враг вымысла, реальность убивает фантазию.
Если после освобождения мне удалось все же написать две театральные пьесы, то лишь потому, что первый набросок трехактной вещи можно зафиксировать на бумаге за короткие отпускные дни. Конечно, потом его придется без конца отделывать, но вам хватит на это немногих часов досуга – вы ведь будете работать с тем, что уже сделано, с основой, которую можно заткать за несколько недель. Следует также заметить, что театральная пьеса чаще всего представляет собой историю непродолжительного кризиса, не требующую от автора столь же полного отключения, как роман, который охватывает много лет, пейзажей, действующих лиц и широко разрастается во времени и пространстве.
С точки зрения литератора, одно из главных преимуществ романа перед театром состоит в том, что мы остаемся в нем единственными хозяевами своего произведения, принимая на себя всю ответственность за его судьбу. Никто здесь не имеет права контроля, кроме нас. Мы одни в ответе за него перед людьми и богом. Это мир, принадлежащий нам. Разумеется, каждый читатель переделывает роман на свой лад, подгоняет его под свою мерку, но мы не знаем об этом и не присутствуем при насилии, которое чинят над нашим детищем те, кто проникает в мир романа извне. А вот чувства неловкости за пьесы, выставленные и отданные на суд публики, я никогда не мог преодолеть.
И еще одно: пьеса, которую мы видим в театре, не бывает такой же, как мы ее написали. Она может стать лучше, если вам повезет, как часто везло мне, и ее будут исполнять превосходные актеры. Но, даже выигрывая на сцене, наше произведение оказывается в значительной степени чужим, как я уже писал в связи с «Лукавый рядом». Говорить, что роль создается актером, не совсем, пожалуй, правильно; однако не подлежит сомнению, что он ее воплощает, а если берется за нее после другого актера, то и перевоплощает. Как в индуизме, наши создания проходят ряд последовательных метаморфоз, в которых мы лишь с трудом узнаем первоначальный образ, рожденный из нашей живой плоти.
Вновь и вновь воскресая на наших глазах, этот образ и остается самим собой, и перестает им быть. Автор, естественно, живо заинтересован в том, чтобы присутствовать при очередном перевоплощении своих персонажей: в этом залог их постоянного обновления. Но несмотря на радость, которую доставляет мне практика театрального искусства, и доставляет прежде всего потому, что омолаживает меня – я ведь старый романист, но очень молодой драматург, – сердцем я все же тянусь к своему первому ремеслу. Как прекрасен замкнутый, мир романа, куда имеют доступ лишь те, кто любит этот мир, еще не проникнув в него, потому что он открывается лишь перед безвестными друзьями, которые выбирают в книжной лавке именно ваш роман из сотен других!
Но для чего, в конце концов, колебаться между романом и пьесой? Выигрыш всегда за писателем, который не специализируется на чем-то одном, а пользуется всеми формами и техническими приемами искусства, чтобы дать жизнь героям, носимым им в себе. Литературные жанры отнюдь не разделены пропастью, напротив, они взаимосвязаны. Нет крупного романиста, который не был бы в потенции поэтом и драматургом. Великие деятели театра всегда умели вдохнуть сценическую жизнь в персонажи не меньшей, чем в романах, сложности. Поэзия, роман, театр – все это различные формы, через которые выражает себя неповторимый дар – способность создавать вымышленные существа, более живые, чем многие из живых, потому что они никогда не умрут, если зовутся Федрой или Порцией, Отелло или Гамлетом, г-жой Бовари или Сваном.
ЧТО ДАЛ РОМАНУ ФРЕЙД
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ «БОСТОНОК» *
«Бостонки», роман Генри Джеймса, последним переведенный на французский язык, – одно из ранних произведений писателя, очень увлекательное и, по правде говоря, более доступное для понимания, чем его зрелые романы; тем не менее я не думаю, что исходя из него можно составить верное представление о созданном этим писателем своеобразном мире, который, как мне кажется, остался непостижим для Марселя Пруста, хотя Джеймс и может быть назван предшественником Пруста в XIX веке.
Однако чтение «Бостонок» вновь поставило передо мной вопрос: что дал роману Фрейд? Выглядят ли произведения, написанные до рождения фрейдизма и до создания «В поисках утраченного времени», поверхностными и банальными на фоне тех, что пришли им на смену, тех, где царит секс и где все разновидности любви заявляют о себе в полный голос?
Если верить аннотации на вкладыше, Генри Джеймс хотел показать нам группу бостонских феминисток; перед нами 80-е годы, когда эмансипация была в большой моде. Сознаемся, сегодняшнему читателю все это малоинтересно, и если роман приковывает к себе наше внимание, то дело тут вовсе не в феминизме.
Что происходит в «Бостонках»? Олив Ченселлор, богатая старая дева из буржуазной семьи, привязывается к юной Верене, стоящей ниже ее на социальной лестнице, но обладающей чудесным даром слова. Олив решает использовать дар своей юной приятельницы для пропаганды феминизма. Весь роман – история этого ревнивого владычества. Верена в полном смысле слова попадает в когти Олив – хищной самки, ненавидящей мужчин и яростно защищающей от них свою прелестную добычу; особенно опасен для нее один из поклонников Верены, широкоплечий южанин, который в конечном счете и одерживает победу.
Но странно вот что: писатель не говорит ни единого слова о сексуальной стороне конфликта; в романе нет ни одного, пусть даже самого завуалированного, намека на нее. Речь постоянно идет о страстной дружбе, которая ничуть не смущает ни ту, что испытывает приливы страсти, ни ту, что их вызывает. Страсть эта никого не шокирует и не возбуждает толков ни в Бостоне, ни в Нью-Йорке. Никому и в голову не приходит ничего дурного касательно этой пары. Короче говоря, создается впечатление, что автор по невинности своей слыхом не слыхал о Гоморре, – более того, что он жил в мире, которому этот порок был совершенно неведом. Викторианское общество, в котором жил Генри Джеймс, понимало в буквальном смысле слова апостола: «Вам не пристало говорить между собою об этих вещах». И дело тут было не в добродетелях этого общества, а в его лицемерии.
А если бы в «Бостонках» шла речь об «этих вещах», если бы Олив Ченселлор не была столь добропорядочна или если бы, не преступив границы приличий на деле, она тем не менее осознала бы странность своих склонностей, что тогда? Стал ли бы роман от этого глубже? Сложный вопрос, на который в двух словах не ответишь. В этой статье я ограничусь постановкой проблемы. Факт остается фактом: «Бостонки» – это созданное целомудренным пером подробнейшее описание сомнительного соперничества юноши и амазонки, борющихся за обладание юной девушкой. Феминизм же, естественно, Служит ширмой не только для героев, но и для автора, а также для его англосаксонских читателей 1886 года. Благодаря этой условности мы узнаем все то омерзительное, что могут если не натворить, то хотя бы ощутить, став участниками подобной драмы, две порядочные женщины и один не менее порядочный мужчина.
Пожалуй, есть основания утверждать, что освещение сексуальной стороны их отношений не только не обогатило бы роман, но, напротив, обеднило бы его и что всевластие секса является, быть может, одной из причин деградации романа как жанра. Тут мне, конечно, возразят, что это всевластие оказалось гибельным только для традиционного психологического романа, уже исчерпавшего себя, для искусства же повествования в целом секс стал источником чудесного обновления.
Это вопрос спорный. Лично я склонен думать, что, сводя все к сексу, мы все упрощаем и обрубаем самые корни романа, ибо разрушаем систему тех табу в душе человека и во внешнем мире, в обществе, а особенно в лоне семьи, которые восстают против страстей и против этой страсти в первую очередь.
«Говорите только от имени писателей вашего поколения, – возразят мои молодые коллеги. – Мы все это переменили. Разговоры о всевластии секса в романе – пустые слова. Секс царит в романах постольку, поскольку он волнует наших героев – а это уж от нас не зависит, более того, это не наше дело; ведь мы знаем о своих героях только то, что можно извлечь из их жестов, их слов и окружающих их вещей. На примере «Бостонок» вы можете утверждать только одно: в крепко сбитом традиционном психологическом романе, где автор описывает человека и снаружи и изнутри, четко очерчивая его контуры и по своей воле наделяя его определенным характером, соображения сексуального порядка отступают на задний план и без них вполне можно обойтись. Художник делает со своей моделью все, что ему заблагорассудится: одевает ее по своему усмотрению и направляет на нее свет, после чего дает сигнал к началу драмы, в которой ей уготована роль жертвы».
Эти слова вымышленного писателя молодого поколения помогают нам понять, в чем своеобразие позиции Генри Джеймса, творившего на рубеже двух эпох. Большой поклонник его таланта Грэхем Грин сказал, что «его основной целью всегда была драматизация» – это указывает на родство автора «Бостонок» с создателями классических романов. Однако затем Грин продолжил свою мысль: «Джеймс всегда с особой тщательностью избегал высказываний от своего собственного лица...» В этом он предвосхитил современную литературную технику.
Впрочем, мы ушли далеко в сторону от интересующего нас вопроса: на пользу или во вред романисту идет всевластие секса в романе? Было бы весьма любопытно рассмотреть эту проблему на примере творчества двух авторов, очень разных, но в равной мере связанных с Содомом и Гоморрой – Андре Жида и Марселя Пруста.
Роман Пруста всегда казался мне художественно совершенным лишь в первых частях, поскольку начиная с «Узницы» сексуальная опухоль, прежде не столь очевидная, выходит на поверхность, разрастается и в конце концов если не разрушает подлинное лицо всех героев, то искажает его, так что невредимым остается только автор, встающий над развалинами своего великолепного романа и спасающий его.
Что же касается Андре Жида, то теперь, когда его уже нет среди нас и мы можем бросить взгляд на его творческий и жизненный путь в целом, мы ясно видим, до какой степени обеднила его романы и его жизнь проблема, волновавшая его в первую очередь. На фоне гетеанских претензий Жида эта непреодолимая низкая страсть выглядит особенно смехотворно.
Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что эстетика не существует без этики. Мастерство необходимо человеку ничуть не меньше, чем художнику. Стань хозяином своей жизни – и ты станешь хозяином собственного творчества.








