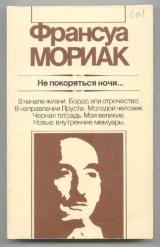
Текст книги "He покоряться ночи... Художественная публицистика"
Автор книги: Франсуа Мориак
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Альсест *
Заблуждаются те, кто полагает, что для роли из классического репертуара существует одно-единственное законное толкование. В каждом из нас живет несколько разных людей, и то же самое происходит с персонажами вымышленными.
А потому г-н Эме Кларион, новый исполнитель роли Мизантропа в Комеди-Франсез, был вправе акцентировать то, что в характере Альсеста неизменно затушевывалось: это слабый человек, обреченный на поражение при всех своих бурных вспышках; натура, которая привлекает нас своим добрым сердцем при всей наружной колючести и бессмысленной ожесточенности, но возвышенные порывы которой не выдерживают испытания. Чтобы заинтересовать нас этим мнимым величием, чтобы пойти наперекор традиции, восходящей к самому Мольеру, требовалось немногое: всего-навсего то главное достоинство лицедея, которое сводит воедино все самые разнообразные его дарования и которое именуется уверенностью в себе.
Во всяком случае, неожиданное освещение, в котором предстает перед нами Альсест в новой постановке Комеди-Франсез, наводит на множество размышлений, невзирая на все погрешности в игре. Никогда еще не было для меня столь очевидно, что этот несносный ворчун, который похваляется тем, что вызывает «весь род людской на бой» 1, в сущности штурмует один-единственный бастион – как раз тот, который представляет меньше всего значения и интереса и который он может атаковать в свое удовольствие, ничуть при этом не задевая самого себя.
1Ж.-Б. Мольер. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М., 1957, с. 64. ( Пер. Т. Щепкиной-Куперник.)
Миг, в котором живет Альсест, дает честному человеку и христианину немало оснований если не возопить, то хотя бы вопросить самого себя – Альсест же ополчается лишь против самых безобидных его обычаев, против лжи того рода, от которой никому нет вреда, но которая необходима в светской жизни. Его приводят в негодование пересуды, но ведь они затрагивают лишь мелкие недостатки, не вскрывают тайных пороков и вызывают всего только смех. Живя в мире, где несправедливости хоть отбавляй, где преступники повсеместны, он ратует лишь против мелкой сошки. Его не ужасает то, что действительно может привести в ужас, – и прежде всего собственное «я»: все его нападки всегда направлены на других, себя он сравнивает с ними лишь для того, чтобы убедиться, что он-то лучше. Его уверенность в собственном превосходстве смахивала бы на глупость, если бы не его возраст, о котором в этом случае не следует забывать. Но разве не свойственна ему некоторая ограниченность?
То, что подспудно клокочет в творениях Паскаля и Лабрюйера, не нашло бы в душе Альсеста никакого отклика. Он не страдает из-за положения человека в современную ему пору. Несправедливость задевает его, лишь когда обращена непосредственно против него самого, и он обрушивается на судей, лишь когда речь идет о его собственном деле. Другие люди – вне пределов двора и столицы – не занимают ум этого юного дворянина; он ставит под сомнение не законы государства, не догмы религии, а только законы и догмы узкого круга, где живет Селимена, молодая вдова, из-за которой он так несчастен; потому что гнетут его именно они.
На самом деле трогает его одна-единственная неправда, потому что лишь она одна причиняет страдания нашему баловню судьбы: это ложь, принятая в свете, ложь, ставшая обычной в отношениях между мужчиной и женщиной. Впрочем, не будь он влюблен, он бы над этим смеялся. Но он любит и, несмотря на все свои притязания, не уверен, что ему отвечают взаимностью. Это-то и сближает Альсеста с любым из нас, роднит его с нами; ибо ничто так не свойственно всякому человеку, как потребность знать, любим ли он той, кого любит; действительно ли при всех видимых знаках благоволения, которыми дарит Селимена его соперников, предпочитает она все-таки его, как сама уверяет.
Комический эффект, который производит фигура Альсеста, рождается оттого, что мы следим за тем, как влюбленный натыкается повсюду на блестящую и твердую поверхность лжи, на светский лед, на условность речей и телодвижений – весь этот этикет, смысл которого в том как раз и состоит, чтобы скрывать истинные мысли, сдерживать непосредственные реакции, не давать воли первому порыву. Но очень скоро вспышки Альсеста, мечущегося, словно загнанный кабан, перестают смешить зрителя, так как они отвечают мучительной потребности узнать правду любой ценой, а мука эта ведома почти всем, – вот почему два последних акта «Мизантропа» звучат почти трагически, вот почему красота их отмечена грустью.
Достойно внимания, что Мольер тут затрагивает тему, которая больше всего занимает современных романистов – и у нас, в частности Пруста. Для Альсеста драма состоит не только в том, что он не знает, любят его или нет; ведь на самом деле и почти до самого конца пьесы Селимена сама не уверена в своих чувствах к нему; лишь тогда, когда она отказывается последовать за Альсестом к нему в глушь, она вдруг осознает, что не любила его. Ревнивое дознание, которое неустанно ведут беспокойные натуры из той же породы, что Альсест, оказывается бесплодным не из-за того, что любимая лжет, как им воображается, но из-за того, что она сама не знает, каковы ее истинные чувства.
В действительности светская ложь, против которой восстает Альсест, прикрывает другую ложь, более глубокую и самую существенную для нас: то, что Пруст называл перебоями сердца. Все несчастье Альсеста, того Альсеста, который живет в каждом из нас, проистекает из потребности в абсолютной истине, которую вносим мы в любовь – чувство, в высшей степени отмеченное относительностью. Альсест в бешенстве отвергает все попытки Селимены уклониться от прямого ответа, он жаждет обрести твердую почву в Стране Нежности, которая по природе своей – царство зыбкости; и как раз потому, что это царство зыбкости, это истинное царство Селимены.
Ей-то привольно дышится только в этой атмосфере, где нечем дышать Альсесту. Она терпеть не может выбирать, отвергать, объясняться напрямик. Она хочет быть уверенной лишь в одном – что любима. Блаженное состояние, но длить его уже не в ее власти, потому что мужчины ненавидят неопределенность, расплывчатость, которыми она упивается. Свора влюбленных не позволяет ей продолжать игру, ей больше не одурачить их увертками. Ревнивцы вступают в сговор, чтобы снять с нее личину. Но после того как личина будет сорвана и кокетка посрамлена, Альсест – там, у себя, в глуши среди лесов, – все еще будет ломать голову над загадкой, ключом к решению которой никогда еще не владел никто, даже сама Селимена.
Когда после пятого акта опустится занавес, человеку с зелеными лентами, укрывшемуся в деревне, не останется даже безрадостной определенности, которая позволила бы ему сказать себе: «Теперь я хоть в чем-то уверен; раз она не пожелала последовать за мною сюда, в глушь, стало быть, мне дано неопровержимое доказательство – она меня не любит». Нет, сомнения все еще будут донимать его, потому что закон относительности в любви не всегда действует против нас. Быть может, Селимена, покинутая друзьями, думает о нем, единственном, кто все ей простил, единственном, кто внушал ей столько же уважения, сколько нежности. Едва Селимена безмолвно покинет сцену, как примется оплакивать Альсеста – теперь, когда она осталась одна и утратила его навсегда. И может быть, именно теперь, когда Альсест полагает, что узнал Селимену до конца, он мог бы сделать свои самые прекрасные открытия... Но если он согласен уехать к себе в глушь без нее, разве это не доказывает, что она уже занимает у него в мыслях меньше места и что это он начинает охладевать к ней? Она уже не так дорога ему как его любимый конек, как эта выгодная поза врага рода человеческого (причем род человеческий сводится для него к нескольким салонным трещоткам и нескольким попугаям, кропателям сонетов).
Мизантроп, которого показал нам г-н Эме Кларион, этот юный брюзга, красноречивый, но чуть вяловатый, не без основания возмутил критиков – если исходить из того, что за каждой ролью стоит традиция, которой актер обязан придерживаться; и надо признать, что эта точка зрения представляется единственно возможной, когда традиция восходит как в данном случае, к самому Мольеру. Но, с другой стороны, неоспоримо, что трактовка, предложенная г-ном Кларионом, если и расходится с общепринятой, то, по нашему суждению, соответствует подводным течениям в характере Альсеста, хотя, быть может и не того Альсеста, которого задумал Мольер; но великие создания человеческого гения обладают свойством жить собственной жизнью, неподвластной намерениям автора и не ограниченной их пределами.
Впрочем, отношение Альсеста к любви, отнюдь не умаляя его в наших глазах, волнует нас тем сильнее, что, следя за горестными перипетиями его судьбы, мы ни на миг не забываем о личной драме самого Мольера *; Альсест успокаивает нас, мы говорим себе: «Таким он и был, вот сокровенные тайны его сердца, вот так он страдал...» Но ведь в отличие от Мизантропа Мольер-то не был молодым дворянином, живущим в праздности: переутомленный, измученный комедиант, он остается выше всего того, что смешит нас в юном Альсесте. У Мольера, создателя целого мира, в который он вдохнул жизнь, страдание Альсеста обретает трагизм.
И нам приходится напомнить себе об этом, чтобы примириться с некоторыми другими его пьесами, такими жесткими, такими горькими и, осмелимся на признание, такими низменными, вроде этой «Школы мужей» *, которую Комеди-Франсез тоже снова поставила недавно – и поставила с блеском; в этой пьесе лживость и коварство женщины в схватке с животным деспотизмом мужчины являют самое унизительное зрелище, которое я когда-либо видел, такое, что, когда смеешься над ним, хочется не плакать, нет, а краснеть от стыда. Страшная вещь – цинизм людей с любящим сердцем – с любящим и поруганным сердцем: таков нередко цинизм Мольера.
Сонное царство
Едва вошли – одна, две, три порции коктейля подряд, чтобы побыстрее оглушить себя, и сразу же затем шампанское. Но, бывает, этого оказывается мало, чтобы отбить у людей охоту разговаривать, особенно в Париже, где, слава богу, многие сохранили верность стародавней привычке блистать в беседе и острословить: людьми этой породы некогда восхищались как «записными краснобаями». Здесь, в этой специфической среде, о которой пойдет речь, джаз вынуждает их прикусить язык.
Алкоголь придает лицам всех этих людей, молодых и старых, какую-то взвинченность, странное оживление – в нем отсутствует душа. Эти люди отрешились от какой бы то ни было духовной жизни, по крайней мере с виду ведь в глубине каждого из них душа все-таки живет, но в оковах и с кляпом во рту. Порою она прорывается наружу беглая улыбка на мгновенье божественно озарит чье-то юное лицо, склоненное к плечу, затем угаснет. Эти мимолетные проблески воскресшей жизни – редкость у женщины: над лицом так потрудились, что оно больше не отвечает душе, душа не может больше на нем отразиться. Как им не по себе под разрисованной маской, которая то и дело приходит в беспорядок и которую нужно непрерывно подправлять. Но эта пожилая особа, выкрасившая себе волосы в синий цвет (оттенок точь-в-точь как у медного купороса, которым я опрыскиваю виноградные лозы), эта особа может танцевать спокойно: нельзя себе представить, чтобы под ее завитками цвета индиго появилось выражение отчаяния или хотя бы тревоги.
Создается впечатление, что все эти существа, оглушенные джазом, с виду словно бы равнодушны друг к другу. Может быть, тех, кого они любят, здесь нет? Да, для многих, наверное, оно так. Может быть, они пришли на этот бал, чтобы отделаться от какого-то хмеля, от боли, непривычной людям их круга, от неведомого очарования, от отчаяния, источник которого не здесь. Счастье свое они должны скрывать. Оно прячется в другом мире, антиподе этому, – в мире, где лица не знают грима или размалеваны так грубо, что любимому существу под этим гримом не спрятаться.
Но много здесь и таких, которые любят друг друга и встретились на этом празднестве. Здесь они предаются животной радости – быть вместе, не нуждаясь в словах с их ложью, не испытывая саднящей и жестокой тревоги, которую вызывает самое Незначительное слово, слетевшее с любимых уст. Счастье встречи они обрели в чистом виде, как нечто существующее само по себе: не нужно больше ни объяснений, ни рассуждений, алкоголь избавляет их от всего этого, да оно и невозможно под джаз. Они покончили с тревогами дознания, цель которого – постичь истинную сущность любви, что ты внушаешь, и сравнить ее с любовью, что ты испытываешь. Все это было сплошной литературой и больше им не нужно. Театр потому только и умирает, что общество, отражением которого он является, тоже агонизирует.
И сон этот – сон по доброй воле, намеренный: это коллективный отказ от духовной жизни. Наш мир устал от страданий, дошел до предела, ему невмоготу Высшее блаженство, к которому стремятся очень многие, – блаженство, достигаемое в небытии; но к этому надо приспособить и любовь: главное – добиться, чтобы она не сопровождалась мукой, о которой говорит Марсель Пруст: «Как хватает у людей мужества желать жизни, как можно хотя бы пальцем двинуть, чтобы уберечься от смерти в мире, где любовь порождается одной только ложью и состоит всего лишь в потребности излечиться от страданий с помощью существа, их причинившего?»
От этой-то горести и пытаются отделаться люди определенного круга в наши дни. Алкоголь, которым они умеют, если можно так выразиться, злоупотреблять в меру, приобщает их к безмолвию; но не к тому живому безмолвию, при котором мысль продолжает свою работу, и даже не к безмолвию твари бессловесной, задумчиво жующей жвачку в темном стойле. Нет, это род полусмерти: боль как будто притупилась, отчаяние не подпускает к себе, но оно бродит поблизости, оно здесь, дышит за дверью...
Самец и самка, сидя рядом, пьют и молчат и не знают друг о друге ровным счетом ничего, даже возраста (возраст – больше не проблема: все внешние признаки старения побеждены, старость гложет женщин изнутри, она стала внутренней болезнью).
Эти люди открыли, что источником всех их страданий было любопытство, лишающее покоя два сердца, что стремятся друг к другу, но бьются не в унисон, так что даже перебои не совпадают; и потому они отказались от попыток прийти к уверенности, что им отвечают взаимностью. Чего ради до умоисступления задавать вопросы, если ответ всегда сомнителен; эти любовники покончили с извечным «Ты меня любишь?» Они отказываются от утешительной лжи. Они не знают никаких подробностей о чувствах своих партнеров, и это их устраивает; более того, им неинтересны даже их собственные чувства. Девиз «познай самого себя» *, по их мнению, тлетворно подействовал на мир. Можно подумать, что отныне в знак протеста против всяческих Фрейдов и Прустов любящие хотят одного: сблизив головы, в один и тот же миг склонить их, словно под единым ярмом, к поилке в виде стойки бара – никель и красное дерево.
Но есть все-таки нечто, чему большинство этих людей придает значение, и немалое: их очень заботит оформление их мирка: ведь оно должно поддерживать блаженное состояние «небытия». Голые стены, по которым скользит взгляд, на которых нет ничего, что могло бы пробудить мысль, вызвать раздумья, навести на рассуждения, – голые эти стены отражают свет, яркий (исключающий какую бы то ни было таинственность) и в то же время приятный для тех, у кого глаза слипаются, а сердца безучастны. Этот современный стиль при всей своей четкости и экономности вопреки общепринятому мнению отнюдь не всегда является выражением молодого, делового, трезво мыслящего общества; иногда стиль этот – нечто вроде раковины, которую творит вокруг себя мирок людей, в полном смысле слова одурманенных: в такой раковине неплохо спится.
Чудовищная спячка: те особые представители рода человеческого, которых я здесь описываю, успешнее, чем кто бы то ни было, обороняются от бога, от постижения той муки, которая для многих была некогда и навсегда останется начальной причиной обращения к богу. Отныне чего ради этим несчастным со стенаниями искать выхода? В отупении они обрели некую разновидность покоя, хоть она, наверное, губительнее, чем то бессонное напряжение, которое порождает страсть, пусть даже преступная. Счастливы те, для кого любовь все еще – «меч, пронзивший сердце», как сказал Клодель, те, кому не удается уснуть.
Страничка из записной книжки
Семидесятилетнее тело, втиснутое в слишком узкий костюм; тощая спина; голова выбрита наголо, отполирована, щеки лиловатые, в прожилках; рот страшен – за сжатыми губами сложная конструкция из старческих зубов и мостов; глаза мутные, недоверчивые, шныряющие; встретив мои, он отводит их, – таким предстал передо мной X. Он накинулся на Z, который, по-моему, моложе, но болен, лопается от нездоровой тучности. В бурном восторге – точь-в-точь две собаки, обнюхивающие одна другую, – оба хлопают друг друга по спине, придерживают за плечи и величают «председателем». Видимо, в жизни обоих были случаи, когда они взаимно внушали страх, оказывали взаимные услуги. Теперь между ними не осталось ничего, кроме спокойного благодушия, порождаемого презрением.
Самый дурной христианин, если в нем жива хоть капля веры, приходит в ужас от того, что слышит в свете. Вчера Л. воскликнул по поводу смерти А. в автомобильной катастрофе: «Умереть неожиданно вместе с любовником, какой прекрасный конец!» На другом краю стола Н. говорил: «Н-да... На эти обеды являются женщины, которым некуда деваться. Так что игра беспроигрышная. Вечер тянется долго, редко случается, чтобы он не завершился самым приятным образом...» Как беспощадны люди!
Л. полагает, что подонки и есть сливки общества.
Пятидесятилетний говорит ей: «Взгляните мне в лицо, видите, как оно истрепано...» Она, завороженная, не сводит с него глаз, незрячих от страсти, глаз, которые ослепила любовь. Может быть, ее удалось бы расколдовать каким-то словом, наложением рук? Есть люди, которые самим своим существованием совершают преступление по отношению к другим.
Власть, которую мы даем другому человеческому существу, позволяя ему мучить нас. Но разве мы даем ему эту власть? «Кто сделал тебя моим властелином? Кто сделал тебя моим палачом?» Это миссия, возлагаемая на людей богом: он велит своим творениям служить крестами друг для друга.
На площади Нации, среди взметнувшихся вверх кулаков Народного фронта, вдруг ощутить себя человеком, который не успел толком очнуться от собственной драмы, от своей вечной революции, от внутреннего своего бунта.
Смерть – единственное мое приключение, которого я не прокомментирую...
В неосвещенной спальне все зазубрины человеческого существа сглажены тьмою. Не видно ничего, кроме взгляда и той части лица, что необходима, чтобы различить взгляд, – подобно тому, как морю необходима песчаная полоса, гребни дюн. Точно так же эта единая упрощенная линия, соединяющая надбровную дугу с переносицей, отграничивает целый океан: тут и мысль, и нежность, и мечта.
ДНЕВНИК III
Сиеста
Полчища мух гудят, словно людская толпа, гул этот напоминает гул мятежа или моря: меж ветвями деревьев и небом повисла жалоба тварей, не одаренных разумом.
Час сиесты, пора, когда человеку не под силу противиться сну. Нужно вернуться в дом, ощутить щекою прохладу кретоновой подушки на диване. Но я уехал из Парижа всего двое суток назад, и он еще гудит во мне полчищами своих мух: они налетают на меня справа и слева – патриоты, что не слишком любят родину, пацифисты, что не слишком любят мир, бумагомаратели, понуждающие логику служить их страстям, богословы, подвешивающие преступление на цепь из силлогизмов.
Не думай об этом больше. Фруктовым деревьям вокруг старого дома, который так любили те, кто давно в могиле, в этом году потребовались подпорки – настолько ветви их отягчены персиками и сливами. Гроздья винограда уже приподнимают и раздвигают листья, опрысканные купоросом, и мягкий ветерок приносит мне их запах; это благоухание прогретого солнцем виноградника в моих воспоминаниях неотделимо от пылкой грусти летних каникул в ту пору, когда мне было семнадцать лет.
Тогда я не знал, что существует нехитрое доступное счастье. Сердце разрывается, когда ощутишь вдруг, как я сейчас, ощутишь почти до осязаемости, что люди могли бы быть счастливы – счастьем, которому, может быть, грозили бы опасности, которое было бы пронизано тревогами и страданиями, но и радости и испытания – все было бы по мерке человека.
Несчастье, грозящее нам сегодня, нам уже не по мерке. Несколько человек запрещают нам жить нашей истинной жизнью. Кто эти люди? Это те, кто делает вид, будто воплощает дух господства, присущий якобы их расе, воплощает ее волю к власти. И действительно, гордыня их вызывает брожение в послушной массе, подобно тому как закваска поднимает тесто. Бесчисленным полчищам юношей, мечтающим лишь о забавах, куске хлеба, любви и работе, а совсем не об империи, они навязывают непомерные цели; скромное и простое человеческое желание подменяют своими безумными и чудовищными бреднями.
Как странно, что судьба целой нации зависит даже не от воли – от настроения одного-единственного человека! Перепады настроения какой-то одной личности, даже самые мимолетные, навсегда вписываются в историю народа. Так прожорливая Германия вдруг прочно связала себя с тощей Италией.
Прогони эти мысли, этих мух, мешающих уснуть. Дай отдых голове и сердцу. Пусть неумолчное гуденье лета завладеет тобою, укачает тебя, усыпит до той поры, когда тени станут длиннее. Приучайся спать в пекле, чтобы сегодня ночью сон не сморил тебя до времени. Ведь даже с наступлением сумерек духота не проходит. Долгое время спустя после того, как бог Аполлон скроется за тремя крестами Верделе, черепица и кирпич еще пышут жаром, и помилования дождешься, лишь когда подует первый ветерок, добравшийся сюда из неведомого влажного рая.
Ты приляжешь в саду, с той стороны, где еще осталось несколько старых вязов, уцелевших после великой гекатомбы последних лет. Их облысевшие кроны словно возносят мольбы к северным созвездиям. Подумай же о том, что твои желания, твое негодование, твои сетования так же не властны изменить ход событий в это краткое мгновение отпущенного тебе срока, как не властны изменить ход светил искривленные сучья последних вязов, тянущиеся к обеим Медведицам.
Великий голод *
Вот и зима пришла – на эту зиму мы обеспечили себе мир. Да, у нас в распоряжении есть четыре месяца, а то и пять, на то, чтобы заниматься своим ремеслом, своими детьми, вести свою немудрящую человеческую жизнь. Весною мы снова примемся подсчитывать наши самолеты и беспокоиться, как там у нас с противогазами. И может быть, мы снова спасем мир, сунув «что-нибудь» Минотавру – что на этот раз мы швырнем ему в пасть? Что остается у нас после Австрии, после Чехословакии? * Есть ли еще что-нибудь, что утолило бы великий голод? Сей великий голод в самом центре Европы, ненасытность чудовища, которое нам приходится кормить – и которое мы до сих пор кормили плотью и кровью других... Когда не останется больше ни испанцев, ни абиссинцев, ни австрийцев, ни чехов, чем кормить нам, скажите на милость, сию священную римскую империю германской нации, которая выросла, как гриб, под заботливым оком высокомудрых дипломатов и великодушных государственных мужей Антанты?
Об этом надо спрашивать человека, который всегда голоден, скажете вы мне. Так и сделаем; в апреле или в мае английский или французский «премьер» снова предпримет паломничество в Берхтесгаден *, дабы вопросить оракула, ответ коего нам известен заранее. Он будет краток и ясен: «Отрежьте себе руку».
Музыка
Оглядываясь на свое детство, замечаю, что все оно было безотчетно пронизано музыкой – посредственной в коллеже, получше дома: у моей матери был прекрасный голос, меццо-сопрано, она пела Шуберта, Шумана, немного Вагнера и мелодии Гуно, некоторые из них («Вечер», «Соловей») сохранили свою колдовскую власть надо мной и поныне способны воскресить погубленный рай.
Мать говорила обо мне: «Из всех моих детей он один немузыкален...» Я верил ей на слово. Считалось, что у меня нет слуха. И хотя в потаенной моей жизни пение – и домашнее и школьное – значило много, я все же не осознавал собственной глубокой любви к музыке. Когда сорбоннские ученые мужи отводят убористо набранные страницы с бесчисленными примечаниями источникам вдохновения кого-нибудь из писателей, они, думается мне, вряд ли принимают в расчет такие вот источники – малоприметные, но наиважнейшие и ведомые одному только художнику. Когда мне было десять лет, моя мать певала арию из забытой оперы Гуно «Сен-Map» *, а братья мои и я подхватывали хором, сидя на пороге жаркими августовскими вечерами: «Ночь безмолвная в звездном сиянье... Глубины твоей очарованье...»; и ария эта куда больше, чем все книги, причиной тому, что я был из числа тех детей, для кого ночь – живая и дышит.
Если позже, когда детство осталось далеко позади, я решил, что не люблю музыки, то лишь потому, что неохотно бывал на концертах и стыдился скуки, которую там испытывал, хоть ее и озаряли порой проблески радости. И тут существенную роль в моей жизни сыграли граммофонные записи. По тем же самым причинам, по которым клянет их Жорж Дюамель * (зная музыку досконально, он не нуждается в этих «консервированных мелодиях»), я благословляю их, так как по милости этого чуда проникаю с каждым днем все дальше в неисследованный рай.
Благодаря проигрывателю мне стало ясно, что за скуку я принимал стесненность, которая в концертном зале порождалась сотнями мелких причин – тут и невозможность вытянуть ноги, и запах толпы, и лица людей, и щелкающие звуки, когда раскрывают сумочки или складные лорнеты, и суета опоздавших... Так вот, неловкости этой в помине не было, когда я сидел у себя в знакомой до мелочей комнате, наедине с музыкой, которую выбрал сам, в соответствии с тем настроением, которое было у меня в этот вечер. Потому что и тут тоже крылась одна из причин моей нелюбви к концертам: программа никогда не предлагала мне того, что я хотел бы услышать.
Я говорю о проигрывателе. Но сколь многим я обязан радиовещанию! Чего только не говорилось о постыдном уровне наших программ. Но радио – чудовище, которое нужно изучить: я нашел к нему подход. Я миную всех шансонье, все романсы, все танго, все словопрения, ни разу не забрызгавшись. Зажмурившись и заткнув уши, я бросаюсь в самую гущу неизбывной европейской пошлости, тысячеустно извергающейся, и устремляюсь к той или иной станции – немецкой, английской, австрийской – «осой, летящею на лилию в цвету».
Царство радио начинается ночью, особенно если вы остались в одиночестве старой гостиной в деревенской глуши и вокруг стоит безмолвие, как перед концом света. Все злые силы земли и воздуха в оковах. Я в Малагаре, и мне слышно, как дышит этот музыкант в Штутгарте, до меня доносится шелест переворачиваемого листа партитуры, и вдруг для меня одного в сердце ночи расцветает трио Моцарта или квартет Бетховена.
Я в доме своего детства, потускневшее зеркало отражает мое лицо – такое, каким оно бывает, когда я один. Мне вспоминаются насмешливые слова Кокто о «музыке, которую слушают, обхватив руками голову». Я волен обхватить голову руками, волен заплакать, растянуться с закрытыми глазами, замереть, отдаться многозвучным волнам; и когда они отхлынут в паузе меж двумя частями, само безмолвие кажется полным жизни, сама ночь сдерживает дыханье.
Мне довольно этих незабываемых часов (в Париже они выпадают очень редко), чтобы простить радио вседневную его низменность. По милости этих часов старость меньше пугает меня; грядущее одиночество кажется не таким уж страшным. Сама смерть подходит ко мне, словно домашняя тварь, и ест у меня из рук.
Искусство и народ
Лишь очень немногие литераторы умеют писать для детей, потому что у большинства о детстве самые нелепые представления. То же самое и с народом: при демократии поклонники народа обращаются с ним, словно с каким-то божеством, которое не вышло еще из детского возраста и, как они полагают, ровным счетом ничего не смыслит А посему они малюют ему на потребу примитивно яркие картинки, льстящие страстям, которые ему приписывают и которые он оставляет в гардеробе, едва переступив порог театра.
В театральном зале народ – понятие несуществующее, либо же все мы там – народ. Там, в этом зале, Шекспир, Корнель, Расин, Мольер, Мюссе создают на время равенство меж людьми – равенство смеха и слез. И то и другое не составляет привилегии какого-то одного класса. Разница состоит единственно в том, что народ поддается слезам и смеху легче, чем всякие умники, и не прячется в отличие от них за баррикадой из чужих мнений.
В восемнадцать лет я улыбался и пожимал плечами, когда по окончании «Травиаты» в бордоском Большом театре раек разражался овациями и топал ногами от восторга. Сейчас я считаю, что был дурнем, а галерка выказывала верный вкус, поддаваясь очарованию восхитительной музыки.
Я с недоверием отношусь к театральному спектаклю, который недоступен народу: ведь в театре шедевр всегда народу по плечу; и даже в отношении книг... Я не мог бы поклясться, что среди буржуазии писатели находят больше сведущих читателей, чем среди других классов. Наши светские читательницы далеко не так многочисленны, как мы, льстя себе, полагаем или как они изволят внушать нам. Один писатель, продававший недавно свои книги на благотворительном базаре, развлекался, перехватывая взгляды некоторых дам, которые, проходя мимо его книжек, ускоряли шаг и отводили глаза: выражение их, недоверчивое и отрешенное, было точь-в-точь как у собаки, которую пытаются угостить мандарином. Достаточно опубликовать книгу, которая по какой-то внелитературной причине выйдет за пределы круга, состоящего из шестидесяти тысяч постоянных читателей, верных «модным романистам» (как именуют нас, когда хотят оскорбить), и тогда мы замечаем, сколько есть людей, которые хоть и знают грамоту, но о существовании книготорговцев не ведают Так, например, я получил несколько вполне грамотных писем, где меня просили выслать по указанному адресу мою «Жизнь Иисуса», обязуясь оплатить расходы: этим людям и в голову не пришло заглянуть в какую-нибудь книжную лавку. Возможно, они ни разу в жизни не переступали ее порога.
Не очень-то густо населен невидимый град, где обитают те, кто вглядывается в собственное сердце и ищет его отражение в книгах! Вот для этого-то народа мы и трудимся, и народ этот образуют студенты, буржуазные дамы, учителя, священники, водители такси, герцогини: целый народ, любой представитель которого вовсе не ждет от нас, что мы будем описывать людей его класса, и испытывает к созданным нами персонажам еще больший интерес оттого, что не имеет случая встретиться с ними в своей повседневной жизни; возможно, самое существенное для него – найти в наших произведениях самого себя; но для него важно найти там и тех, кто с ним не схож.








